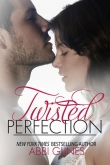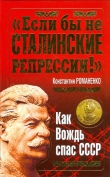Текст книги "Читая маршала Жукова"
Автор книги: Петр Межирицкий
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
44. Интерлюдия. Мотив чистки: страх…
… объявший Сталина, когда, встав прекрасным полднем – хищник не переносил дневного света, зашторивал окна, ложился под утро и вставал заполудень, – он понял, как высоко взобрался и как далеко и жестко ему падать. Этот страх тяжко отразился на жизни страны.
То же испытал и Гитлер, глянув в бездну своих деяний. О сдаче, капитуляции, отставке речи быть уже не могло.
Пиша горестный этот комментарий к мемуарам Жукова, то и дело ловишь себя на том, что это не что иное, как сравнительное жизнеописание двух злодеев.
Один взял власть в стране индустриальной, с населением, привычным к милитаристским настроениям. Уставшая от экономической разрухи, униженная Первой Мировой войной, отторжением территорий и послевоенной оккупацией Рура, страна была готова к реваншизму.
Другой оседлал страну с населением, говорившим на разных языках. с окраинами, местами полудикими, местами с культурой более древней, чем германская. Усталая, беспорядочно разоренная революцией и Гражданской войной, прицельно терроризированная вождем, страна казалась идеальным объектом для приложения германских сил на пути к заветному Тибету.
Гитлер во всех анналах признанно числится маньяком. Маниакальность Сталина отвергается, поскольку он не топал ногами.
При рассмотрении мотивации поступков следует учитывать, что сильные патологии относительно редки. Еще реже наложение нескольких патологий. Но тогда-то, к сожалению, и получаются деятели истории. Обычный человек взвалит ли на себя ответственность за деяния с неясным результатом, вовлекающим весь миропорядок? В стране, находящейся в глубоком кризисе (в таком находились в двадцатые и СССР, и Германия), приход к власти сильной личности важен и нужен, это подлинно может быть спаситель отечества. Но может оказаться и злодей. Вопрос везения. К сожалению, не повезло тогда ни немцам, ни русским.
В России революционный, а там и более кровавый сталинский террор вызвали у населения гражданский ступор. Люди перестали быть гражданами и поднимали руки послушно, поняв, что выбора нет.
В Германии канва гражданской покорности была иной. Гитлер в ореоле Мюнхенского "пивного" путча явился единственным защитником чести побежденной и поруганной нации. Герой войны Геринг стал посредником между Гитлером и контролировавшим власть рейхсвером. Все выглядело законно, даже чопорно. Гитлер шел с лозунгами, которые многих сбили с толку. Голосовали за него даже евреи, имущие, конечно. Они считали, что антисемитизм Гитлера напускной, дабы привлечь голоса люмпенов. Дескать, придя к власти, ничего подобного он делать не станет. Тем паче, что продвигает его такой человек, как престарелый фельдмаршал Гинденбург, национальный герой с незапятнанной репутацией.
Цивилизованный народ беззащитен, если к власти приходит маньяк. Цивилизованный народ этого не ждет. Вскоре, однако, граждане обнаруживают, что втянуты в конфликт с совестью, даже с человечеством, но – поздно. Лозунги – это пройденный этап, и новый правитель владеет таким аппаратом подавления и использует такие методы, что заложниками становятся семьи потенциальных храбрецов. Маньяки научаются террору уже в процессе борьбы за власть, но обыватель, покоя своего ради, скрывает от себя истинное положение вещей и террор предпочитает считать признаком силы правительства и его способности поддерживать правопорядок. Когда дело коснется его самого, он обнаружит, что порядок надо срочно менять. Но – права у него уже нет…
(Эта ошибка многих застала и многих застанет врасплох. Счастье, когда новое движение заявляет о себе зверски в международном масштабе. Это, по крайней мере, предохраняет от иллюзий. А зверство внутри страны – что ж, это признак здоровой силы и способности контролировать ситуацию.)
Гитлеру у власти докучала группа старых друзей, штурмовиков во главе с Ремом. Они переоценивали свои заслуги и позволяли себе то, что Гитлер, возможно, стерпел бы, как приватное лицо, но не мог терпеть, как фюрер тысячелетнего рейха. Тем паче перед лицом армии. Имелись и другие тонкости, в них нет смысла вдаваться. Как бы то ни было, фюрер решился устранить соратников. Но решился не без колебаний: все же товарищи по партии, это прецедент, в экстремальной ситуации он даст основание покушаться и на него. Гитлер осуществил "Ночь длинных ножей" и до развала рейха правил единолично, да притом так, что даже первый разоблачитель его, Германн Раушнинг, не называл Гитлера диктатором.
Не то Сталин. Он не был канцлером, всего лишь генсеком. И не было еще пункта в конституции, что руководящей и направляющей силой страны является коммунистическая партия. Болтали о диктатуре пролетариата, так и не объяснив, что это – пролетариат, определения коему не дал ни Маркс, ни Ленин, ни тем паче Сталин. Генсек еще не стал официальным главой страны, а его методы на том этапе вызывали возражения жестокостью, казавшейся попросту неумной.
Действия его не были неумными. Они преследовали иную цель. Не построение социализма в СССР, а построение личной диктатуры. Ширма диктатура пролетариата прикрыла деспотию Сталина.
Верный ученик Ленина к террору приучен был всем опытом жизни. Террор позволен лишь в борьбе с классовым врагом? Но что мешает объявить классовым врагом друга? Если враг не сдается, его уничтожают. Если сдается, его все равно лучше уничтожить, так спокойнее. Смешно, но действия Сталина характерны для поведения самца приматов, добившегося власти в семье и живущего в страхе потерпеть поражение от молодого самца. Там до убийства не доходит, обезьяны все же гуманнее, чем гомо сапиенс, просто потерявший власть самец горилы или шимпанзе умирает от сердечного заболевания, не в силах перенести унижение.
Диктатура пролетариата! Никаких конкурентов ни в какой сфере!
Высылка Троцкого дала жупел. Ярлык "троцкист" превращал живых и деятельных людей в мишени. В них стреляли без колебаний. Сталина не устраивало смещение оппозиционеров с их постов. Ни даже заключение в тюрьму. Горец, выросший в далеких от цивилизации понятиях мести, он не был спокоен, пока враг жив. Хороший враг – мертвый враг. То же друг врага, родственник, единомышленник или даже некто, получивший свой пост или чин из рук врага.
Врагом Сталина стал весь народ.
Нэпман имел деньги и был независим – долой НЭП. Крестьянин растит хлеб и продает державе, а остальным распоряжается сам – лишить его и земли и хлеба, выморить голодом, превратить в батрака. Рабочий – работай! Служащий – служи! И всем – славить вождя! Славить злейшего врага…
Десятилетия спустя современники вождя, чьи жизни изуродованы бесцельной жестокостью, станут выходить на демонстрации с портретом деспота, увенчанным надписью "Прав во всем!". Глупость? Нет, объяснимый парадокс: прожив такие жизни, пожертвовав удобствами, молодостью, здоровьем, люди не могут, не в состоянии признать, что все это было бессмысленно. Тем паче, что и впрямь не все. Вне Бога, на абстрактных идеалах современной цивилизации было воспитано несколько поколений романтиков, моральные качества которых не имеют равных в истории человечества. Эти люди и их потомки кое-где еще живы сегодня и несут память о войне, как о великом деяним народа. Народа, не Сталина!
Если народу нужен кумир, я бы скорее предложил в кумиры Жукова.
***
Уже рушились города и села, горели хлеба и тысячи защитников Родины приносились в жертву неумелыми генералами на полях сражений, а по тюрьмам выстрелами в затылок каких кончали людей!
Левые эсеры участвовали в октябрьском перевороте с большевиками и до 6 июля 1918 года делили с ними власть. Они были последней опорой двухпартийной системы. Об их лидере, Марии Спиридоновой, человеке редкого благородства, "Большая Советская энциклопедия" сообщает, что она отошла от политической деятельности и жила в Уфе. Ложь! Ей не дали отойти. В одиночной камере в Орловском централе жила она – в том Орле, куда ворвался танковый клин фон Швеппенбурга. При внезапном приходе немцев, которые эсерке Спиридоновой ненавистны были еще с 1918 года, все заключенные Орловского централа были расстреляны. Таковы были приоритеты вождя. Город прозевали, но – не ликвидацию заключенных. Интересно, да?
Гитлер не превратил расправу со старыми друзьями в избиение всех и вся. Он рассудил, что, обезглавив движение, встанет во главе штурмовиков и вольет их в СС или в вермахт, где они будут служить ему верой и правдой.
Гитлер устроил "Ночь длинных ножей".
Сталинщина вся была длинной ночью ножей.
Гитлер готовил катастрофу, начав с уничтожения отдельных народов.
Сталин осуществил катастрофу в войне с собственным народом.
Знак полного равенства обязан быть поставлен между обоими, но со сноской: в вероломстве Сталин Гитлера превосходил. Гитлер еще рассуждал на эту тему, хоть и цинично. У горца Сталина и темы такой не было.
Иные твердят: "Да, злодей. Но великий!"
Эпитет великий введен в обиход для обозначения высших степеней человечности. Великим может быть поэт, ученый, даже полководец. Злодей может быть лишь страшен. Из всего величия на долю Сталина остается лишь великое проклятие за народ, которому даже и при умелом руководстве долго еще придется расхлебывать результаты его правления.
Ленин задал крутую траекторию, Сталин сделал ее круче, притом там, где Ленин, судя по всему, планировал перегиб. После Сталина партократы не умели найти иного пути, что неудивительно, поскольку все мыслящее в стране было вычищено. Партократы поддерживали трусливую траекторию, оказавшуюся полетом в пропасть.
Таковы судьбы деспотий.
45. Поворот под Москвой
Клаус Рейнхардт называет причины успешной обороны Москвы:
Во-первых, Можайская линия имела глубоко эшелонированные (на 100 км) позиции с природными и противотанковыми препятствиями и позволяла русским осуществлять медленный отход на восток с боями. (Он, впрочем, не говорит о том, какой ценой далось русским умение отходить с боями медленно…) Густая сеть железных и шоссейных дорог позволяла осуществлять оперативную переброску войск. Эти дороги, начиная с середины октября, почти не подвергались налетам немецкой авиации. 2-й воздушный флот был нацелен на противника, располагавшегося перед фронтом вермахта, и железнодорожная сеть Подмосковья, удары по которой так были желательны для нарушения системы перевозки и снабжения, не подверглась сильному воздействию люфтваффе.
Во-вторых, сыграл роль метод ведения боевых действий, примененный Жуковым. Красная Армия сражалась на последнем рубеже, и Жуков делал все, чтобы использовать свои небольшие силы по возможности более эффективно, создавая с этой целью в армиях на опасных участках глубоко эшелонированные противотанковые и артиллерийские очаги обороны, вынуждавшие противника прорывать все новые и новые позиции. Кроме того, танки использовались теперь не только для поддержки пехоты, но и сосредоточенно – для борьбы с немецкими танками (с почина М.Е.Катукова, уцелевшего ученика командармов).
Здесь читателю надо представить местность, от дорог и перекрестков которой противник еще далек, но там уже поставлены в оборону люди и пушки, хотя люди иногда едва обучены, а пушки сняты с противовоздушной обороны. Это та забытая азбука оборонительной войны, которую разработали и которой учили легендарные командармы. Не было бы у вермахта даже при внезапном нападении бравурных успехов начала войны, возглавляй части и соединения грамотные командиры, подобные Жукову, и вступи страна в войну с организованными танковыми соединениями.
Третьим К.Рейнхардт называет моральный фактор и жесткие меры по укреплению дисциплины в войсках.
Замечание о небольших силах в руках Жукова верно лишь на первом этапе обороны. По мере приближения к Москве силы немцев таяли, а силы Красной Армии возрастали. Из Сибири и Дальнего Востока день и ночь шли пополнения. Бойцы были в валенках, в полушубках ("шубники", называли их в народе.) К востоку от Москвы скапливались многочисленные, хоть и не ахти как обученные армии. В бой их вводили скупо, лишь в случае крайней нужды. Распоряжался резервами Сталин, Генштаб о них и не знал.
Плечо немецких перевозок еще больше возросло, а советских еще больше сократилось. Маневрирование войсками на рокадных дорогах стало возможно с высокой оперативностью. А на вермахт – мороз. Усталость. Ведь многодневные непрерывные бои по прогрызанию советской обороны. И это без смены, без отдыха, без теплой одежды, в непривычных для европейца условиях, в бескрайних просторах, под зимним хмурым чужим небом…
Солдаты Красной Армии уставали меньше. Их тратили быстро.
***
Летом 1986 года довелось мне пересечь Германию вдоль Рейна. Поезд шел из Цюриха в Мюнстер, а на коленях у меня дремал фотоаппарат, чтобы, как и в Швейцарии, по ходу фотографировать из окна вагона прелести старушки-Европы. Аккуратные, словно игрушечные, городки, поставленные вдоль русел мощеных булыжником рек вокруг старинных кирх на маленьких площадях проплывали мимо… – Аппарат остался нерасчехленным. Чувство темной злобы, о которой думалось, что она давно избыта, гнело меня. Я глядел и дивился: из такой красоты и такого покоя что нужно было им в бедной русской глубинке? Не сделал ни единого снимка, хоть издавна знал о соборах и замках по пути следования поезда и всю жизнь мечтал о поездке, которую, как невыездной, считал неосуществимой.
А потом подумал: как они, европейцы, сумели проникнуть так далеко? Герои! А ведь им цель поставлена была идти в такие дали, где даже исследователи чувствуют себя потерянными. В тундры. В бескрайние степи-пустыни, в сравнении с ними Подмосковье – пригородная зона. Они и туда дошли.
Герои…
И еще: что за нелюдь поставила перед ними эту цель, словно они уже и впрямь были те сверх-человеки, которых после них, обыкновенных мужей и братьев, собирались выращивать на завоеванных ими пространствах без сентиментов, словно цыплят в инкубаторе под светилом нацизма?
Вечная память честным солдатам вермахта, павшим на русских полях. Вечная память в урок тем, кто замышляет такие дела. Солдат уверили, что дело доброе и они выполняют солдатский долг. Их не готовили к мысли, что противник такой же человек, что не менее храбр и способен оказывать сопротивление в самом сердце своей разоренной Родины. Лучшие вскоре поняли. Но нет у солдата обратного пути. Все, что он может, – это не участвовать в делах, на которые вызывают добровольцев и на которые добровольцы всегда найдутся[66], потому что убивать безоружных все же легче и, главное, безопаснее.
А противник – что ж, его-то дело было правое. Да и пощады он не ждал, деться ему было некуда.
Мороз между тем крепчал. 5 декабря температура упала до отметки минус 28 градусов Цельсия.
Маятник дошел до предела. И – замер.
Советское командование знало, каково непривычному к зиме немецкому солдату в летней полевой форме и рваных ботинках.
46. Интерлюдия. Генеральный штаб в годы войны…
… интенсивно учил вождя воевать, ставя ему пятерки за поражения, а сам перебиваясь с двоек на троечки. Такое обучение, естественно, недешево стоило, но ведь и ресурсы какие, страна богатая, р у ды черных и цветных металлов, массивы лесные, нефть и тут и там… Народом тоже не обделены.
В перечне факторов, сыгравших роль в обороне Москвы, присутствие в ней вождя оставлено напоследок намеренно. Он предпочел бы быть подальше, но вовремя понял: Москва – последний его личный рубеж, сдача гибельна, искать спасения вне Москвы негде. А находясь в ней, еще можно способствовать делу своими качествами администратора.
Вот из каких соображений, а вовсе не из храбрости, Сталин не покинул столицу. Он далеко не был храбр. Он сметлив был.
К Московской битве вождь на крови народной так уж наловчился, что кое-что стал понимать в почтительных объяснениях штабистов. Дескать, разделил дурак Гитлер силы свои даже теперь, в последнем рывке, и на Москву пошел, и на Кавказ, хочет, товарищ Сталин, чтобы и мы тоже… Но мы, руководствуясь гениальными вашими указаниями, делить не станем, у нас и так хватит, и мы его шлеп! да? – и перехватим инициативу на юге, да?
Интересующихся Ростовской контрнаступательной операцией отсылаю к мемуарам участника маршала И.Х.Баграмяна. Советские войска, как и под Смоленском, пытались охватить своими клещами клещи противника, но действовать синхронно еще не умели, а так неумолимо, как годом позднее под Сталинградом, не смели. Да и сил таких еще не было. Танки потеряны были, а наступать на обладающего танками противника без этой ударной силы, даже планировать такое наступление, заменяя танки конницей, не просто. И все же налицо перехват инициативы из рук все еще наступавшего врага. Обращаю на это внимание читателя по трем причинам: первая – сигнал к наступлению под Москвой был дан Ростовом. Там Красная Армия контратаковала все еще энергично наступавшего фон Клейста – и преуспела![67] Так что перейти в наступление против замершего противника, как произошло под Москвой, сам Бог велел; вторая – ради иллюстрации того, что Сталинград не вмиг замыслен был гением Жукова, Василевского и, конечно, вкупе с ними великого вождя; у Жукова с Василевским свои заслуги в этой операции, но читателю пока не догадаться, какого рода эти заслуги; третья – Гитлер в 1942-ом велел Паулюсу не сметь отступать 6-й армией, так как помнил аналогичную ситуацию, из которой фон Клейст с честью вышел годом раньше. Оставить Ростов велел фон Рунштедт. Фюрер с захватом Ростова видел себя чуть ли не в Баку, решение фон Рунштедта вызвало у него истерику, и он отстранил фельдмаршала от командования. Фон Рунштедт был, конечно, прав, но уроком Гитлеру это не послужило: он-то, требуя стоять насмерть уже после Ростова, предотвратил катастрофу под Москвой!
Предотвратил. И стал совсем уж неприступен. И в кампании 42-го года распоряжался бесконтрольно. Он так и не понял, что от Московской битвы до Сталинградской прошел год и что против него под Сталинградом уже не Тимошенко воевал, а плеяда восходящих звезд Красной Армии во главе с Жуковым и Василевским.
Что и говорить, легко обвинять фон Клейста, что ему не следовало брать Ростов. Но как-то уж так повелось, что военная профессия, как заметил Баграмян, неизменно оказывается связана с риском. Если во взятии Ростова особых заслуг у Клейста нет, то в отступлении он показал высший класс. (Возможно, и от Паулюса фюрер ожидал подобного, не зная еще о жесткости русских клещей и думая, что отступить никогда не поздно…)
Вы еще помните, читатель, как великий Мольтке достойно отстранил сравнение с Фридрихом Великим: ему, Мольтке, не пришлось осуществлять отступления – самого сложного в войне маневра.
Хоть фельдмаршал фон Рунштедт не пропустил опасного движения Южного фронта и не промедлил с приказом, фон Клейст вынужден был к отступлению от наступления, без перехода. Он, отступая, показал воистину выдающееся мастерство и стальной характер. А Генштаб прослабило под пристальным оком грозного ученика. Оно и понятно: в Генштабе не было рыцарей-госпитальеров ордена Св. Иоанна. Лучше клок выдрать, чем клок потерять.
А могли не клок отхватить. Повезло Клейсту.
(Повезло… Умер во Владимирском централе в 1956 году.)
Что ж, честь воевать с таким полководводцем, как Эвальд фон Клейст. Но одного фон Клейст скрыть не мог: вермахт выдохся.
Сигнал Генштабу и его ученику пришел с юга, это помогло им поверить в угасавшую активность противника на мерзлых полях Подмосковья.
47. Поворот под Москвой (окончание)
Он не настал, а почти произошел, почти стихийно. Словно лошадь сжимала могучую стальную пружину. Шла на нее, вперед, вперед, налегая грудью, упираясь слабеющими копытами в малейшие кочки и неровности почвы, и вдруг оледенела земля, не стало кочек, скользнули копыта без шипов – и пружина швырнула усталую лошадь назад, назад!
Просто на каком-то участке фронта при очередной контратаке Красной Армии – они ведь не прекращались, не считаясь с потерями, – немцы чуть подались. Тогда усилили нажим. Добавили сил. И стали импровизировать: плана не было.
Не было плана!
Забежим вперед, а там уж судите сами, читатель.
Апрель 1943 года:
"… положение на Курской дуге стабилизировалось. Та и другая стороны готовились к решающей схватке. Пора было готовить предварительные соображения по плану Курской битвы."
Апрель 1944 года:
"Излагая свои соображения о плане летней кампании 1944 года, я обратил особое внимание Верховного на группировку противника в Белоруссии, с разгромом которой рухнет устойчивость обороны противника на всем его западном стратегическом направлении.
– А как думает генштаб? – обратился И.В.Сталин к А.И.Антонову.
– Согласен, – ответил тот.
Я не заметил, когда Верховный нажал кнопку звонка к Поскребышеву. Тот зашел и остановился в ожидании.
– Соедини с Василевским, – сказал И.В.Сталин.
Через несколько минут А.Н.Поскребышев доложил, что А.М.Василевский у аппарата. Здравствуйте, – начал И.В.Сталин. – У меня находятся Жуков и Антонов. Вы не могли бы прилететь посоветоваться о плане на лето? А что у вас под Севастополем? Ну, хорошо, оставайтесь, тогда пришлите мне лично свои предложения на летний период."
Это называется – планировать.
А теперь назад, в свое время, в ноябрь 1941 года:
"1 декабря гитлеровские войска неожиданно для нас прорвались в центре фронта, на стыке 5-й и 33-й армий, и двинулись по шоссе на Кубинку… 4 декабря этот прорыв противника был полностью ликвидирован… В конце ноября по характеру действий и силе ударов всех группировок немецких войск чувствовалось, что враг выдыхается и для ведения наступательных действий уже не имеет ни сил, ни средств…"
"29 ноября я позвонил Верховному Главнокомандующему и, доложив обстановку, просил его дать приказ о начале контрнаступления… И.В.Сталин сказал, что он посоветуется с Генштабом… Поздно вечером 29 ноября нам сообщили, что Ставка приняла решение… и предлагает представить наш план контрнаступательной операции. Утром 30 ноября мы представили Ставке соображения Военного совета фронта по плану контрнаступления, исполненному графически на карте с самыми необходимыми пояснениями."
А это называется – импровизировать.
Кстати, английский историк Ричард Овери, изучивший советские источники и весьма уважительный к маршалу, приводит существенно отличное от жуковского описание событий на основании свидетельства генерала П.А.Белова. Ранним утром 30 ноября Сталин позвонил Жукову и велел планировать контрнаступление, которое покончит с угрозой Москве. Жуков ответил, что для наступления нет ни людей, ни техники. Сталин велел приехать. Вечером того же дня он принял Жукова и Белова и сообщил, что у Москвы собраны резервы из Сибири и Дальнего Востока. Численность этих резервов Жуков так никогда и не узнал[68]. Овери считает, что не менее двенадцати армий. Они не были богаты ни артиллерией, ни танками, зато одеты и поставлены на лыжи и сани, а лошади привычны к одолению снежных заносов.
Версия Белова-Овери объясняет психологическую неготовность Жукова к планированию большой наступательной операции. Да и что планировать, имея под рукой 240 тысяч войска после октябрьского разгрома, когда почти на миллион больше пассивно стояло в обороне, ожидая зимы, а дождавшись разгрома? По готовности и результат. Опять пересекретничал вождь. Да, для Гитлера наличие огромных русских резервов таким было сюрпризом, что он не поверил данным воздушной разведки. Буквально глазам своим не поверил. После всех потерь не может быть у русских таких резервов – и все тут. (Не верить фактам -привилегия деспотов. Полгода спустя Сталин тоже не поверит. С тем же результатом, естественно…) Но и для Жукова наличие сил таким стало сюрпризом, что план, разработанный второпях, пока немцы не успели перейти к обороне и окопаться, планом генерального наступления не стал, а предусматривал лишь ликвидацию клешней вокруг Москвы. Жуков попросту не успел (а кто успел бы?) перестроить свою ментальность от оборонительной к наступательной. Впрочем, и объективно для большого наступления, кроме пушечного мяса, не было готово ничего. Ни авиации, ни должного боезапаса, ни разведданных, в конце концов. К тому же начинать надо было вынужденно – с обрубания клешней. Потому и не было взаимодействия фронтов. Не были наработаны варианты. Не знали, что делать по достижении рубежей. Не согласовали времени их достижения для совместного развития успеха. А коли нет плана, то простор вождю тыкаться в каждый мнимо удачный момент с указаниями – вклиниться и тут, и там, и где-то еще и тем распылять силы в судорожной спешке на запад.
Вклиниться… Клинья-то без танковых армий мягковаты. А немцы дрались отчаянно, не давали углубиться для обхода. Ох, как мешял вождь импровизациями своими оппортунистическими! Выхватывались вдруг армии (1-я Ударная) с направлений, где намечался успех, ибо генштабовский ученик в морозы осмелел и решил, что военспецы ему уже не нужны, дальше он в союзе с зимой сам их научит.
Вермахт, сперва отпрянув, быстро собрался и получил возможность пятиться. А там и в жесткую оборону встал.
Но, оставляя в стороне все это, как выразить, что для нас, беглецов, захлестнутых войной, измученных поражениями, чем стал для нас поворот под Москвой? Как выразить отчаяние наше в октябре и ликование в декабре? Разве показать каплю, по которой, как сказано в классическом и чересчур далеко идущем сравнении, можно вообразить океан…