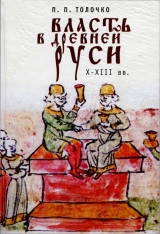
Текст книги "Власть в Древней Руси. X–XIII века"
Автор книги: Петр Толочко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Под 1231 г. летописец сообщает о том, что в помощь Данилу в его походе на Перемышль прибыл и Мирослав: « А Мирославу пришедшу к нему(Данилу – П. Т.) на помощь с маломъ отрокъ». [256]256
Там же. – Стб. 764.
[Закрыть]Кем были эти отроки, сказать сложно, но не исключено, что под ними подразумевалась младшая дружина.
В статье того же года содержится рассказ о необычном проступке Мирослава. Летописец полагает даже, что он стал результатом помутнения рассудка боярина. Случилось это во время военного конфликта венгерского короля Андрея и Данила Галицкого. Взяв Ярославль и Галич, король подошел ко Владимиру. Ни Василька, ни Данила в нем не было. Город должен был защищать Мирослав. Летописец замечает, что он бывал храбр на рати, однако теперь решил заключить мир с королем, не дав ему боя. « Мирославъ же бѣ во граде, иногда же храбру ему сущю. Богъ вѣдать тогда бо смутися умомъ, створи миръ с королемъ вез свѣта князя Данила и брата его Василка». [257]257
Там же. – Стб. 765.
[Закрыть]Сообщив об этом беспрецедентном проступке, летописец заметил, что оба Романовича были очень недовольны этим. Можно было ожидать, что на этом карьера Мирослава и закончится, но этого не случилось. В летописи он упомянут еще дважды, под 1232 и 1234 гг., причем, по-видимому, в том же качестве воеводы и доверенного лица Данила Галицкого.
Воеводой, судя по летописным известиям, служил и еще один волынский боярин Глеб Зеремеевич. Впервые упомянут в летописи под 1211 г. вместе с боярами Данила Мирославом и Демьяном. Причем, был мужем Мстислава. В статье 1213 г. он назван вместе с Дмитрием и Мирославом. Поскольку Дмитрий представлен летописцем как тысяцкий, два других боярина были, скорее всего, воеводами. В пользу этого свидетельствует и то обстоятельство, что Глеб Зеремеевич, уйдя с Данилом из Галича, храбро сражался с наступавшими полками венгерского короля Коломана и союзных ему поляков. « Данилъ во младъ бѣ и видѣвъ Глѣба Зеремеевича и Семьюна Кодьниньского, мужескы ѣздяща и приѣха к нима укрѣпляя и». [258]258
Там же. – Стб. 734.
[Закрыть]
После этого Глеб Зеремеевич упомянут летописью в событиях междукняжеской борьбы на Волыни и в Галичине. Судя по этим известиям, не отличался особой верностью своему сюзерену. В последние годы жизни Мстислава Мстиславича служил ему. В 1231–1232 гг. переметнулся на службу венгерскому королевичу Андрею вместе с Болоховскими князьями. В 1234 г. отступился от королевича и вновь поддержал Данила Галицкого. Когда большая половина Галича, как пишет летописец, встречала своего князя Данила, среди встречающих был и Глеб Зеремеевич. В благодарность за это Данил одарил бояр и воевод городами. « И разда городы бояромъ и воеводамъ и бяше корма у нихъ много». [259]259
Там же. – Стб. 771.
[Закрыть]
В летописи под 1261 г. содержится любопытный рассказ о том, как во время осады Холма войсками Бурундая, князь Василько прибег к необычной хитрости. Будучи мирником татарского воеводы, он пообещал, что прикажет холмлянам сдать город. Однако, речь его, сопровождавшаяся загадочным бросанием на землю трех камней, содержала прямо противоположный смысл. [260]260
См. об этом: Толочко А. П.«Дая им разум хитростью»: загадка Василька Романовича о трех камнях // Факты и знаки. М., вып. 2 (в печати).
[Закрыть]Для нашей темы важным является то, к кому обращался Василько. По летописи, это были Константин и Лука Иванкович. Василько называл их холопами, но нет сомнения, что они были старейшинами городскими.
Судя по подобным парным упоминаниям, содержащимся в Киевской летописи, можно думать, что мы возможно имеем здесь дело с воеводой и тысяцким. Когда в 1146 г. Всеволод Ольгович осадил Звенигород и жители города уже готовы были сдать его, в события резко вмешался воевода и, посредством казни паникеров, предотвратил капитуляцию. « И бѣ у нихъ воевода, Володимеръ муж, Иван Халдѣевичь, изоима у нихъ мужи 3, и уби я, и когождого ихъ перетенъ на полъ, поверже исъ града, тѣмъ и загрози имъ». [261]261
Там же. – Стб. 320.
[Закрыть]
Особенностью следующего исторического этапа, отмеченного правлением в Юго-Западной Руси сыновей Данила и Василька, было возрастание роли воевод. Последние нередко просто заменяют в военных походах и битвах своих князей. Когда в 1273 г. потребовалась помощь польскому князю Болеславу, то Лев и Мстислав Даниловичи лично повели свои дружины, а Владимир Василькович ограничился посылкой своего воеводы. « Володимеръ самъ не иде, но посла свою рать со Жилиславомъ». [262]262
Там же. – Стб. 870.
[Закрыть]Предлогом служило то, что заратились ятвяги, но так Владимир будет поступать и позже. Равно как и другие галицкие и волынские князья.
Впрочем, практика перекладывания своих обязанностей на воевод имела место и ранее. Достаточно вспомнить княжение Ярослава Осмомысла. В посмертном панегирике ему сказано о том, что он « гдѣ во бяшеть ему обида, самъ не ходяшеть полкы своими». [263]263
Там же. – Стб. 656.
[Закрыть]На заключительном этапе правления так поступал и Андрей Боголюбский, поручавший руководство походами на Киев, Новгород или на Болгар своему воеводе Борису Жидиславичу. Когда в 1174 г. он собрал силы многих своих союзников для похода на Киев, то « посла с ними сына своего Юрья и Бориса Жидиславича воеводою». [264]264
Там же. – Стб. 573.
[Закрыть]
В 1273 г. галицкие и волынские князья принимают решение осуществить объединенный поход на ятвягов, на также сами не идут, а поручают его воеводам. « Посемъ же сдумавше князи поити на Ятвязи. Приспѣвши же зимѣ, сами князи не идоша, но послаша воеводы своя ратью. Левъ же посла со своею ратью Андрея Путивлича, а Володимиръ посла со своею ратѣю Желислава, а Мьстиславъ посла со своею ратью Володъслава Ломоносаго». [265]265
Там же. – Стб. 870.
[Закрыть]О какой бы-то ни было мобилизации ополченцев в летописи не говорится, что свидетельствует, по-видимому, о том, что поход был осуществлен силами княжеских дружин.
Ситуация повторилась и в 1276 г. Когда прусы пришли в помощь литовскому князю Тройдену и были размещены в Гродно и Вислониме, Владимир Василькович и Лев Данилович решили отреагировать на это своим походом, но не сами пошли на неприятеля, а послали к Вислониму «рать свою». [266]266
Там же. – Стб. 874.
[Закрыть]Во время похода князей Мстислава, Юрия Львовича и Владимира к Новогрудку, первые два князя втайне от Владимира послали впереди «лучших своих бояр» во главе с воеводой Тюймой. В 1281 г. поход в помощь Конраду польскому были отряжены воевода Тюйма с холмлянами, воевода Василько Вислонимский с владимирцами. С ними же были воеводы Желислав и Дунай. На Висле русские полки соединились с польскими и дальше пошли вместе к городу Сохачеву. « Василко же поиде своимъ полкомъ, а Желиславъ своимъ полкомъ, а Дунай своимъ полкомъ а Тюйма своимъ полкомъ». [267]267
Там же. – Стб. 885.
[Закрыть]
В летописи не говорится, кто составлял эти полки. Можно лишь предположить, что в помощь Конраду были направлены не ополченцы, а профессиональные дружинники. В пользу этого свидетельствует следующая реакция Владимира Васильковича. Как пишет летописец, князь « печалуя по велику, зане не бяшеть вѣсти от полку его». Когда же он узнал, « оже вси добрѣ сдоровѣ идуть с честью великою», то был рад « оже дружина его вся цѣла». [268]268
Там же. – Стб. 886.
[Закрыть]Следовательно, в поход была отправлена княжеская дружина.
После первых успехов Владимир Василькович приказал своим воеводам не распускать полки, но продолжать военные действия. « Володимеръ же князь указаль бяшеть своим воеводамъ тако: Василкови и Желиславу и Дунаеви не распущати воевать, но поити всимъ к городу». [269]269
Там же. – Стб. 887.
[Закрыть]в следующем, 1282 г., Владимир посылал своего воеводу Дуная, как пишет летописец, « возводить литвы», а также совместно с Львом Даниловичем – воевал против Болеслава. « Левъ же и Володимеръ сама не идоста, но посласта воеводы. Левъ посла со своею ратью Тюйма и Василка Белжанина и Рябца, а Володимѣръ посла со своею ратью Василка князя и Желислава, и Оловянъца и Вишту. И тако поидоша на Болеслава». [270]270
Там же. – Стб. 889.
[Закрыть]Небезынтересно отметить, что в 1287 г. одному из этих воевод – Оловянцу Владимир поручил вести переговоры с Мстиславом Даниловичем. Вместе с ним были епископ Владимирский Евсигний и некий боярин Борок. [271]271
Там же. – Стб. 901–902.
[Закрыть]Не исключено, что в это время Оловянец мог занимать и должность тысяцкого.
Воеводой, как и прежде, был Дунай. Собираясь занять Краковский стол, польский князь Конрад попросил у Владимира в помощь себе Дуная: « Брате ти господине молвить: „Пошли со мною своего Дуная, ать ми честьно“». [272]272
Там же. – Стб. 909.
[Закрыть]Владимир удовлетворил просьбу Конрада: под стенами Люблина вместе с ним сражался и «Дунай Володимиров». [273]273
Там же. – Стб. 910.
[Закрыть]
После смерти Владимира Васильковича, владимирский стол перешел к Мстиславу Даниловичу. Он же взял на себя и все обязательства двоюродного брата. Среди них были и союзные отношения с князем Конрадом Мазовецким. В 1289 г. Мстислав послал ему в помощь «Чюдина воеводу». [274]274
Там же. – Стб. 933.
[Закрыть]Это был последний волынский воевода, о котором упоминается в летописи.
Приведенные летописные известия позволяют воссоздать достаточно полную и непротиворечивую картину организации военного дела на Руси. Оно изначально находилось в компетенции княжеской власти. Князья были и первыми воеводами дружин, возглавляли ближние и дальние военные походы. По существу, эту свою функцию они сохраняли и тогда, когда появился институт воеводства. В тех случаях, когда во главе военного похода стоял князь он и был воеводой, независимо от того, участвовал ли в нем профессиональный воевода или не участвовал.
На этот счет в Галицко-Волынской летописи имеется весьма характерное известие. На помощь польскому князю Конраду, желавшему занять краковский стол, выступили русские дружины. Когда они появились под Люблином и об этом узнал Конрад, первым вопросом, который он задал русским ратникам, был вопрос о воеводстве. « Кондратъ же вопроси ратьныхъ: «Кто есть воевода в сей рати?». Те ответили: «Князь Юрьи Лвовичь»». [275]275
Там же. Стб. 931.
[Закрыть]Разумеется, это не означало, что в походе не принимал участия воевода князя.
В литературе уже давно поставлен вопрос о социальном статусе воевод. О том, что они принадлежали к боярскому сословию практически ни у кого из исследователей сомнений не было. Таковые возникали, когда надо было определить из каких бояр происходили воеводы: из княжеских или земских. А. Е. Пресняков, С. В. Юшков и ряд других историков полагали, что все высшие должностные лица определенно были княжескими людьми и набирались из старшей княжеской дружины. Согласно А. Е. Преснякову, подробное изучение данных относительно древнерусского боярства показывает ненужность гипотезы о земских боярах для объяснения каких-либо явлений исторической жизни. [276]276
Пресняков А. Е.Княжое дело. – С. 247.
[Закрыть]По мнению С. В. Юшкова, хотя дворяне и бояре противополагаются как две разные служилые группы, они не были совершенно замкнутыми. [277]277
Юшков С. В.Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.-Л., 1939. – С. 152, 224.
[Закрыть]
Что касается характера власти воевод, то поскольку центром, откуда осуществлялось управление страной, землей или уделом являлся княжий двор, они, как и другие чиновники, были несомненно княжескими. Практика пожалований бояр имениями, существовавшая на Руси, по меньшей мере, со времен Владимира Святославича, делала деление их на княжих и земских весьма условным.
Близкое мнение высказал Н. П. Павлов-Сильванский. Утверждая, что в древнейшем киевском периоде нашей истории высший класс распадался на два разряда лиц, различных по своему положению и происхождению – бояр княжеских и так называемых бояр земских, он также полагал, что эти разряды не были замкнутыми. Получив пожалования, княжеские бояре становились боярами земскими. [278]278
Павлов-Сильванский Н. П.Государевы служилые люди. СПб, 1909. – С. 1, 11.
[Закрыть]
В советское и новое время тема эта не дебатировалась так остро, как раньше, видимо потому, что для большинства исследователей в ней не было проблемы. Может только И. Я. Фроянов не разделял вывода о классовой (или сословной) природе власти и ее институтов в Киевской Руси, предложив некий общенародный вариант русской государственности, зиждившийся вплоть до начала XII в. на родоплеменной основе. В последующем древнерусские города-государства, будто бы, представляли собой самоуправляющиеся городские и сельские общины во главе с народным собранием – вечем. На эту, больше никем не замеченную особенность Руси, историка натолкнули параллели из жизни городов-государств Востока времен первых цивилизаций и «доклассической» Греции. [279]279
Фроянов И. Я.Киевская Русь. Л., 1980. – С. 211, 230–235.
[Закрыть]
Соответственно с таким пониманием политической структуры Руси X–XII вв. оценивается им и институт древнерусских воевод. Это, земские чиновники, стоявшие во главе самоопределяющихся воинских подразделений. Кроме земских воевод, в «источниках, согласно ему, мелькают и княжеские воеводы, которым князья поручают командование «воями», что, впрочем, не означало подчиненности народного ополченья или ущемления его прав». Наличие в Киевской Руси земских воевод, согласно историку, неоспоримо свидетельствует о самостоятельности военной организации вечевых общин. [280]280
Там же. – С. 209.
[Закрыть]
Ничего подобного из летописных известий о воеводах не следует. Приведенные выше, практически с исчерпывающей полнотой, они неоспоримо указывают на воеводу, как на княжего мужа, профессионального военного. Назначение воеводы, даже и для воев, не говоря уже о княжеской дружине, исключительная прерогатива князя. Примеры командиров народного войска, куда историк зачислил воевод Претича, Коснячке и Тита, не только не подтверждают его вывод, но и находятся в явном противоречии с ним.
Претич, как это следует из летописи, воевода не воев, но дружины. Не исключено, что и княжеской киевской, иначе как объяснить его беспокойство за свою судьбу в случае, если им не удастся спасти княжескую семью. На это со всей определенностью указывают следующие слова. На вопрос печенежского князя – « А ты князь ли еси?», Претич ответил: « Азъ есмь муж его, и пришел есмь въ сторожахъ». [281]281
ПВЛ. Ч. 1. – С. 48.
[Закрыть]
Не больше оснований видеть предводителя народного ополчения и в воеводе Коснячко. Из летописи такой вывод сделать невозможно. Претензии к нему восставших киевлян скорее указывают на то, он один из виновников поражения русских от половцев на реке Альте, княжий воевода. Не исключено, что его считали ответственным и за то, что не было выполнено требование киевлян выдать им коней и оружия для продолжения борьбы с половцами. Решение идти на Коснячков двор последовало сразу же после отказа Изяслава. И, наконец, в летописи нигде не говорится, что князья Изяслав, Святослав и Всеволод привлекли для похода ополченье.
Сложнее определить социальный статус берестейского воеводы Тита, преследовавшего во главе отряда в семьдесят человек поляков, воевавших русские села вблизи Берестья. Небольшая дружина берестейцев указывает скорее на ее профессиональный характер, чем на ополченский. Да и воеводу летописец характеризует как профессионального ратного. « Бяшеть бо у нихъ воевода Титъ, вездѣ словый(славный – П.Т.) мужьствомъ на ратѣхъ и на ловѣхъ» [282]282
ПСРЛ. Т. 2. – Стб. 896.
[Закрыть]Можно думать, что принадлежал он к дружинному сословию и был человеком князя. В сходных обстоятельствах звенигородский воевода Иван Халдеевич, руководивший обороной города в 1146 г., назван «воеводой Владимира».
Во всех других свидетельствах о воеводах определенно указывается, что они были княжескими мужами и назначались на свои должности князьями. Многие из них занимали их в продолжении длительного времени, исчислявшегося, нередко, десятками лет. Ни одного случая, когда бы должность воеводы была замещена по решению общины, в летописи нет, что, по существу, делает дискуссию о земских воеводах беспредметной.
Как, собственно, и о каком-то мифическом земском войске, которое, к тому же, было суверенным и не находилось в княжеском подчинении.
Никакого земского войска на Руси не было. Были профессиональные княжеские дружины, которые в случаях больших военных кампаний, дополнялись ополченцами, названными в летописи «воями». Но, во-первых, такое войско формировалось на короткое время, для выполнения конкретной задачи, а, во-вторых, оно находилось в полном подчинении князя (или князей) и его воевод. Теоретически можно придумать все, что угодно, но практически, что определенно следует из летописи, такое войско имело жесткую военную организацию, состояло из полков, находившихся под командованием князей и их воевод. Или только воевод, когда сами князья в поход не шли. Однако и в этих случаях летописцы именуют воевод и полки, которые они возглавляли, по князьям. Нет сомнения, что такие полки состояли не только из воев, но и княжеских дружинников, которые составляли их основу.
По существу, как правильно определил еще Б. Д. Греков, такое войско во времена Киевской Руси оказывалось в подчинении не у своих выборных или частично наследственных вождей, как это имело место в период «военной демократии», а у государства, во главе которого стояли князь и окружавшая его знать. В дальнейшем развитие организации войска шло по пути усиления его специального военного профессионального ядра. [283]283
Греков Б. Д.Киевская Русь. М., 1953. – С. 330.
[Закрыть]
Утверждая суверенность вечевой общины в деле организации военных походов, И. Я. Фроянов приводит примеры, которые об этом не свидетельствуют вовсе. Главный из них относится к 1068 г., когда, после поражения русских князей от половцев на реке Альте, в Киеве собралось вече и потребовало от князя коней и оружия. Но, если согласиться с историком в том, что вечевая община обладала суверенитетом в военных вопросах, тогда выставленные ею требования кажутся бессмысленными. Собирайте и вооружайте ополченцев, и отправляйте их на войну с половцами. Но, оказывается, без князя осуществить это невозможно.
У общины не было ни лошадей, ни вооружения, ни, что также очевидно, военных предводителей. Изяслав не выполнил требования веча и суверенность общины свелась лишь к тому, что ее члены предались разграблению дворов воеводы и князя.
Киевские события 1068 г. свидетельствуют как раз об обратном тому, что утверждает И. Я. Фроянов. Никаким суверенитетом в организации войска община не обладала. Ни до этих событий, ни после них в летописи не зафиксировано ни единого случая, когда бы та или иная вечевая община самостоятельно организовывала военный поход. Известны случаи, когда князь лишался поддержки и даже предавался своим окружением, но община тут, скорее всего, была не при чем. Эти интриги происходили в боярско-дружинной среде, которая в междукняжеской борьбе искала свою собственную выгоду. В таких случаях, как правило, окружение князя делилось на противостоящие группировки.
И. Я. Фроянов в пользу своего мнения приводит известные слова, сказанные Изяславу Мстиславичу перед походом на Юрия Долгорукого. « Княже, ты ся на насъ не гнѣвай, не можемъ на Володимире племя рукы въздаяти, оня же на Олговичь хотя и с дѣтьми». [284]284
ПСРЛ. Т. 2. – Стб. 344.
[Закрыть]Однако, из летописного контекста не следует, что под термином «кияне» надо обязательно видеть «воев». Это могли быть и знатные киевляне, симпатизировавшие Мономаховичам. Скорее всего, так оно и было. Но главное в этом сообщении является то, что киевляне таки пошли вместе с князем. Причем, добровольно, без каких-либо вечевых решений. « А тотъ добръ, – сказал Изяслав, – кто по мнѣ поидеть. И то рекъ, съвъкупи множество вои». [285]285
Там же.
[Закрыть]
В летописи зафиксированы случаи обсуждения вопросов «войны и мира» с половцами, но их участниками, как правило, были или одни князья, или князья и их боярско-дружинное окружение. Когда в 1093 г. Святополк Изяславич решил выступить на половцев с небольшой дружиной, то «смысленные мужи» сказали ему, что, если бы он собрал и 8 тыс. воинов, то их было бы не много. К тому же посоветовали привлечь для похода переяславского князя Ростислава. Князья Святополк и Владимир обсуждали в 1103 г. со своими дружинами на Долобском под Киевом предполагавшийся поход на половцев. Определенно, обсуждались князьями и все последующие антиполовецкие походы, в которых принимали участие несколько князей. Нередко эти междукняжеские думы облечены летописцами в формулу Божьего провидения. « Вложи Богъ у серьдце Русьскимъ княземъ мысль благу, Святополку и Володимеру, и снястася думати на Долобьскѣ». [286]286
Там же. – Стб. 252.
[Закрыть]Чаще сбор большого числа князей и их дружин на войну представлен в летописи, как следование воле киевского (или старшего удельного) князя, но никогда, как исполнение решения вечевого собрания.
По существу, у нас нет никаких оснований говорить о существовании на Руси народного войска, формировавшегося вечевыми собраниями. Крестьяне (смерды) и горожане привлекались для участия в больших военных кампаниях, будь-то походы на кочевников или же на князей-конкурентов, но инициатором таких мобилизаций всегда были князья. Исключительно их прерогативой являлась организация войска и определение для него военачальников. И. Я. Фроянов подкрепляет свой невероятный вывод о самостоятельности военной организации вечевых общин ссылкой на то, что в летописи, при описании военных событий, иногда не упоминаются князья или их воеводы. В качестве примера цитирует статью 1135 г. Лаврентьевской летописи, в которой говорится: « Тое же зимы бишася Новгородци с Ростовцами на Ждьни горе, и побѣдиша Ростовци Новгородцевъ». [287]287
ПСРЛ. Т. 1. – Стб. 303.
[Закрыть]
Надо сказать, пример совершенно неудачный. Здесь элементарная неполнота информации. В Новгородской первой летописи, где это событие описано пространнее, говорится о том, что поход на Суздаль и Ростов возглавлял Всеволод Мстиславич. Аналогичные сведения содержатся и в Московском летописном своде. [288]288
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов (далее НПЛ). М., 1950. – С. 208. « И в то же лѣто, на зиму, иде Всеволод на Суздаль ратью, и вся Новгородчкая область»; « А тое же зимы иде Всеволодь Мстиславичь на Суздаль и на Ростовъ с новаградци и псковичи и ладожане и съ всею областию Новоградскою». (ПСРЛ. Т. 25. Московский летописный свод конца XV века. М.-Л., 1949. – С. 32).
[Закрыть]Однако, если бы их и не было, невозможно себе представить народную спонтанность этого похода и отсутствие в нем княжеско-воеводского военачалия. Это ведь не уличная драка.
Совершенно некорректно привлечено историком и свидетельство «Слова о полку Игореве» о курянах, весь смысл которого сводится к тому, что Буй-Тур Всеволод характеризует как раз свою профессиональную дружину. « А мои ти Куряни свѣдоми къмети: подъ трубами повити, под шеломы възлелѣяны, конець копия въскоръмлени, пути имь вѣдоми, яруги им знаеми, луци у нихъ напряжены, тули отворени, сабли изъострены, сами скачють аки сѣрыи вълци в полѣ, ищучи себе чти, а князю славѣ». [289]289
Слово о полку Игореве. – «Изборник». Сборник литературы Древней Руси. М., 1969. – С. 208.
[Закрыть]
Определенно, это образ не ополченцев-воев, но дружинников, находившихся на службе у князя и постоянно занятых ратным делом. У воев такого набора оружия просто не могло быть. В свое время это убедительно показал Б. Д. Греков, приведший свидетельства летописей о более чем скромном вооружении так называемых пешцев. Это, преимущественно, топоры и сулицы. [290]290
Греков Б. Д.Киевская Русь. – С. 331.
[Закрыть]О том, что у народа не было своего вооружения следует и из, упоминавшейся выше, статьи 1068 г. Поэтому, нет абсолютно никаких оснований утверждать, как это делают некоторые исследователи, что на Руси все рядовое население было вооружено. [291]291
Фроянов И. Я.Киевская Русь. – С. 213–214.
[Закрыть]Совершенно противоречат этому выводу и археологические источники. Раскопки древнерусских городов, городищ, поселений и могильников не обнаруживают такого количества предметов оружия, какое должно было быть при всеобщем народном вооружении.
Выше уже приводилось мнение А. Е. Преснякова, согласно которому «при каждом князе мы видим одновременно лишь одного воеводу». Основано оно, видимо, на интерпретации летописных свидетельств начального периода истории Киевской Руси. Хотя и в них такая жесткая закономерность не просматривается. Во времена Игоря воеводские обязанности, судя по всему, выполняли Свенельд и Асмуд, при Святославе – Свенельд и Претич, при Ярополке – Блуд и Варяжко, при Владимире – Волчий Хвост и Добрыня, при Ярославе – Буды и Иван Творимович. Что касается последующих периодов древнерусской истории, особенно XIII в., то князья определенно имели больше, чем одного воеводу. Об этом свидетельствуют как конкретные свидетельства о княжеских воеводах, где они называются по именам, так и общие, указывающие на воевод во множественном числе без имен.
Вот только два примера. Летописная статья 1281 г.: « Володимеръ же князь указалъ бяшеть своимъ воеводамъ тако, Василкови и Желиславу и Дунаеви, не распущати рати, но пойти всимъ к городу». [292]292
ПСРЛ. Т. 2. – Стб. 887.
[Закрыть]согласно свидетельству статьи 1234 г., Данил Галицкий, « прия землю Галичьскую, и разда городы бояромъ и воеводамъ и бѣаше корма у нихъ много». [293]293
Там же. – Стб. 771.
[Закрыть]
При чтении летописных сообщений о назначении князьями воевод может создаться впечатление, что должности эти не были постоянными, но поручались тому или иному боярину исключительно на время военного похода. [294]294
По мнению М. Б. Свердлова, «во второй половине XI – первой половине XII вв. особой военно-административной должности воеводы не было, а воеводство только поручалось князем на время военных действий опытным княжеским служилым мужам». Свердлов М. Б.Домонгольская Русь. – С. 530.
[Закрыть]В пользу этого, как будто, свидетельствует и терминология этих назначений. Ярослав Мудрый «поручи» воеводство Вышате, а Мстислав Данилович и вовсе « нарек Чюдина воеводу». [295]295
ПСРЛ. Т. 2. – Стб. 933.
[Закрыть]Что касается воеводства над ополченцами – воями, то наверное так оно и было. Хотя это вовсе не означало, что воеводство поручалось людям случайным, занимавшимся между походами «выращиванием капусты». Судя по летописным известиям, они принадлежали к высшему дружинному окружению князей и были, выражаясь словами летописца, мужами смысленными в ратном деле.
Многие из них исполняли воеводские обязанности в продолжении десятков лет, причем не только в одного и того же князя. Чаще всего, в качестве примера долголетнего служения, исследователями называется Ян Вышатич, но такими же были и другие воеводы. У Мономаха – Ратибор, у Святополка – Путята, у Всеволода Ольговича – Иван Воитишич, у Изяслава Мстиславича – Шварн, у Юрия Долгорукого – Жирослав, у Ростислава Мстиславича – Володислав Лях, у Данила Галицкого – Мирослав и Глеб Зеремеевич, у Владимира Васильковича – Желислав и Дунай и др.
Учитывая, что в неспокойное время феодальных муждуусобиц, а в окраинных русских княжествах и постоянных вооруженных конфликтов с иностранными соседями, войны были перманентным явлением, можно думать, что у так называемых ополченских воевод их временный статус превращался в постоянный. Это особенно характерно было в жизни Галичины и Волыни, где внутреннее княжеско-боярское противостояние дополнялось необходимостью отражения венгерских и польских вторжений, а также военным присутствием русских дружин в польских междуусобицах. В летописи зафиксированы многие эпизоды этой борьбы с участием русских воевод. Отдельные из них настолько отличились, что были желанными союзниками соседних правителей. Не случайно польский князь Конрад просил у Владимира Васильковича воеводу Дуная: « Пошли со мною своего Дуная».
Кроме «временных», у князей определенно были и постоянные воеводы, как постоянными были их княжеские дружины и постоянной – военная опасность. Далеко не всегда для ее отражения князья собирали воев-ополченцев. Как и для походов за пределы русских рубежей. Основная тяжесть ратного дела конечно же лежала на профессиональных воинах – дружинниках и их воеводах. По существу, воеводы были своеобразным продолжением князей, исполнителями тех же функций. Это со всей отчетливостью следует из соответствующего места «Поучения Мономаха», где говорится о том, как должен поступать князь во время войны. « На войну вышедъ, не лѣнитеся, не зрите на воеводы, ни питью, ни ѣденью не лагодите, ни спанью и сторожѣ сами наряживаите, и ночь отвсюду нарядивше около вои тоже лязите, а рано встанѣте, а оружья не снимаите с себе». [296]296
ПВЛ. Ч. 1. – С. 157.
[Закрыть]Не «зрите» – означает здесь – «не полагайтесь». Следовательно, все, чем рекомендует Мономах заниматься своим детям было непосредственной обязанностью воевод.
Иногда, даже и в присутствии князя, функции военачальника исполнялись исключительно воеводами. Так, в частности, было в 1153 г., когда «мужи» галицкие, под предлогом молодости князя Ярослава Владимировича, не позволили ему принять участия в сражении с дружинами Изяслава Мстиславича под Теребовлем. По-видимому, такими же полномочиями обладал и воевода Андрея Боголюбского Борис Жидиславич во время похода 1172 г. на болгар. Несмотря на то, что в походе принимал участие и княжич Мстислав, «нарядъ весь» находился в руках воеводы. [297]297
« Борису Жидиславичю воеводе в то время нарядъ весь держащу» (ПСРЛ. Т. 1. – Стб. 364).
[Закрыть]
Значительными управленческими полномочиями располагали воеводы и в мирное время. Это определенно следует из послания митрополита Никифора великому киевскому князю Владимиру Мономаху. « Якоже бо ты, княже, сѣдя зде, в сеи своеи земли, воеводами и слугами своими дѣиствуеши по всей земли, и сам ты еси господин и князь».
Из всего сказанного выше определенно следует, что древнерусские воеводы X–XIII вв. это всегда профессиональные военные, независимо от того возглавляли они постоянные княжеские дружины, или временные ополченья, так называемых воев. На свои должности назначались исключительно князьями. Происходили из высшего боярства. Одни из них начинали свою служилую карьеру княжескими посадниками, другие завершали ее княжескими тысяцкими. Никогда не были ни представителями вечевых общин, ни выразителями их интересов. В летописи они всегда названы «княжими мужами». В правительственной табели о рангах вплоть до возвышения роли тысяцких (конец XI в.) занимали второе место.







