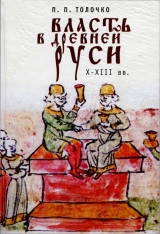
Текст книги "Власть в Древней Руси. X–XIII века"
Автор книги: Петр Толочко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Глава 7
Вече
Вечу посвящено большое число исследований. О нем писали и спорили уже первые отечественные историографы. Привлекала эта тема и зарубежных историков, уделивших ей не только попутное, но и специальное внимание. Не исчез интерес к вечу и в наше время, о чем свидетельствуют новые публикации.
За время обращения к вечу в историографии определилось три основных взгляда на его социальную природу. Согласно первому – вече являлось народным собранием, отражавшим политический суверенитет городской общины, согласно второму – являлось органом феодального управления, согласно третьему – вообще не было политическим институтом, а только понятием. Разноречивые мнения высказаны также относительно хронологии этого явления, его компетенции, характера деятельности и др.
Наиболее яркими сторонниками народоправного содержания вечевых городских собраний были В. О. Ключевский, В. И. Сергеевич, М. Д. Довнар-Запольский, А. И. Линниченко и другие. В. О. Ключевский считал вече политической силой городской общины, имевшей решительный перевес над князем. В каждой области, согласно ему, стали друг против друга две соперничавшие власти – вече и князь. Вечевые постановления старших волостных городов имели обязательную силу для его пригородов, как приговоры верховной законодательной власти в области. [428]428
Ключевский В. О.Сочинения в девяти томах. Часть 1. М., 1987. – С. 202–203.
[Закрыть]
М. Д. Довнар-Запольскому вече представлялось «всенародной сходкой в буквальном смысле этого слова». Всякий свободный житель данного города и даже земли имел право принимать в нем участие. Что касается компетенции веча избирать князей, то, согласно историку, в Древней Руси княжеские столы редко занимались вопреки народной воле. Определяя круг вопросов, подлежащих решению веча, он относил к их числу в первую очередь вопросы войны и мира. Что касается внутреннего управления, то вече хоть и имело на него сильное влияние, однако вмешивалось редко, представляя главную роль избранному им князю.
Полновластное народное собрание, согласно историку, существовало в старших городах на протяжении XI–XIII вв. Правда, несколько ниже он, по существу, поставил под сомнение это свое утверждение, сказав, что вече как соправитель князя, было только в Киеве и Новгороде, а в других княжествах оно низводилось до более или менее подчиненного по отношению к князю и его дружине положения. [429]429
Довнар-Запольский М. Д.«Вече» В сб. «Русская история в очерках и статьях». Т. 1 (под редакцией М. Довнар-Запольского). – С. 235–240, 247.
[Закрыть]
Согласно В. И. Сергеевичу, вечу принадлежала власть законодательная, правительственная и судебная, а его участниками были все свободные люди. Свою родословную древнерусское вече ведет от времен племенных народных собраний. [430]430
Сергеевич В. И.Древности русского права. Т. 2. «Вече и князь». СПб., 1908. – С. 33, 72.
[Закрыть]
А. И. Линниченко в специальной работе, посвященной вечу в Киевской земле, почти во всем следует за В. И. Сергеевичем. Согласно ему, вече – это орган народовластия с хозяйственной, административно-полицейской и политической функциями. Как и В. И. Сергеевич, полагал, что вече и князь – два одинаково существенных элемента древнерусского общественного быта, а право народа на выбор себе князя проходит через всю историю киевского веча. Развивая эту мысль, А. И. Линниченко утверждал, что в народе существовал совершенно ясный и правильный взгляд на назначение князя; это земский чиновник, избранный для исполнения тех обязанностей, которые считались специальностью княжеской семьи – военачальника и суда. Недовольный деятельностью своего князя, народ показывал ему путь от себя, т. е. изгонял его. [431]431
Линниченко А. И.Вече в Киевской области. К., 1881. – С. 55.
[Закрыть]
Более сложным институтом виделось вече Д. Я. Самоквасову и Д. И. Иловайскому. В большой работе, явившейся, по существу, ответом-рецензией на книгу В. И. Сергеевича «Вече и князь», Д. Я. Самоквасов отвел вечу компетенцию не политическую, а только общественную, местного хозяйства, управления и полиции, значение экономической, хозяйственной и административной деятельности. Причем эти функции не были порождены самодеятельностью общины, но поручались ей верховным правительством и государством. Различая вече киевское и новгородское, он писал, что киевское княжество представляло собой чистую монархию, где народ являлся в политической сфере только в исключительных случаях, тогда как новгородское – было чистой демократией. [432]432
Самоквасов Д. Я.Заметки по истории русского государственного устройства и управления. // ЖМНП. № 11 и 12. СПб., 1869.
[Закрыть]
Д. И. Иловайский считал, что на Руси было два веча – большое, собиравшееся во времена смут и безначалия, и малое, более постоянное, когда лучшие люди, т. е. городские старцы или домовладельцы, наиболее зажиточные и семейные, созывались на княжий двор для совещаний вместе с боярами и дружиной под председательством князя. [433]433
Иловайский Д. И.История России. Т. 2. М., 1880. – С. 299–301.
[Закрыть]
Большинство историков XIX в. считали вече древней еще догосударственной институцией. Пожалуй лишь В. О. Ключевский не разделял такого убеждения, полагая, что появилось оно только во время упадка авторитета князей и усиления усобиц. Главной силой, на которую опиралось вече, согласно ему, были городские массы торговцев и ремесленников. [434]434
Ключевский В. О.Сочинения. Т. 4. М., 1959. – С. 185–186.
[Закрыть]
Позже, аналогичную мысль высказал М. Н. Покровский. Древнерусские республики, писал он, начали аристократией происхождения, а окончили аристократией капитала, но в промежутке прошли стадию, которую можно назвать демократической. В Киеве она падает как раз на первую половину XII в. В этот период хозяином русских городов являлся действительно народ. [435]435
Покровский М. Н.Очерк истории русской культуры. Ч. 1. М., 1923. – С. 247.
[Закрыть]
Чрезвычайно широкой компетенцией «наделял» вечевые собрания М. А. Дьяконов. Предметами их ведомства он считал призвания князей, заключение с ними рядов-договоров, изгнание князей, вопросы войны и мира, законодательство и управление. Правда, не видел в этих народных собраниях проявление исключительного суверенитета общины. Они являлись органами государственной власти, через посредство которых народ проявлял свою волю в решении государственных дел. Полагал, что инициаторами созыва веча, чаще всего, оказывались князья, вынужденные обращаться к вечу за поддержкой по всем вопросам. На вече могли участвовать все свободные жители города. [436]436
Дьяконов М. А.Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 1912. – С. 117–124.
[Закрыть]
Не больше единодушия на природу и функции веча обнаружили и историки советского времени. Б. Д. Греков и М. Н. Тихомиров считали вече такой формой государственного управления, при которой к нему открывался широкий доступ городских низов. В представлении Б. Д. Грекова, вече – это народное собрание для обсуждения и решения важных общих дел. Не отрицая, что истоки этого института находятся в племенном периоде, он, тем не менее, утверждал, что ни в X, ни в первой половине XI века для развития вечевого строя благоприятных условий в Киеве не было. Власть князя слишком сильна, а город политически еще очень слаб. Правда, допускал, что в исключительных случаях вечевые собрания в X в. могли быть. К таким относил события 968 и 997 гг., связанные с осадой Киева и Белгорода печенегами.
Подъем и значение вечевых собраний, согласно историку, падает на вторую половину XI и на XII вв. Однако, и в этот период они проявляются не всегда. При сильной власти киевского князя значение веча падает и князь не входит в соглашения с народом, широкой городской демократией торговцев и ремесленников. И все же, Б. Д. Греков не склонен переоценивать общинное начало веча. Его деятельность являлась результатом определенного соотношения сил, при котором знать, захватившая в свои руки власть и ограничившая в своих интересах власть князей, не была в силах уничтожить народное собрание, но была достаточно сильна, чтобы превратить его в орудие своих интересов. [437]437
Греков Б. Д.Киевская Русь. М., 1953. – С. 359, 366.
[Закрыть]
М. Н. Тихомиров практически во всем, что касается веча, солидаризировался с Б. Д. Грековым. Может быть только отчетливее акцентировал мысль о том, что без признания за купеческим и ремесленным населением древнерусских городов большой политической силы, Киевская Русь останется для нас малопонятной и бедной по своему политическому содержанию. Историк не исключал даже, что вечевые решения, возможно, протоколировались, на что его натолкнула одинаковая передача вечевых споров 1147 г. в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях. [438]438
Тихомиров М. Н.Древнерусские города. М., 1956. – С. 222–224.
[Закрыть]
Оба названных историка решительно не согласились с определением веча, данным С. В. Юшковым. Для него веча были не народными собраниями, но массовыми собраниями руководящих элементов города и земли по наиболее важным вопросам. Ни в одном совещании, которое могло бы претендовать на какое-либо политическое значение, основной силой не могла быть демократическая масса города – мелкие торговцы, ремесленники, наймиты и разного рода плебейские элементы. Если бы подобного рода совещания были, и если бы этим элементам и удалось навязать свою волю феодальной верхушке, то она нашла бы силу эти решения аннулировать. Поскольку древнерусские города, по мнению С. В. Юшкова, все более и более превращаются в центры феодального властвования, всякого рода совещания, которые могли претендовать на какое-либо значение, конечно, должны быть совещаниями основных феодальных групп или групп, так или иначе связанных с феодалами – возможно с крупными торговцами и одновременно землевладельцами. С. В. Юшков считал, что вече государственного периода происходит от племенных сходок, но решительно отказывал ему в статусе постоянного органа государственной власти. На всех проявлениях деятельности веча, согласно историку, лежит печать чрезвычайности. [439]439
Юшков С. В.Очерки по истории. – С. 193–195, 204, 216.
[Закрыть]
В. В. Мавродин в понимании веча, по существу, не расходился с историками XIX в. Он утверждал, что у восточных славян в глубокой древности и в период образования Древнерусского государства все важнейшие вопросы решались на вечевых сходах. [440]440
Мавродин В. В.Образование древнерусского государства и формирование древнерусской народности. М., 1971. – С. 102.
[Закрыть]
Сословно-классовую природу древнерусского веча утверждали В. Т. Пашуто, В. Л. Янин, автор этих строк. Согласно В. Т. Пашуто, вече – это и совещание правителей города, и обособленное совещание городских «меньших» людей, и совещания князя со всей (или дружественной ему) дружиной, и тайный сговор городской знати против правящего князя, и, наконец, военный совет руководителей городского ополчения в походе. Как один из наиболее архаических институтов народовластия, вече было использовано собственниками земли и поставлено на службу государству в форме своеобразной феодальной демократии. [441]441
Пашуто В. Т.Черты политического строя. – С. 33–34.
[Закрыть]
В. Л. Янин пришел к выводу, что общегородское вече было узкоклассовым органом, в котором нет места «всему Новгороду». Оно объединяло лишь крупнейших феодалов и было не народным собранием, а собранием класса, стоявшего у власти. Новгородский вечевой строй, согласно ему, являлся образцом феодальной демократии в ее русском боярском варианте. [442]442
Янин В. Л.Проблемы социальной организации Новгородской республики. «История СССР». № 1. 1970. – С. 50–51; Его же. Новгородские посадники. М., 1962. – С. 4.
[Закрыть]
Проанализировав известия о киевском вече я также пришел к выводу, что этот, уходящий своими корнями еще в догосударственный период институт никогда не был органом народовластия, широкого участия демократических низов в государственном управлении. Руководящая роль и преимущественное представительство в нем принадлежали верхам древнекиевского населения. Низы могли принимать участие на вечевых сходках, но их роль не была определяющей, в большей мере они представляли собой своеобразные массовки в разыгрывавшихся феодальными верхами и князьями политических спектаклях. [443]443
Толочко П. П.Вече и народные движения в Киеве // Исследования по истории славянских и балканских народов. М., 1972. – С. 125–143. Он же.Вече. Социальная природа и место в структуре государственного управления // Древняя Русь. К., 1987.
[Закрыть]
Выводы о вече, как княжеско-боярском институте власти, подверглись критике со стороны И. Я. Фроянова. Приняв, без каких-либо оговорок, представление историографии XIX в. об общинном характере Древней Руси и решительно отказав ей в феодальном развитии вплоть до XII вв., он определил вече, как народоправный орган, отражавший суверенитет общины над князем и знатью и обладавший широчайшими полномочиями, вплоть до участия в выработке законов и избрании князей. [444]444
Фроянов И. Я.Киевская Русь. Л., 1980. – С. 28–43; Он же.Древняя Русь. СПб., 1995. – С. 175–271.
[Закрыть]
По ходу исследования придется обращаться к аргументации этих выводов, здесь же стоит только обратить внимание на их вполне отчетливую противоречивость. Если Русь находилась на стадии общинно-родового развития и главным правительственным ее органом было народное собрание, тогда невозможно объяснить природу народных мятежей. Что заставляло людей браться за топоры и вилы и против кого они выступали? Неужто против самих себя?
В последнее время тема древнерусского веча обрела как бы второе дыхание. Свое освещение она нашла в работах П. В. Лукина, Ю. Гранберга, Т. Л. Вилкул, А. П. Толочко.
Из работ П. В. Лукина следует, что своего взгляда на вече он так и не выработал. Сравнив их с народными собраниями поморо-балтийских славян и предположив, что на торговой площади столицы Руси существовала определенная инфраструктура (стационарная трибуна для выступлений), он не объяснил, каким образом проходили вечевые собрания в других местах Киева и его околицы. Что касается социальной сущности веча, то, не согласившись с С. В. Юшковым, В. Л. Яниным и др. об узкой сословности этого органа и предположив участие в нем также широких масс горожан, он, тем не менее, повторил известный вывод, что такие собрания созывались по инициативе князей или местной элиты и проходили под их руководством. Не пришел к какой-либо определенности П. В. Лукин и в вопросе об институциальном характере веча. В 2004 г. он утверждал, что власть вече оказывалась подчас весьма значительной, хотя оно и не было постоянно действующим, регулярно собирающимся органом. В статье, опубликованной в 2006 г., вече, как будто, и вовсе не орган власти, а своеобразное «понятие», которое применялось в источниках для характеристики активности городского населения. [445]445
Лукин П. В.Вече, «племенные» собрания и «люди градские» в начальном русском летописании // Средневековая Русь. Вып. 4. М., 2004; Его же. О социальном составе новгородского веча XII–XIII вв. По летописным данным // Древнейшие государства Восточной Европы. М., 2006.; Его же. Зачем Изяслав «възгна торгъ на гору?» // Средневековая Русь. Вып. 7. М., 2007.
[Закрыть]Как говорится, выводы на все случаи жизни.
Более последователен в своих выводах Ю. Гранберг, опубликовавший в сборнике «Древнейшие государства Восточной Европы» (2006) обширное исследование древнерусского веча. [446]446
Гранберг Ю.Вече в древнерусских письменных источниках: функции и терминология // Древнейшие государства Восточной Европы. М., 2006.
[Закрыть]Заявив в самом начале, что его целью является показать, что институт под названием «вече» не был частью государственной структуры, он затем неукоснительно следовал этой предзаданной установке. Проанализировав значительное число летописных известий о вечевой деятельности, пришел к выводу, что ничто не указывает на то, будто вече функционировало в качестве политического института и занималось вопросами высшей политики, т. е. принимало решения о лишении князей стола, об участии в княжеских военных кампаниях или выступало с военными инициативами. [447]447
Там же. – С. 33, 36, 49.
[Закрыть]
Правда, сам того не желая, он же и подверг сомнению категорическую однозначность этого вывода. Прежде всего тем, что, вслед за историками советского времени, признал руководящее положение на вече влиятельных политических сил, которые манипулировали этими собраниями в пользу нужных им решений. [448]448
«Подобные собрания несли в себе огромную потенциальную силу, и в интересах власть имущих было не допускать таких собраний, за исключением тех случаев, когда они были уверены, что смогут удержать контроль над народными массами». ( Гранберг Ю.Вече. – С. 50).
[Закрыть]В том числе и тех, которые нужны были для восстановления «сбоя в функционировании „нормальных“ органов управления с князем во главе» посредством заручительства народной поддержки. [449]449
Там же. – С. 36.
[Закрыть]Но ведь в этом и заключалась политическая институциональность веча.
Обширное монографическое исследование взаимоотношений «людей» и князя посвятила Т. Л. Вилкул. Выполнив огромный объем аналитической работы и приведя многочисленные параллели летописным описаниям веча, она, к сожалению, нисколько не приблизила объективное постижение этого явления древнерусской жизни. Более того, вообще поставила его под сомнение. Из исторической реальности перенесла в литературно-сочинительскую, по существу, в виртуальную сферу. Летописцы, убеждена исследовательница, донесли до нас не факты, а их интерпретации, причем, во многих случаях, противоречивые. Подчинив исследование идее нарративного конструирования летописцами сюжетов, Т. Л. Вилкул пришла к выводу о высокой степени манипулирования известиями о вече в древнерусских летописях, вплоть до сочинения летописцами никогда не происходивших собраний. По существу, отказала, тем самым, летописям в их исторической содержательности. И совершенно логичным кажется ее утверждение о том, что в свете такого взгляда «сам вопрос о составе и функциях веча во многом теряет смысл». Правда, руководствоваться им она не пожелала, но продолжила монографию обширной главой «Состав и функции веча». При этом, получила вполне ожидаемый результат, так и не выйдя за пределы самой же придуманного нарратива. Это неизбежно привело исследовательницу к неутешительному заключению о принципиальной невозможности определить даже в общих чертах место веча в политической системе Руси. [450]450
Вилкул Т. Л.«Людье» и князь в конструкциях летописцев XI–XIII вв. К., 2007. – С. 110–112, 217, 312.
[Закрыть]
Столь жесткая и одномерная позиция, фактически, исключает возможность какой-либо полемики не только с общим выводом книги, но и со всеми другими ее положениями, совершенно обесцененными этим выводом.
Интересную трактовку веча на Софийском дворе предложил А. П. Толочко. Проанализировав тексты Ипатьевской и Лаврентьевской летописей, он пришел к выводу, что слова последней « Сѣдоша у святое Софьи слышати» являются редакцией ипатьевского выражения «въсташа въ вечи», притом неправильно понятого. «Въсташа» здесь означает не «стали в вече», а «восстали на вече». Учитывая нервно-тревожную обстановку на вечевом собрании у Софии и последующие трагические события, такое объяснение представляется вполне реалистичным. [451]451
Толочко А. П.«Седоша слышати» или «восташа въ вечи»? Как происходило киевское вече 1147 г. // Анфологион: Власть, общество, культура в славянском мире в средние века. М., 2008. – С. 330–333.
[Закрыть]
Анализ летописных свидетельств о вече начнем со статьи 968 г., в которой, как полагал Б. Д. Греков и другие исследователи, зафиксирован первый случай созыва вечевого собрания. Состоялось оно в условиях осады Киева печенегами. Судя по тому, что судьба осажденной столицы привлекла внимание людей, не исключено, что решалась она действительно на народной сходке: « И въстужиша людье въ градѣ и рѣша». [452]452
ПВЛ. Ч. 1. – С. 47.
[Закрыть]Летописец не назвал это собрание вечем, но фактически оно было им.
Первое прямое упоминание веча находится в статье 997 г., рассказывающей об осаде печенегами Белгорода. Когда в городе начался голод, белгородцы собрали вече. « И створиша вѣче в градѣ, и рѣша: „Се хочемь помрети отъ глада, и отъ князя помочи нѣтъ; да лучше ли ны умрети вдадимся печенѣгомъ“. И тако свѣтъ створиша, и бѣ же одинъ старѣцъ не былъ в вѣчи томь, въпрошаше: „Что ради створиша вѣче людье?“». Получив ответ, что наутро люди решили сдать город, он послал « по старейшины градьския и рече имъ: „Слышахъ, яко хощете передатися печенегомъ“. Они же рѣша: „Не стѣрпять людье глада“». [453]453
Там же. – С. 87.
[Закрыть]
Из приведенного свидетельства видно, что судьбу осажденного города решали не простые люди, а городские старцы – старейшины. На вопрос не присутствовавшего на вече старца, его коллеги ответили, что решение приняли под давлением голодающих. Следовательно, «людье» следует рассматривать как силу, повлиявшую на решение веча, но никак не решающую. Из дальнейшего рассказа о хитрости старца видно, что те же городские старейшины нашли возможности изменить свое прежнее решение.

Пример с белгородским вечем несомненно применим и к Киеву. Старейшин, или городских старцев, главную силу веча приглашал на совет Владимир Святославич. С ними он, в частности, советовался по поводу принятия новой веры. « В лѣто 6495. Созва Володимеръ боляры своя и старци градьскиѣ и рече имъ». Далее следует рассказ о том, откуда приходили на Русь послы с предложением принять их веру. Аналогичный сбор бояр и старцев заслушивал своеобразный отчет русских послов, ходивших в разные страны для испытания веры.
Следующее по времени вече имело место в Новгороде в 1015 г. Его собрал князь Ярослав Владимирович для совета о походе на Киев. Перед этим произошел конфликт между новгородцами и варягами, закончившийся избиением последних на Парамоновом дворе. Ярослав встал на защиту варягов, при этом казнив нарочитых мужей « иже вяху иссякли вдрягы». Но тут пришла весть из Киева от сестры Преславы о смерти Владимира и бесчинствах Святополка и Ярославу потребовалась помощь новгородцев. « Заутра же собравъ избытокъ новгородець Ярославъ рече: „О, люба моя, дружина, юже вчера избихъ, а нынѣ быша надобе“. Утерлъ слезы и рече имъ на вечи: „Отець мой умерлъ, а Святополкъ седить Кыевѣ, извивая братью свою“». [454]454
Там же. – С. 95.
[Закрыть]Несмотря на происшедшее, новгородцы приняли решение поддержать своего князя.
Из буквального прочтения летописного свидетельства следует, что данное вече не было всегородским народным собранием, но сравнительно камерным совещанием князя и его дружины. Исследователи, предполагающие участие в нем и «более широких слоев» населения мотивируют это тем, что в поход на Киев выступили три тысячи новгородских воев. Но тогда следовало бы зачислить в участники веча и тысячу варягов, которые также вошли в состав Ярославого войска.
Наибольшее количество известий о вечевой деятельности относится ко времени между 60-ми годами XI и 50-ми годами XII в. Является ли это отражением активизации общественной деятельности в этот период или свидетельством большей источниковой полноты, связанной с расширением русского летописания, сказать сложно. Ясно только, что однозначно связывать это с ослаблением княжеской власти, как это имеет место в литературе, вряд ли корректно. Во второй половине XII – 40-е годы XIII в. она не была более прочной, однако упоминания деятельности веча в это время становятся редкими.
Неизменный интерес исследователей представляют свидетельства о вечевой деятельности в Киеве 1068–1069 гг. Первое состоялось после того, как князья Изяслав, Святослав и Всеволод потерпели сокрушительное поражение на р. Альте. Святослав бежал в Чернигов, а Изяслав и Всеволод в Киев. Вслед за ними прибежали в столицу и остатки их войска, которые и собрали вече на Подоле. « И людье кыевстии прибѣгоша Кыеву, и створиша вѣче на Торговищи, и рѣша, пославшеся ко князю: „Се половцы росулися по земли; дай, княже, оружье и кони, и еще бьемся с ними“». [455]455
Там же. – С. 114.
[Закрыть]
Для определения социальной сущности данного веча, по мнению исследователей, определяющее значение имеет состав собравшихся на Подоле. Согласно Л. В. Черепнину, под людьми киевскими летописец подразумевал, вероятно, горожан, городское торгово-ремесленное население, на что указывает и место собрания. [456]456
Черепнин Л. В.Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. – С. 175.
[Закрыть]И. Я. Фроянов, после разноречивых утверждений, в том числе и о поголовном истреблении или угоне в плен киевских воев, неожиданно пришел к выводу, что за термином «людье киевские» угадываются скорее и остатки киевского ополчения, и обитатели сел Киевской земли. [457]457
Фроянов И. Я.Древняя Русь. – С. 175.
[Закрыть]Не подкрепив свое предположение даже косвенными аргументами, он затем использует его как непреложный факт и уже на нем основывает вывод, что «в центре этих событий находится киевская вечевая община». [458]458
Там же. – С. 176.
[Закрыть]
Наверное, в столь трудное для Руси время, в вече на подольском «Торговище» могли быть не только вернувшиеся из неудачного похода на половцев киевские дружинники и вои, но и городские низы. Но для определения характера вечевого собрания важно не кто присутствовал на нем, а кто его организовал и руководил им. Здесь же, если не прибегать к насилию над источником, все достаточно ясно. Летописец определенно пишет, что вече собрали те киевские люди, которые прибежали от Альты. Они же и выставили Изяславу требование дать им оружие и коней, которые потеряли на поле боя. Выражение «и еще бьемся с ними» не допускает иного толкования, как только «еще раз сразимся с прловцами». В устах киевлян или жителей киевских сел, которые не участвовали в походе, такая фраза была бы немыслимой. Как собственно и требование выдать оружие и коней. По крайней мере с точки зрения И. Я. Фроянова, считающего, что на Руси все свободное население было вооружено, а следовательно имело и коней.
Отказ Изяслава удовлетворить требование веча объяснялся, как правило, его опасениями, что оружие могло быть использовано против княжеской администрации. Исключить такое действительно невозможно, но более корректное объяснение предложил Л. В. Черепнин, полагавший, что коней и оружия у князя просто не было. [459]459
Черепнин Л. В.Общественно-политические отношения. – С. 175.
[Закрыть]Еще раньше аналогичную мысль высказал И. А. Линниченко, согласно которому в Изяслава не было специальных арсеналов, из которых ополченцы получали оружие перед боем и сдавали его после окончания. Вооружение у земства было всегда свое собственное, независимое от князя. [460]460
Линниченко И. А.Вече в Киевской области. Киев. 1881. – С. 18.
[Закрыть]
На этом основании я высказал еще в 1972 г. предположение, что в действиях веча чувствовалась чья-то организующая и направляющая рука. Изяславу было поставлено заведомо невыполнимое требование, чтобы вызвать недовольство киевлян. Тогда же я сослался на мнение Л. В. Алексеева, считавшего, что антиизяславову группировку возможно составили лица некиевского происхождения, вероятно полочане. Именно им принадлежал призыв к освобождению из поруба полоцкого князя Всеслава. [461]461
Алексеев Л. В.Полоцкая земля. М., 1966. – С. 244–248.
[Закрыть]Изгнание из Киева Изяслава и водружение на его стол Всеслава является убедительным подтверждением корректности такого предположения.
И. Я. Фроянов решительно возразил против того, что в действиях веча чувствуется чья-то руководящая рука, хотя и не подверг критике аргументы такого предположения. Нельзя же считать таковой его призыв не «лишать самостоятельности рядовых киевлян». Правда, несколько выше и сам не исключил наличие этой «руководящей руки», когда заявил, что начавшееся после веча восстание было не стихийным, но организованным выступлением. [462]462
Фроянов И. Я.Древняя Русь. – С. 176–177.
[Закрыть]
Своеобразным продолжением веча 1068 г. явилось вече 1069 г. Собралось оно после того, как Всеслав, вышедший с киевлянами навстречу Изяславу и его польским союзникам к Белгороду, под покровом ночи «утаися киян», позорно бежал в свой Полоцк. Киевляне возвратились в Киев и, как и год назад, созвали вече. « И створиша вѣче, и послашася къ Святославу и къ Всеволоду, глаголюще: „Мы уже зло створили есмы, князя своего прогнавше, а се ведеть на ны Лядьскую землю, а поидѣта в градъ отца своего“». В случае отказа, они грозили зажечь город и уйти в Греческую землю. [463]463
ПВЛ. Ч. 1. – С. 115–116.
[Закрыть]
Конечно, ни о каком общегородском народном собрании в данном случае не может быть и речи. Вече собрали те киевляне, которые отправились с Всеславом к Белгороду сражаться с силами Изяслава. Следовательно, сторонники полоцкого князя, которые и признаются в своем клятвоотступном грехе перед Изяславом. Как предполагал М. Д. Приселков, в вече, возможно, принимали участие и представители крупного киевского купечества, в пользу чего говорит угроза зажечь город и уйти в Греческую землю.
О том, кто верховодил в киевских вечах 1068–1069 гг., можно заключить на основании расправ, учиненных Изяславом над виновниками своего изгнания. Как свидетельствует летописец, посланный для усмирения киевлян сын Изяслава Мстислав « исѣче кияны, иже бѣша высекли Всеслава, числом 70 чади, а другыя слѣпиша, другыя же вез вины погуби, не испытавъ». [464]464
Там же. – С. 116.
[Закрыть]
Под термином «чадь» или «нарочитая чадь» в летописи всегда подразумевается дружина или вооруженная личная охрана князя, боярина. Владимир Святославич после принятия христианства велел « поимати у нарочитые чади дѣти, и даяти на ученье книжное». [465]465
Там же. – С. 81.
[Закрыть]В летописи упоминается «Ратиборова чадь» – дружина киевского боярина Ратибора, «Мирошкина чадь» – личная охрана новгородского посадника Мирошки. М. Н. Тихомиров, а вслед за ним и Л. В. Черепнин, чтобы подчеркнуть классовый характер восстания 1068 г., предположили, что в данном случае под словом «чадь» подразумевается народ, широкие круги населения. [466]466
Тихомиров М. Н.Крестьянские и городские восстания на Руси XI–XIII вв. М., 1945. – С. 95; Черепнин Л. В.Общественно-политические отношения. – С. 178.
[Закрыть]
Думается, что аргументировать направленность движения 1068 г. столь сомнительным предположением о том, кто скрывается под термином «чадь», вряд ли возможно. Вернее думать, что здесь речь идет о какой-то части дружины Изяслава, принявшей сторону восставших и участвовавшей в освобождении Всеслава. Представителей же широких слоев киевского населения следует видеть в ослепленных и погубленных. Но как раз они, по свидетельству летописца, возможно очевидца событий 1068–1069 гг., пострадали без вины.

Как известно, расправы Изяслава не избежал даже такой влиятельный церковный деятель Руси, как Антоний – основатель Киево-Печерского монастыря, что также свидетельствует, по-видимому, об особой роли в событиях 1068 г. полоцко-черниговской партии.
Согласно Ю. Гранбергу, собравшиеся в 1068 и 1069 гг. горожане не принимают никаких политических решений, а действуют спонтанно. [467]467
Гранберг Ю.Вече в древнерусских письменных источниках. – С. 34.
[Закрыть]Если бы сказанное относилось только к простым горожанам, принимавшим участие в вечевых сходках, то с ним можно бы и согласиться. Но исследователь определенно имеет ввиду всех участников веча, что не позволяет безоговорочно признать отсутствие в их решениях политического смысла. В 1068 г. он свелся к тому, что Изяслав вынужден был покинуть Киев, а на великокняжеском столе киевляне посадили Всеслава. Главным вечевым решением 1069 г. было не допустить оккупации Киева поляками, с чем участники веча обратились к Святославу и Всеволоду.
В описании событий 1068–1069 гг. имеются две подробности, неизменно привлекающие внимание исследователей. Это свидетельства о разграблении великокняжеского двора и о переносе Изяславом торга на гору. Для многих они неоспоримые аргументы в пользу того, что в вечевых собраниях и мятеже принимали участие демократические низы Киева.
В свое время я высказал предположение о возможно литературном происхождении версии о разграблении княжеской резиденции. Оно вызвало резкое неприятие со стороны И. Я. Фроянова, полагающего, что нет оснований ставить под сомнение свидетельство летописца. Правда, при этом никак не прокомментировал не очень естественную ситуацию практически одновременного прославления Всеслава на княжем дворе и грабеж его новой резиденции.
Вот как об этом пишет летописец. « Изяслав же се видѣвъ со Всеволодомъ побѣгоста з двора, людье же высѣкоша Всеслава ис поруба, въ 15 день семтября, и прославиша и средѣ двора къняжа. Дворъ жь княжь разграбиша, бесчисленое множьство злата и сребра, кунами и бѣлью». [468]468
ПВЛ. Ч. 1. – С. 114–115.
[Закрыть]Буквальное прочтение текста показывает, что грабеж княжеской резиденции совершился после посажения Всеслава на киевском столе. Киевляне сначала прославили Всеслава, а затем принялись грабить место его посажения. Но даже если последовательность описываемых событий была и обратной, она все равно порождает сомнения в адекватности изображенной летописцем картины.
Разноречивые мнения вызывает и свидетельство о переносе торга на гору. В. Т. Пашуто полагал, что этой акцией Изяслав преследовал цель затруднить влияние купечества на черных людей, [469]469
Пашуто В. Т.Черты политического строя. – С. 26.
[Закрыть]что представляется вполне корректным. Мысль эту впоследствии повторили и другие исследователи, правда, некоторые как собственные откровения. [470]470
Лукин В. П.Вече, «племенные» собрания и «люди градские». – С. 113.
[Закрыть]
Принципиально отличную трактовку летописного известия предложил И. Я. Фроянов. Согласно ему, это была уступка Изяслава, вынужденного принять как реальность политическую мощь местной общины. Главное в переносе киевского торга заключалось не в перемещении собственно торжища, а в переводе веча поближе к собору св. Софии и княжеской резиденции – сакрально значимым местам города. [471]471
Фроянов И. Я.Древняя Русь. – С. 194. Такое утверждение было бы невозможным, знай историк историческую топографию Киева. Торговая площадь Верхнего Киева находилась не «поближе к собору св. Софии», а рядом с Десятинной церковью.
[Закрыть]
Конечно, это достаточно вольная интерпретация. Если бы состоялся перенос места вечевых собраний, то летописец так бы и сказал. Но сказать этого он не мог по той простой причине, что Торговище не являлось местом постоянных вечевых сходок. Это следует уже из летописного уточнения, что прибежавшие в Киев вои « створиша вече на Торговище». Если бы последнее являлось традиционным местом веча, в такой привязке не было бы смысла. Но в том-то и дело, что в Киеве не было строго определенного места для веча, а поэтому перевести то, чего не существовало в реальности, невозможно. Из целого ряда вечевых собраний в Киеве, о которых имеются сведения в летописи только о двух можно сказать, что они состоялись на подольском Торговище. Причем, о втором, собравшемся в 1146 г. у Туровой божницы, с определенной долей условности.







