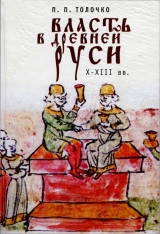
Текст книги "Власть в Древней Руси. X–XIII века"
Автор книги: Петр Толочко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
По существу, с аналогичной повесткой дня прошел княжеский съезд, собранный Юрием Долгоруким в 1149 г., вскоре после своего первого утверждения в Киеве. На нем присутствовали черниговские князья Владимир Давыдович и Святослав Ольгович, а также сыновья Долгорукого Ростислав, Андрей, Борис, Глеб и, возможно, Василько. Съезд понадобился Юрию Долгорукому для того, чтобы придать юридическую легитимность перераспределению столов между своими сыновьями, а также восстановить территориально-владельческие права Святослава Ольговича, нарушенные Изяславом Мстиславичем. « И тако ся уладивше, – подытожил свой рассказ летописец, – разъѣхашася». [171]171
ПСРЛ. Т. 2. – Стб. 384.
[Закрыть]
Еще один княжеский съезд состоялся в 1155 г., когда Юрий в очередной раз занял киевский стол. « Тогда же Дюрги иде на снемъ съ Изяславомъ съ Давыдовичемъ и съ Святославомъ съ Ольговичемъ, и ту сняшася у Лутавы». И вновь главным вопросом на нем было установление мира с оппозиционными князьями. « Тогда же Гюрги въда Изяславу Корческъ, а Святославу Олговичу Мозырь, и ту уладивъся с нима иде въ свой Киевъ». [172]172
Там же. – Стб. 481–482.
[Закрыть]
С княжеского съезда начал свое правление в Киеве и Ростислав Мстиславич. В летописной статье 1160 г. Ипатьевской летописи говорится: « Том же лѣтѣ снимася Ростиславъ съ Святославомъ Олговичемъ Моровийски, месяца мая въ первый день. Бысть же съѣздъ ею на великую любовь». [173]173
Там же. – Стб. 504.
[Закрыть]Летописец не говорит о присутствии на этой встрече других князей, тем не менее называет ее съездом. Судя по формуле «на великую любовь», старшие князья в стане Мономаховичей и Ольговичей достигли согласия прежде всего по вопросу принадлежности киевского стола. Это было тем более важно, что перед Ростиславом в Киеве короткое время сидел Изяслав Давыдович и черниговские князья могли представлять новому князю серьезную оппозицию.
Аналогичные встречи с князьями – Ольговичами происходили и тогда, когда на великом киевском столе утверждался их сородич. Так было при Изяславе Давыдовиче, собравшем в Лутаве в 1159 г. Святослава Ольговича, его сына Олега, Игоря Всеволодовича и Владимира Святославича, а также при Святославе Всеволодовиче, призвавшем в Любечь в 1180 г. свою братию. О том, что это были не просто дружеские встречи свидетельствуют скупые летописные ремарки. В первом случае сказано, что князья достигли полного взаимопонимания («бысть любовь велика межи ими»). Во втором – содержится конкретная ссылка на заключение каких-то договоров. « Иде Святославъ к Любчю и призва к собѣ братью свою, Ярослава, Игоря, Всеволода; ряды ему деющю». [174]174
Там же. – Стб. 613.
[Закрыть]Еще об одной княжеской встрече в таком же составе летопись сообщает под 1194 г. На этот раз великий киевский князь собрал свою братию в Рогове « и поча с ними думати, хотя на рязаньскии князи, бяхуть бо имъ рѣчи про волости». [175]175
Там же. – Стб 679.
[Закрыть]Замысел Святослава не получил воплощения, поскольку не был поддержан Всеволодом Юрьевичем, но определенно обусловливался какими-то территориальными спорами.
Обстоятельное известие о съезде князей находится в статье 1195 г. Оставшись после смерти Святослава Всеволодовича единоличным великим князем, Рюрик Ростиславич пригласил в Киев на совет своего брата Давыда, княжившего в Смоленске. В приглашении ему сказано, что поскольку они остались старейшинами в Русской земле, им необходимо обсудить взаимоотношения в Володимерем племени. « Брате, се вѣ осталася старѣши в Руской землѣ, а поѣди ко мнѣ Кыеву; что будеть на Руской землѣ думы и о братьи своей, о Володимерѣ племени, и то все укончаевѣ». [176]176
Там же. – Стб. 681.
[Закрыть]Затем, после обмена взаимными обедами и подарками, князья, как утверждает летописец, « ряды вся уконча о Руской землѣ и о братьи своей, о Володимерѣ племени». [177]177
Там же. – Стб. 682.
[Закрыть]
С похожей повесткой дня состоялся княжеский съезд 1205 г. в днепровском городе Треполе. Сообщение о нем в Лаврентьевской летописи содержится после рассказа об успешном походе южнорусских князей на половцев. Судя по летописному свидетельству, в Треполе собрались не все участники антиполовецкого похода. С уверенностью можно говорить о четырех князьях: Рюрике Ростиславиче, двух его сыновьях Ростиславе и Владимире, а также о Романе Мстиславиче. Главной их заботой, как подчеркнул летописец, было « мироположение въ волостехъ», которое основывалось на личных заслугах каждого из участников съезда перед Русской землей: « Кто како терпелъ за Рускую землю». [178]178
ПСРЛ. Т. 1. – Стб. 420.
[Закрыть]Имелись ли ввиду заслуги князей в последнем победном походе на половцев или же совокупные за все время их княжений, сказать сложно.
С уверенностью можно только утверждать, что критерий этот не сработал. Роман Мстиславич, надеявшийся на свое первенство в этом «терпении» и не удостоившийся такой чести, решил захватить власть над всей Русской землей. Рюрика Ростиславича он насильно постриг в монастырь, а его сыновей – Ростислава и Владимира – пленил и увез с собой в Галичину. Сам, таким образом, стал, фактически, и князем киевским.
Такой поворот событий не понравился Всеволоду Большое Гнездо. Он немедленно отправил к Роману своих послов с требованием отпустить сыновей Рюрика и согласиться с тем, что на киевском столе сядет его зять Ростислав. Как заметил летописец, « Романъ же послуша великого князя и зятя его пусти, и бысть князь Киевьскый». [179]179
Там же.
[Закрыть]
На съезде князей – Ольговичей и Ростиславичей, состоявшемся в Чернигове в 1206 г., обсуждался их коллективный поход на Галич. « Совокупишася Олговичи вси в Черниговъ на снемъ, Всеволод Чермны с своею братьею, и Володимеръ Игоревичь с своею братьею, и Мстислав Романовичь из Смолиньска приде к нимъ с своими сыновци». В какой мере решения этого съезда обязывали великого киевского князя Рюрика Ростиславича, сказать трудно, но только он со своими сыновьями Ростиславом и Владимиром также принял участие в этом походе. Как и на съезде князей Володимерового племени 1195 г., в Чернигове, по-видимому, обсуждался вопрос о замещении галицкого стола. Это следует из дальнейшего рассказа летописи. Галичане, опасаясь, что с уходом венгерского короля, русские князья продолжат свой поход на Галич, пригласили на его стол черниговского князя Владимира Игоревича. Еще раньше король, надо думать, не без согласия галицких бояр, пригласил в Галич переяславского князя Ярослава Всеволодовича – сына Всеволода Большое Гнездо. Тот поспешил в Галич, но за три дня до него там утвердился Владимир Игоревич.
Кроме вопросов внутреннего устройства, на княжеских съездах периодически обсуждалась проблема войны и мира с половцами. Причем, не только на раннефеодальном этапе истории Руси, но и в период феодальной раздробленности. Летописные свидетельства о трудных взаимоотношениях с половцами убедительно показывают, что, несмотря на сепаратистские тенденции удельных князей и привлечения для внутренних разборок половцев, на Руси сохранялось представление о том, что борьба со степняками являлась общей задачей всех русских князей. Как собственно и то, что возглавлять ее должен великий киевский князь.
Первый съезд, на котором эта проблема получила общерусское звучание, состоялся в 1101 г. в Киеве на Золотче. На него прибыли киевский князь Святополк, переяславский – Владимир, черниговские – Давыд, Олег и Ярослав. Сюда же прибыли и половецкие послы, как отметил летописец, « ото всѣхъ князь къ всей братьи», которые запросили мира. Князья приняли предложения половецких ханов и определили местом заключения соглашения заднепровский городок Саков. « И сняшася у Сакова, – записал летописец, – и створиша миръ с половцы и пояша таль межи собою, мѣсяца семьтября въ 15 день, и разидошася разно». [180]180
ПВЛ. Ч. 1. – С. 182.
[Закрыть]Летописец не объяснил, для чего нужно было заключать мирный договор непременно в Сакове, но, можно думать, таким было условие половецких ханов, которые опасались идти в Киев.

В летописи нет сведений о том, что половцы нарушили свои обязательства не воевать с русскими, но очевидно было именно так. Иначе невозможно объяснить новый съезд князей на Долобском в 1103 г. Он был менее представительным, чем предыдущий, но принятые на нем решения Святополком Изяславичем и Владимиром Всеволодовичем, судя по последующим событиям, имели обязательную силу для остальных южнорусских князей. В поход на половцев выступили Святополк, Владимир, Давыд Святославич, Давыд Всеславич, Мстислав Давыдович, Вячеслав Ярополкович и Ярополк Владимирович. Не принял в нем участия только Олег Святославич, известный своими дружескими связями с половцами. Правда, свой отказ он объяснил болезнью: «не здоровлю».
Аналогичные коллективные походы на половцев были предприняты в 1107 и 1111 гг. Летописец не сообщает о том, что им предшествовали княжеские съезды, но трудно себе представить, чтобы столь грандиозные военные предприятия не были предварительно обсуждены. Правда, перед походом 1111 г. князья Святополк и Владимир, после обмена грамотами, таки встретились друг с другом. Их решение было поддержано черниговским князем Давыдом Святославичем. В поход три старших князя в Южной Руси привлекли и своих сыновей.
Принципиально не изменилась ситуация с организацией обороны страны от половецких вторжений и в период феодальной раздробленности Руси. Об этом свидетельствует, в частности, грандиозный поход русских князей на половцев в 1167 г. Согласно летописному известию, целью его было обезопасить прохождение купеческих караванов, следовавших по Греческому и Залозному торговым путям. В нем приняли участие дружины двенадцати князей. Свои полки выставили даже Смоленск и Галич. Сбор князей, по настоянию Ростислава Мстиславича, состоялся в Киеве, на котором, несомненно, была обсуждена стратегия и тактика этого похода [181]181
« В лѣто 6676. Посла Ростислав къ братьи своей и к сыномъ своимъ, веля имъ всимъ съвъкупитися у себе съ всими полкы своими. И приде Мьстиславъ из Володимири, Ярославъ братъ его из Лучьска, Ярополкъ из Бужьска, Володимиръ Андреевичь, Володимиръ Мьстиславичь, Глѣб Гюргевичь, Рюрикъ, Давыд, Мьстиславъ, Глѣбъ Городеньский, Иванъ Ярославичь сынъ и галичьская помочь». ПСРЛ. Т. 2. – Стб. 527–528.
[Закрыть].
О большом княжеском съезде, обсуждавшем вопросы войны и мира с половцами, рассказывается в летописной статье 1170 г. на этот раз инициатором его выступил великий киевский князь Мстислав Изяславич. « И съзва братью свою и нам а думати с ними, река имъ тако: „братье, пожальтеси о руской земли и о своей отцинѣ и дѣдинѣ, оже несуть хрестьяны на всяко лѣто у вежѣ свои, а с нами роту взимаюче, всегда переступаюче: А уже у насъ и Греческий путь изъотымають, и Соляный и Залозный, а лѣпо ны было, братье, възрече на Божию помощъ и на молитву святоѣ Богородици, поискати отець своихъ и дѣдъ своих пути и своей чести“». «Благая весть» Мстислава Изяславича нашла горячий отклик у его братии, а их общее решение о походе на половцев обрело обязательную силу. « И всимъ угодна бысть дума его, Мьстиславля». [182]182
Там же. – Стб. 538.
[Закрыть]В походе приняло участие не менее тринадцати князей, представлявших практически все южнорусские княжества, а также Смоленское.
В годы правления в Киеве дуумвиров Рюрика Ростиславича и Святослава Всеволодовича аналогичные походы в степь состоялись в 1183, 1185, 1187, 1192 годах. Летописец представляет их как результат совместных дум киевских князей, но поскольку круг участников этих походов был значительно шире, можно думать, что и число собиравшихся в Киеве князей не ограничивалось только Рюриком и Святославом. В статье 1183 г., в частности, сказано, что после того как Бог вложил в сердце киевским князьям мысль пойти на половцев, они послали по окольных князей, а те «совокупишася к нима». [183]183
« Того же летѣ Богъ вложи въ сердце Святославу князю Кневьскому и великому князю Рюрикови Ростиславичю и поити на половцѣ, и посласта по околниѣ князи и совокупишася к нима: Святославича Мьстиславъ и Глѣбъ, и Володимѣръ Глебовичь ис Переяславля, Всеволодъ Ярославичь из Лучьска с братомъ Мьстиславомъ, Романовичь Мьстислав, Изяславъ Давыдовичь и Городеньский Мьстиславъ, Ярославъ князь Пиньский с братомъ Глѣбомъ, из Галича от Ярослава помочь». ПСРЛ. Т. 2. – Стб. 630–631.
[Закрыть]
Обязательность съездовских решений зиждилась не только на моральных принципах, но также и на юридических нормах. Об этом мы узнаем из свидетельства летописной статьи 1177 г. Посланные великим киевским князем Романом Ростиславичем полки против половцев потерпели сокрушительное поражение у городка Ростовца. Причину его современники видели в том, что в сражении не принял участия брат Романа Давыд: « Давыдъ же бяше не притяглъ». Претендент на великое княжение Святослав Всеволодович решил воспользоваться благоприятным случаем и предъявить Роману претензию за несоблюдение ряда. « Молвяше же Романови Святославъ: „Брате, я не ищю подъ тобою ничего же, но рядъ нашь такъ есть, оже ся князь извинить, то въ волость, а мужь у голову, а Давыд виноватъ“». [184]184
Там же. – Стб. 603–604.
[Закрыть]
Соблюдение этого «ряда», судя по обращению Святослава, было обязанностью великого князя. Роман не стал лишать Давыда волости, чем проявил свою великокняжескую несостоятельность и, по мнению черниговского князя, сам заслуживал наказания. Собрав войско, Святослав пошел на Киев и изгнал из него Романа.
Большой общерусский съезд князей, обсуждавший вопрос участия русских в борьбе с половцами, состоялся в Киеве в 1223 г. Кроме Мстислава Романовича, Мстислава Мстиславича и Мстислава Святославича, бывших старейшинами в Руской земле, на съезд собрались, как пишет летописец, « млади князи: Данилъ Романовичь, Михаилъ Всеволодичь, Всеволодъ Мьстиславичь инии мнози князи». Из старших князей на съезд в Киев не прибыл только суздальский князь Юрий Всеволодович, хотя, по-видимому, участие его также предполагалось. Если бы нет, летописец не стал бы отмечать факт его отсутствия: « Юрья же князя великого Суждальского не бы в томъ свѣтѣ». [185]185
Там же. – Стб. 741.
[Закрыть]
Князья собрались в Киеве для достижения соглашения об оказании помощи половцам, которые подверглись нападению монголо-татар. Были единодушны в своем решении выступить в поход, которое мотивировали тем, что « луче ны бы есть прияти я на чюжеи землѣ, нежели на своеи». [186]186
Там же.
[Закрыть]Летописец не называет численного состава русских дружин, выступивших в поход, но, судя по его косвенным замечаниям, он был очень значительным. Только галицкие вои приплыли к днепровским порогам на тысяче лодьях. Кроме них в русском войске находились полки киевские, черниговские, смоленские, волынские, курские и др.
Последний княжеский съезд состоялся в Киеве в 1230 г. Формальным поводом к нему, возможно, явились торжества по освящению епископа Ростовского Кирилла в Софийском соборе, но фактически князья прибыли в Киев на сонм. Причем, судя по ремарке летописца, как будто даже независимо от церковных дел. « Бяхуть же в то время инии князи Русьстии на сонмѣ в Кыевѣ: Михаила князь черниговьскый, и сынъ его Ростиславъ, Мстиславъ Мстиславич, Ярославъ, Изяславъ и Ростиславъ Борисовичь, и ини мнози князи». [187]187
ПСРЛ. Т. 1. – Стб. 457.
[Закрыть]Выше летописец назвал киевского князя Владимира Рюриковича и его сына Ростислава.
О чем совещались южнорусские князья в данном летописном сообщении не сказано. Однако, судя по предыдущему рассказу, их, скорее всего волновали взаимоотношения черниговского князя Михаила и владимиро-суздальского Ярослава Всеволодовича. Не исключено, что результатом этого сонма была отсылка посольства к Юрию Всеволодовичу с просьбой мира Михаилу Черниговскому. Это тем более вероятно, что посольство это возглавил преосвященный митрополит всея Руси Кирилл. « Си три(епископ черниговский Порфирий, игумен монастыря спаса на Берестовом и «муж Володимерь Гюргий» – П.Т.) приходиша с митрополитомъ, прося мира Михаилу сь Ярославомъ, бѣ бо Михаилъ не правъ в крестномъ целовании при Ярославѣ, и хотяше Ярославъ ити на Михаила». [188]188
Там же. – Стб. 455.
[Закрыть]
Приведенные примеры общерусских княжеских съездов определенно не являются исчерпывающими. Здесь не учтены те снемы князей, которые имели место во время военных походов в степь или против князей, нарушавших внутренний мир. К тому же, не все съезды получили освещение в летописях. В пользу сказанного свидетельствует, в частности, надпись на стене Софийского собора в Киеве: « Месяца декембря въ 4-е сътвориша миръ на Желяни Святополкъ, Володимир и Ольгъ». С. А. Высоцкий датировал заключение этого мира временем княжения Святополка Изяславича (1093–1113). [189]189
Высоцкий С. А.Средневековые надписи Софии Киевской XI–XVII вв. К., 1976. – С. 211, 221.
[Закрыть]
В последнее время особое внимание исследователями уделяется обрядовой или этикетной стороне междукняжеских взаимоотношений. С кем князья собирались на съезды, где находились, как пировали, что дарили один другому, как клялись на кресте и др. [190]190
Ричка В. М.Політична етика і культура міжкнязівських взаємин на Русі у вимірі релігійної традиції хрестоцілування //Любецький з’їзд князів. – С. 35–37; Стефанович П. С.Крестоцелование и отношение к нему церкви в Древней Руси // СР. 2004. вып. 5. – С. 86–113; Щавелёв А. С.Съезд князей. – С. 276–278.
[Закрыть]Разумеется, это любопытно, хотя придавать всему этому излишнюю сакральность вряд ли следует. Даже и самому крестоцелованию, которое, как утверждает А. С. Щавелёв, нельзя было нарушать и невозможно искупить грех его попрания. [191]191
Щавелёв А. С.Съезд князей. – С. 277.
[Закрыть]
Еще как можно было. Князья легко клялись на кресте и легко же нарушали свои клятвы, вовсе не заботясь тем, чтобы «передать» их какому-либо духовному пастырю. Пример Мстислава Владимировича кажется единственный в этот роде. Значительно чаще они относились к этому ритуальному действию так, как галицкий князь. На замечание посла Изяслава Мстиславича, что Володимерко целовал крест к « брату своему къ Изяславу» тот ответил циничной фразой: « Сии ли крестець малый?».
Главный смысл съездовских встреч князей конечно же не в этикетной обрядовости, а в политической содержательности, месте в государственной системе власти. Именно так они рассматривались в историографии советского периода, хотя, чаще всего, исследователи видели в них не свидетельства государственного единства Руси, а ее распада. Согласно Б. Д. Грекову, княжеские съезды оказались неспособными примирить противоречивые интересы феодальных владетелей. Сильный феодал имел возможность игнорировать постановления съездов. [192]192
Греков Б. Д.Киевская Русь. – С. 501.
[Закрыть]Близкие мысли высказал и Б. А. Рыбаков, по которому княжеские съезды не были средством выхода из кризиса, а их благородные принципы не имели гарантий. [193]193
Рыбаков Б. А.Киевская Русь. – С. 449.
[Закрыть]
На этих жестких выводах, по-видимому, сказалось убеждение советских историков в том, что так называемая феодальная раздробленность Руси была несовместима с ее государственным единством. Рубежным в этом отношении считался Любечский съезд, на котором, как думал Б. Д. Греков, было констатировано наличие нового политического строя. Владимир Мономах, согласно ему, предпринял попытку удержать Русь от расчленения, но она не имела продолжения. Б. А. Рыбаков прибавил к этому еще и время княжения Мстислава Владимировича, после чего Русь будто бы окончательно разделилась на 15 суверенных княжеств-королевств. [194]194
Рыбаков Б. А.Обзор общих явлений русской истории IX – середины XIII в. // Вопросы истории. 1962. № 4; Его же. Русь в эпоху «Слова о полку Игореве». Обособление русских княжеств в XII – начале XIII вв. В кн.: История СССР. Т. 1. М., 1966.
[Закрыть]
Между тем, ни на Любечском съезде, ни после него, не произошло ничего такого, что бы давало основания утверждать о наступлении нового политического строя. Призыв « каждо да держить отчину свою» был злободневен для Руси и до Любечского съезда. Впервые, о чем шла речь выше, был заявлен и реализован сыновьями Владимира Святославича Ярославом и Мстиславом в 1026 г., поделившими отцовское наследие на две части, а затем и Ярославом Мудрым, разделившим Русскую землю на три удела. Аналогичные призывы будут звучать и после Любечского съезда, что определенно является свидетельством сосуществования на Руси не только системы вотчинного права, но и старейшинства в различных его видах. Старейшинства от отца к сыну, от старшего брата к младшему, старейшинства княжеской ветви, старейшинства киевского стола.
И, наконец, было еще представление о единородности и равноправности князей, которое являлось основой для так называемых «родового» и «коллективного» княжеских суверенитетов над Русью. [195]195
Назаренко А. В.Родовой сюзеренитет Рюриковичей над Русью (X–XI вв.) // Древнейшие государства на территории СССР. 1985. М., – С. 149–157; Пашуто В. Т.Черты политического строя древней Руси // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. – С. 73–76.
[Закрыть]В сущности, что было уже отмечено в литературе, несмотря на определенные терминологические новации обе эти концепции являются традиционными для отечественной исторической мысли. [196]196
Толочко А. П.Князь в Древней Руси. – С. 54.
[Закрыть]В их основе теория «родового владения» С. М. Соловьева или «семейного владения» А. Е. Преснякова. Историки, обосновавшие эти суверенитеты, почему-то ограничили их во времени: родовой, будто бы, имел место только на первом этапе истории Руси, а коллективный – на втором. Такое хронологическое их соотнесение представляется некорректным, поскольку коллективный владельческий статус княжеского рода Рюриковичей с X по XIII в. не претерпел принципиальных изменений.
Не случайно, многие князья претендовали и получали в старой Русской земле так называемые «части» или наделы (Всеволод Юрьевич, Роман Мстиславич, Мстислав Мстиславич). По существу, претензии на «причастие» основаны в том числе и на вотчинном праве. Князь уже давно и прочно сидел в своей земле, но знал, откуда он родом и поэтому претендовал если не на Киев, то хотя бы на какую-то часть владений в великокняжеском домене, как общем родовом наследии. Юрий Долгорукий, на изгнание из Русской земли его сына Ростислава, воскликнул: « Тако ли мнѣ части нѣту в Рускои земли и моимъ дѣтемъ». [197]197
ПСРЛ. Т. 2. – Стб. 374.
[Закрыть]
Отражением коллективного сюзеренитета являлись княжеские съезды, которые, несмотря на их нерегулярность, все же можно считать высшим законодательно-распорядительным органом страны.
Одним из проявлений коллективного сюзеренитета являлось соправительство на киевском столе. Особенно когда на нем утверждались представители двух соперничавших за обладание Киевом княжеских ветвей.
Может показаться парадоксальным, но в одном ряду с различными формами старейшинства и коллективного сюзеренитета находилась и вотчинная система, так и не приведшая к независимому существованию русских княжеств. Прежде всего потому, что не обрела четких правовых понятий. Каждый удельный князь мог применить отчинное право не только к конкретной волости, перешедшей ему непосредственно от отца, но и к другой, где когда-либо княжил его отец или дед, и даже к Киеву, на столе которого сидели представители различных ветвей княжеского рода.
Система отчины не могла являться антитезой единству Руси и в том случае, если бы зиждилась исключительно на нерушимой наследственности уделов. Ведь кроме малой на Руси всегда сохранялось понятие большой отчины, принадлежавшей всему правящему княжескому роду, происходящему от единого прародителя.
Именно так представляла Русь православная церковь. Когда в 1189 г. венгры оккупировали Галичину, то митрополит обратился к киевским соправителям Рюрику и Святославу со следующим призывом: « Се иноплеменьници отъяли отчину вашю, а лѣпо вы бы потрудитися». [198]198
Там же. – Стб. 663.
[Закрыть]
По существу, аналогичным было и княжеское понимание отчины. Характерный пример этому содержится в статье 1178 г. Ипатьевской летописи. Новгородцы прислали приглашение Мстиславу Ростиславичу занять новгородский стол. Мстислав ответил отказом, мотивируя его тем, что не хочет уходить из своей отчины. « Он же не хотяше ити из Рускои земли река имъ: Яко не могу ити изъ отчины своеѣ». Братьям этот аргумент не показался убедительным, поскольку Новгородская земля для них также являлась отчиной. « Но понудиша и(его – П.Т.) братья своя и мужи свои рекуче ему: „Брате, аже зовуть тя съ честью, иди, а тамо ци не наша очина?“». [199]199
Там же. – С. 606–607.
[Закрыть]
В свою очередь, и Русская земля (в узком значении этого термина) во главе с Киевом представлялась отчиной для князей удельных. Кроме черниговских Ольговичей, о чем речь шла в первой главе, такие права на нее заявляли и князья Северо-Восточной Руси. Узнав, что Киев захватил Всеволод Чермный, изгнавший из него Рюрика Ростиславича, Всеволод Большое Гнездо решил выступить в поход на Чернигов. При этом, мотивировал свое решение необходимостью защитить Русскую землю, которая была и его отчиной. « Того же лѣта слышавъ великый князь Всеволодъ Гюргевичь, внукъ Володимерь Мономаха, оже Олговичи воюють с погаными землю Рускую, и сжалиси о томь, и рече: „То ци тѣмъ отчина однѣмъ Руская земля, а намъ не отчина ли?“». [200]200
ПСРЛ. Т. 1. – Стб. 429–430.
[Закрыть]
Своей отчиной считали владимиро-суздальские князья третий центр Русской земли – Переяславль. Регулярно посылая туда князей из своего семейного клана, они неизменно подчеркивали этот его владельческий статус. В одном случае обосновывали свое право на обладание Переяславлем тем, что там сидели их деды и прадеды, в другом – просто утверждали, что это их вотчина. Наглядными примерами этому могут быть статьи Лаврентьевской летописи 1201 и 1213 гг.
« Посла благовѣрный и христолюбивый князь великий Всеволодъ Гюрговичь, внукъ Володимерь Мономаха, сына своего Ярослава в Переяславль в Русьскый княжить на столъ прадѣда и дѣда своего». [201]201
Там же. – Стб. 416.
[Закрыть]
« Изведъ Гюрги из Москвы Володимера и посла и(его – П.Т.) в Руский Переяславль на столъ, на отчину свою». [202]202
Там же. – Стб. 438.
[Закрыть]
Примерно так владимиро-суздальские князья смотрели и на Новгородскую землю, что давало им основания постоянно претендовать на замещение там княжеского стола. Со временем, их вотчинные права признали и сами новгородцы, что следует из свидетельства статьи 1200 г., рассказывающей о просьбе новгородского посольства прислать им князя. « Ты господинъ князь великый Всеволодъ Гюргевичь, просимъ у тобе сына княжить Новугороду, зане тобѣ отчина и дѣдина Новгородъ». [203]203
Там же. – Стб. 415.
[Закрыть]
Пикантность ситуации заключалась в том, что отчинные права на Переяславль и Новгород со стороны владимиро-суздальских князей не были безусловными. Такими, если не большими, являлись права на эти города киевских князей, «деды и прадеды» которых также занимали их столы. О том, что они считали Новгород своей отчиной, убедительно свидетельствует, цитировавшаяся выше, статья 1178 г. Ипатьевской летописи. [204]204
Подробнее об этом см.: Толочко П. П.Киев и Новгород XII – нач. XIII вв. в новгородском летописании // Великий Новгород в истории средневековой Европы. М. 1999. – С. 178–179.
[Закрыть]
Из сказанного видно, что никакого принципиально нового политического строя на Руси в XII – нач. XIII вв. не образовалось. Функционировала все та же система родового владения и управления страной во главе с великими киевскими князьями и Киевом, как столицей и символом единства Русской земли. Киевское старейшинство хотя и потеряло свою прежнюю привлекательность, все же не было окончательно устранено из политической жизни Руси, а вотчинное право не обрело четкой и нерушимой определенности. С каждой новой генерацией князей престолонаследные и владельческие принципы усложнялись и запутывались настолько, что разобраться в них не было никакой возможности. Причем не только на общерусском уровне, но и на земельном. Каждое княжество в миниатюре напоминало собой всю Русь. И не случайно, кроме общерусских имела место также практика созыва земельных или региональных княжеских съездов, на которых обсуждались вопросы внутреннего миропорядка.
Характерным примером этому может быть съезд князей 1229 г., состоявшийся в Суздале. Формально он собрал представителей только одной княжеской ветви – Всеволодовичей, но фактически превосходил этот формат. Кроме Юрия Всеволодовича – великого князя владимирского, на съезде были его братья Ярослав и Святослав, занимавшие соответственно новгородский и переяславский столы, Василько Константинович – князь ростовский, его братья – Всеволод и Владимир, сидевшие на столах в Ростовской земле.
Поводом к съезду послужило непослушание Юрию Всеволодовичу его брата Ярослава. « Слушая нѣкыихъ льсти», как заметил летописец, новгородский князь привлек на свою сторону и трех племянников – Василька, Всеволода и Владимира. В летописи это выражено формулой « отлучи отъ Юргя Константиновича три». Чтобы уладить возникшие разногласия, причина которых осталась нераскрытой, владимирской князь призвал князей « на снемъ в Суждаль». В результате его работы, Всеволодовичи « исправивше все нелюбье межю собою, и поклонишася Юрью вси, имуще отцемъ собѣ и господиномъ». [205]205
ПСРЛ. Т. 1. – Стб. 451–452.
[Закрыть]
При всем несовершенстве такой коллективной формы правления как княжеские съезды, будь-то на уровне страны или княжества, уже одно то, что она имела место, является убедительным свидетельством наличия на Руси единой государственно-политической системы, пусть и пораженной ржавчиной удельного сепаратизма. Принципиальным здесь является не то, что княжеские съезды не смогли преодолеть противоречия в стане «феодальных владетелей», а то, что они вообще функционировали. Причем, практически, до самого монголо-татарского нашествия. В условиях независимого и суверенного существования княжеств, а также отсутствия у князей сознания, что все они принадлежат к единому этническому, политическому и церковному пространству, такой институт был бы просто немыслим.
При внимательном изучении принятых на съездах решений оказывается, что далеко не все они были безрезультатны. Это относится и к урегулированию междукняжеских отношений, и, еще в большей мере, к выработке общей стратегии борьбы с половецкой опасностью. « Поганые в сим нам суть обчий ворог» – говорили на съездах русские князья и объединялись для борьбы с ними. Ведущую роль в консолидации их усилий играли великие киевские князья. Они не только инициировали походы в степь, но и возглавляли объединенные дружины.
Из всего сказанного определенно следует, что княжеские съезды являлись одним из реальных институтов государственного строя Русской земли, в ее широком значении.







