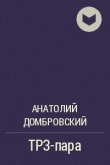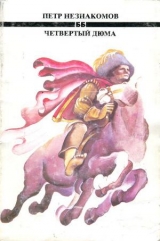
Текст книги "Четвертый Дюма"
Автор книги: Петр Незнакомов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Весной 1870 года я узнал от своего приятеля, господина эконома Ноэля Парфе (от его услуг Александр-сын также отказался, чтобы умирающий отец целиком находился в его власти), что с господином Дюма случился апоплексический удар, что он разбит параличом и утратил дар речи, который у него был воистину даром божьим. Я тут же отправился в Марсель, в окрестностях которого находилась вилла, где лежал старик. Мой сводный брат встретил меня так холодно, как это умел только он. Насколько отец любил людей, настолько сын их ненавидел. Вместо руки он подал лист бумаги, сложенный вчетверо. Я развернул его. Оказалось, что это документ, появления которого я так боялся. Старик в письменной форме отказывался от усыновления, заверенного в Петербурге, в результате чего мне через нотариуса официально запрещалось носить фамилию Дюма-сын-младший. Это заявление было явно продиктовано старику моим братцем, и Александр-отец, должно быть, подписал его в минуту полного умопомрачения – под документом действительно стояла его подпись, широкая и размашистая, мне ли не знать его фельдфебельский почерк. От этой явной подлости я разозлился, шагнул вперед и схватил месье Александра-сына за отвороты шелкового халата, но тут в дверях за его спиной возник начальник местной полиции. Его вызвали немедленно, как только я выразил желание посетить папу Дюма и проведать о его здоровье. Меня тут же арестовали и отвели в полицейский участок. Там в присутствии сына у меня отняли французский паспорт и уничтожили его. Потом меня отпустили, строго-настрого запретив появляться вблизи дома, где лежал папа Дюма. Да, вот какие дела творились во времена Второй империи этого щеголя Луи Бонапарта.
Меня постигла полная катастрофа. Я остался в этой самой империи один-одинешенек, без какого-либо документа, да еще в такое время, когда приближение войны особо усилило бдительность полиции и жандармерии. Всюду разыскивали и хватали прусских шпионов. Хорошо, что у меня были черные волосы, усы и бородка, будь я чуть посветлее, мне бы не миновать ареста. Вы только представьте себе – ведь если при аресте у человека не оказывалось документов, его тут же ставили к стенке! Здесь, в Марселе, у меня не было ни друзей, ни знакомых, которые могли бы удостоверить мою личность. Господин Александр Дюма-сын был готов утопить меня в ложке воды, а что касается старика, то он, насколько мне удалось выяснить, уже никого не узнавал, а даже если и узнавал, то говорить все равно не мог. Секретарша его боялась собственной тени и, чтобы не потерять место, готова была заявить под присягой, что я – сам дьявол во плоти, да еще прусской национальности. Надо было как можно скорее уносить ноги из Марселя и вообще из Франции, где я прожил двенадцать самых счастливых лет своей жизни, где узнал дружбу и любовь и где в конце концов понял, что зло сильнее добра. Я разыскал греческих контрабандистов, – таких молодчиков в Марселе было хоть пруд пруди, и за тысячу франков меня темной ночью посадили на парусную греческую фелюгу, которая шла в Одессу. Хорошо, что я вовремя догадался обменять облигации на наличные, не то остался бы и без имени, и без гроша в кармане, что гораздо хуже: как мы ни ругаем деньги, а без них в нужде и шагу не ступишь. Я собирался сойти на берег в Константинополе и связаться с тамошними болгарами – нужда заставила вспомнить, что но происхождению я принадлежу к этой исстрадавшейся нации. Я так и не смог повидаться с папой Дюма, проститься с ним и поблагодарить его за все, что он сделал для меня. Злая воля сына, его неистовая зависть к каждому, кто превосходил его талантом, лишила меня этого последнего удовольствия… да нет, что это я… последнего изъявления добрых чувств. Позднее я узнал, что папа Дюма умер вскоре после моего отъезда – известие о начале франко-прусской войны и о первых крупных поражениях французской армии прикончили его. Старика похоронили на родине, в Виллер-Котре, неподалеку от могил его отца, генерала Дюма, и матери, Мари-Луизы Лабуре (не странно ли – я только тогда обратил внимание на то, что мать Дюма-отца носила в девичестве ту же фамилию, что и мой дорогой друг Шарль Иванович, житель бескрайних астраханских степей. Я даже не знал, жив ли он, потому что ни разу не удосужился написать ему).
Эпилог
Далее моя судьба повернулась следующим образом. Я проплавал на фелюге месяц и благополучно добрался до Константинополя. Темной ночью опытные греческие контрабандисты спустили на воду лодку с двумя гребцами и в ней доставили меня на берег. Я очень боялся, как бы меня не пристукнули, как бы не отобрали франки, спрятанные в двойных подошвах сапог, а самого не бросили в море, – кто я, человек без документов, никто меня не знает, никто не станет искать. Но к чести этих бандитов надо сказать, что они оказались людьми более благородными, нежели иные выдающиеся французские деятели искусства, они не только не убили меня, он и отказались взять деньги, которые я им предложил за услуги, ступив на берег Мраморного моря. «Беги, брат, деньги тебе самому теперь пригодятся!» – были их последние слова. К рассвету я уже вошел через южные ворота в Константинополь и тут же слился с толпой, которая с самого утра кишела на узких улицах столицы. Мой французский язык и все еще изысканный и опрятный костюм европейца отворяли передо мной все двери. А где не помогал язык, в ход шли французские монеты. Словом, добрался я до Балкапан-хана – постоялого двора, где обитали болгары. Узнав, что по происхождению я болгарин, балкапанские возчики тут же открыли мне свои души и стали родными братьями. Меня устроили на ночлег на самом верхнем этаже хана, сказали: «Когда начнешь заколачивать деньгу, расплатишься!» – и с этого дня я мог не заботиться ни о пище, ни о табаке. Я завязал дружбу с возчиками. Оказалось, что они большей частью происходят из моего родного Сливенского края. Стал осматриваться и прикидывать, что к чему, – как я уже говорил, особых расходов у меня не было, но все же надо было браться за какое-нибудь дело, потому что, когда целыми днями бесцельно шатаешься по улицам, начинает тоска разбирать, l’ennui, как говорят французы. Поделился я своими мыслями с новыми друзьями, и они ответили пониманием. «Э, – говорят, – кто дела ищет, тот без дела не останется, а ты человек грамотный, ученый…» И тут же отвели меня на Фенер, на монастырское подворье, что напротив болгарской церкви святого Стефана, в каменный дом, выкрашенный зеленой краской, что возвышался над греческими развалюхами. Первым, с кем я там познакомился, был Дед Петко Рачев Славейков, было ему тогда не больше сорока лет, но в знак уважения его все называли Дедом. Он был признанным вожаком болгарской колонии в Константинополе (я по инерции продолжаю именовать этот город на французский манер, а здешние болгары называли его Цареградом в отличие от турок, предпочитавших имя Стамбул). Поведал я Деду Петко свою историю, описал, как меня выгнали из Франции без всяких документов и как я добрался до Константинополя… до Цареграда, прибегнув к помощи греческих контрабандистов. Дед Петко засмеялся и сказал: «Хорошо, что эти разбойники не знали, как мы тут в Цареграде друг с другом воюем, болгары с фанариотами и наоборот, а не то бы они и вправду скинули тебя в море». И верно, по разговорам в Балкапан-хане я уже понял, что попал в Цареград в самый разгар борьбы здешних болгар против греческой патриархии, находившейся на Фенере. В начале года был издан султанский ферман об обретении болгарской церковью самостоятельности, но греческая патриархия не хотела его признавать, и теперь болгары воевали за то, чтобы наконец отделиться от нее и избрать собственного болгарского экзарха. Подумать только, какие дела творились здесь в то время, как я гулял по Франции и Италии и распивал шампанское с Дюма-отцом на вилле «Катина»! Дед Славейков просто с ножом к горлу пристал, чтобы и я включился в эту борьбу, мол я человек интеллигентный, знаю французский язык, русский знаю, итальянский (правда, малость), словно сама судьба послала меня в Цареград, такие люди нужны болгарскому делу. Я согласился безо всяких колебаний. Однако, к сожалению, болгарский-то язык я почти забыл, хотя меня учили ему в Задунаевке да и потом, уже в астраханских степях, мать моя Цветана и отец Димитр, мой родной отец, о котором теперь я вспомнил с умилением, не зная, жив ли он, командует ли еще своими калмыками. Но и этому горю можно было помочь – здесь, среди болгар, которые живут так дружно, душа в душу, как мне показалось в тот исторический момент, я скоро наверстаю все, что забыл, и снова попробую писать, но уже на родном языке. Мне предложили службу в журнале «Читалиште», который в то время редактировал Тодор Икономов, видный цареградский просветитель, тоже уроженец славного Сливенского края, родом из Жеравны. Кроме того, для печатного органа Деда Славейкова «Македония» я переводил из французских газет, доходивших до Цареграда, разные статьи, в которых в большей или меньшей степени затрагивался восточный вопрос. Словом, устроился я довольно сносно, меня использовали и как переводчика, когда кому-нибудь из руководителей болгарской колонии приходилось встречаться с представителями посольств великих держав в турецкой столице. А поскольку я еще раньше поднаторел в писании фельетонов (не знаю, упоминал ли я, что мы с Дюма-отцом почти два года редактировали неаполитанскую газету «Indipendente», то начал выступать на страницах «Македонии» и «Читалишта», а позднее и в новой юмористической газете «Костурка», основанной опять-таки Дедом Славейковым в 1874 году. Писал я свои фельетоны сначала по-французски (так мне было легче), а уж потом с превеликим трудом переводил их на болгарский и в таком виде отдавал в печать. Вот что бывает, когда человек забудет родной язык! Но я кое-как справлялся и подключился к борьбе за права веры и церкви, как того хотел Дед Славейков, но верующим от этого не стал – чересчур серьезную школу атеизма прошел я при дворе Дюма-отца.
Одно было плохо – и об этом пора поделиться с читателем открыто и честно: все несчастья и неудачи, свалившиеся на меня в последнее время, незаметно сделали меня страстным поклонником алкоголя, этого бича человечества. Я прикладывался к бутылке во Франции и даже еще в России, в домах, виллах и дворцах Дюма-отца вино всегда лилось рекой, у Шарля Ивановича я тоже никогда не упускал возможности причаститься, но не доходил до крайности. Французы не любят пьяниц, сами напиваются очень редко, но я-то был славянином, а у нас, славян, иное отношение к спиртному и к тем, кто его употребляет, мы прибегаем к нему для смягчения вины, считаем орудием вдохновения и чем хотите еще, только не ядом, разъедающим тело и душу. Так вот, первую половину дня я жил как все люди, трудился в редакции «Читалиште» и «Македонии», работал в типографии подворья, но, как только наступал вечер, такая тоска наваливалась на меня на последнем этаже Балкапан-хана, такое одолевало одиночество, что я искал общества приятелей, а всем известно, какие приятели откликаются по первому зову – сущие пьяницы. Напрасно Дед Славейков вызывал меня к себе, в учительскую комнату подворья и принимался чехвостить за то, что я гублю талант и самого себя, что при таком положении дел мне вряд ли удастся создать семью и завести детей, а в этом состоит высшая цель жизни каждого приличного человека. Я и без Деда Славейкова знал, что это так, но мне не хватало сил сказать злу «нет». К 1874 году моя страсть постепенно превратилась в хроническую болезнь, я начал манкировать своими обязанностями в редакции журнала (газету к тому времени закрыли), ни одно посольство уже не приглашало меня на роль переводчика, потому что было неизвестно, в каком виде я явлюсь и не брякну ли чего-нибудь этакого, что может навредить делу. Дед Славейков тоже не был трезвенником и при случае крепко закладывал за воротник, но мое поведение стало и вовсе невыносимым, и когда он увидел, что меня словами не проймешь, то охладел ко мне. В болгарской колонии начали громко возмущаться пьяными скандалами, которые я не стыдился закатывать даже на подворье церкви святого Стефана – месте, святом для каждого болгарина. Без лишнего шума меня отстранили от дел, от церковной и политической борьбы, потому что, помимо всего прочего, я позорил всю колонию в глазах турок, которым религия запрещала употребление алкоголя, так что если они и прикладывались, то втихаря, а пьяниц считали пропащими и никуда не годными людьми. Балкапанские же возчики, мои первые друзья в этом городе, которые ни перед кем не ломали шапок, встречая меня в коридоре, где я выделывал зигзаги, говорили прямо в глаза: «Эх, милый, не тебя – таланта твоего жалко».
Извините, но я забыл сказать, что, когда явился на подворье безо всяких документов, Дед Славейков, Тодор Икономов и доктор Чокмаков сразу же принялись делать все возможное, чтобы как-то узаконить мое появление в глазах турецких властей. Им удалось подкупить – в ход пошли французские деньги, а также домашняя колбаса и сливенская бастурма – одного чауша, и тот выдал мне новое тескере, то есть удостоверение личности, – ему сказали, что старое я потерял во время кораблекрушения, и это было недалеко от истины, ведь я действительно потерпел настоящее кораблекрушение в житейской сфере. Дед Славейков решил дать мне фамилию Незнакомов, то есть неизвестный человек, человек без документов. Я ничего не имел против такого имени, оно звучало приятно для уха и напоминало о России, где я родился и где прошли мои счастливые детские и юношеские годы. Этим именем я стал подписывать фельетоны и памфлеты, выходившие в «Македонии», а позднее в «Костурке». Сами видите, как у меня все переплелось: по рождению болгарин, пишу по-французски, подписываюсь русской фамилией, – как тут не спиться. Разумеется, это мое объяснение или оправдание не следует принимать всерьез. Тому, что у меня такая путаная судьба, виной прежде всего я сам, мое полное безволие, это я заявляю во всеуслышание. Конечно же, и господин Александр Дюма-сын тут не преминул приложить руку. Я заявляю об этом вполне официально, хотя вряд ли это дойдет до него – он сейчас купается в лучах славы, по-моему, вовсе незаслуженной и приобретенной за чужой счет.
Я мучительно пережил разрыв с Дедом Славейковым и Тодором Икономовым, а еще тяжелее – разгром Апрельского восстания и другие превратности судьбы, резню и погромы, постигшие многострадальный болгарский народ. Но все эти события, вместо того чтобы воодушевить меня на борьбу, произвели обратное действие – они лишь повергли меня в полное уныние и я стал все упорнее искать утешения в ракии и вине. Увидев, что я неисправим, члены болгарской колонии окончательно махнули на меня рукой и не без сожаления предоставили собственной судьбе.
Освобождение порабощенного отечества зажгло искру радости в моем помутившемся сознании и истерзанной душе. Я решил, что воскресение Болгарии естественно повлечет за собой мое собственное воскрешение. Но не тут-то было… После подписания Сан-Стефанского договора, принесшего объединение всем братьям-болгарам, в экзархии в последний раз сжалились надо мной и помогли перебраться из Стамбула в Пловдив. К тому времени последний франк был пропит, и я кормился переводами французских анекдотов, которые пристраивал в газеты, и продажей французских книг в одной лавочке на Пере.
В Пловдиве я поселился в одном из кварталов бедноты, в доме, покинутом турками, у подножья Бунарджика. Чтобы заработать на хлеб, я взялся петь русские и французские песни в только что открывшейся пивнушке, где проводили вечера офицеры русских оккупационных войск. Берлинский договор, обманувший надежды болгар, окончательно добил меня. После тяжелого приступа белой горячки меня поместили в русский военно-полевой госпиталь, в психиатрическое отделение. Когда русские покинули автономную область, получившую имя Восточной Румелии, они подарили больницу местным властям. Она стала одной из первых казенных болгарских больниц. Меня оставили в отделении для душевнобольных. Я часто впадал в транс, буйствовал, кричал врачам: «Мерд!» – а сестрам: «Пютен!» – и прочие любезности, и на меня надевали смирительную рубашку. Постепенно я стал спокойнее. Кому-то из врачей – большинство их были русские – пришло в голову дать мне бумагу и карандаш. Тогда я внезапно вспомнил, кто я такой и чем занимался целых двенадцать лет во Франции и потом еще семь или восемь лет в Цареграде. Страсть к писанию вспыхнула во мне с новой силой. Я начал с того, что стал записывать бессвязные мысли, кружившие у меня в голове, от которых она постоянно гудела, как улей. Потом мысли стали стройнее, появилась какая-то логика, и я решил поверить белому листу бумаги грустную повесть о своей жизни – жизни человека, оставшегося без родины и корней, каковым я собственно и являлся. Когда я писал, то на протяжении целых недель вел себя смирно, так что не было необходимости надевать на меня смирительную рубашку, и потому врачи и сестры не мешали мне исписывать лист за листом. Так родилась эта биографическая повесть о моей странной жизни, о знаменитых людях, среди которых я провел юность и зрелые годы, о событиях, которые в той или иной мере послужили гибельным толчком в моей судьбе. Это повествование родилось и как предостережение тем болгарам, которые, будучи одарены от природы талантом, из-за отсутствия воли не могут сохранить и развить его, суровое предупреждение о ранней гибели хрупких дарований, которые приспосабливаются к житейским условиям вместо того, чтобы бороться и преодолевать их. И наконец – это предостережение о исконно нашей родной болезни – склонности забывать ради преходящей мелкой выгоды о чести, достоинстве и идеалах.
Я все еще сидел в психушке, как называли в народе отделение Пловдивской больницы для душевнобольных, когда в 1895 году узнал о смерти Александра Дюма-сына, моего сводного брата. Хотя так говорить не принято и это звучит жестоко, но я испытал при этом нравственное удовлетворение. Бог или тот, кто его замещает, сделал так, чтобы справедливость восторжествовала: Дюма-сын-младший пережил Дюма-сына.
К сведению читателей, я и сейчас нахожусь в отделении умалишенных, в палате для тихих больных. Мне очень уютно в кругу врачей и сестер, они заменяют мне семью, обзавестись которой я так и не имел счастья. Иным из них я даю уроки французского языка, знакомлю с историей французской литературы, главным образом мы занимаемся периодом романтизма. В остальное время я пишу. Все мои произведения идут нарасхват в издательствах и литературных газетах и журналах – там меня принимают лучше, чем в писательской среде, и этот факт – один из самых странных парадоксов в сфере человеческого познания, именуемой литературой. Равно как и явление, которое принято называть читательским интересом.
Но подобные ситуации не новы, так бывало в прошлом и наверняка будет происходить и в будущем. Вспомните только Кафку, Рембо, Вердена, Эдгара Аллена По и всех «проклятых», то есть прозаиков и поэтов, подверженных хоть малой дозе сумасшествия. Что поделаешь, нездоровый интерес читающей публики к патологическому в жизни писателя всегда возобладает над интересом к самому произведению. И на этой мысли я ставлю точку на своем весьма пространном повествовании.
Пловдивская психиатрическая больница,
1897—1898 гг.
МОИ ПАРИЖСКИЕ ВСТРЕЧИ
I
Немыслимая любовь
Когда наш знаменитый котленец доктор Петр Берович сделался большим человеком в Париже и стал называться доктором Бероном, он то ли от тоски по далекому исстрадавшемуся отечеству, то ли из вполне понятного желания творить добро распорядился принять на свое содержание для продолжения образования во французской столице нескольких котленских мальчиков, отличившихся усердием в науках и примерным поведением. Котленские чорбаджии, входившие в состав школьного попечительства, долго думали, советовались с учителями и родителями и в конце концов остановили свой выбор на трех мальчиках, наиболее полно отвечающих требованиям благодетеля. Я имел счастье быть одним из них. Отец мой был абаджия[8]. В семье у нас было семеро детей, и особым достатком она не отличалась. Мать часто болела и с трудом управлялась с многочисленным потомством. Так что хотя родителям и было тяжело расставаться со мной, пребывавшим в нежном возрасте, они все же не противились решению школьного попечительства, собрали мой нехитрый багаж и, обливаясь слезами, проводили в путь вместе с другими мальчиками. Сначала нас переправили вместе с котленскими торговцами в Константинополь. Там нас встретил агент доктора хаджи Беровича и на пароходе доставил в Марсель. Дальше все было просто – цивилизованная страна, налаженный транспорт. Посадили нас в дилижанс, и не прошло и недели, как мы уже были в Париже. Вот это город! Мы дома думали, что лучше нашего Котела нет, а тут… сначала Константинополь, потом Марсель, а теперь вот Париж!.. Боже мой, сколько здесь понастроено! И все из камня, не то что в нашем деревянном Котеле. Сначала нас разместили в доме благодетеля. Он был холостяком. Целыми днями сидел, запершись в своем кабинете, и без разрешения туда никого не впускали. У него было трое слуг, так вот один из них, господин Жак, по национальности француз, был настоящим монстром – стоит повысить голос, как он хватает тебя за ухо и дергает так, что, кажется, вот-вот оторвет. Мы прожили там целую неделю. Кормили нас хорошо, ничего не скажешь, но зато чуть было без ушей не остались – разве усидишь целый день в рот воды набравши? Благодетель наш был нездоров, и нас представили ему лишь в конце недели. Вошли мы в его комнату и остолбенели. Кабинет, так называлась комната, в которой он работал, был размером с наш котленский дом. Кровать с красными занавесками – балдахином называется, а вместо стен книги, тысяч сто – не меньше. Возле стола, на котором он писал, большой пестрый шар на подставке – до тех пор нам не приходилось видеть глобуса, теперь дал бог, увидели. Хозяин говорил с нами целый час, но чувствовалось, что он начал забывать болгарский. Мы же, ошеломленные его атласным халатом и красной бархатной шапочкой, мало что поняли из этой речи… Учиться, быть прилежными, не перенимать плохого от французов, быть достойными называться болгарами – примерно таким был смысл его слов… Как не стараться, куда тут денешься? В Париж ведь нас привезли на его деньги. Скотина и та старается, а мы же как-никак люди, наделенные умом-разумом, несмотря на юный возраст. Промямлили мы что-то в этом духе, он погладил нас по головам, дал по золотому франку на расходы, и на том дело кончилось. На другой день нас увели из дома, дескать, не место нам там. Благодетель целыми днями пишет и крутит глобус, а мы на кухне беснуемся, воруем у повара-молдаванина его белый колпак и тайком подсыпаем в еду красный перец. Француз Жак привел нас в один трехэтажный дом – пансион, и оставил там. Нам предстояло в этом пансионе жить, кормиться и учить язык, чтобы потом поступить в лицеи – так зовутся тамошние школы.
Что до языка, то мы его выучили. Наш брат, если возьмется за дело, доводит его до конца. Да и боялись мы, что, если не проявим должного усердия и любознательности, нас опять вернут в Туретчину. Мы уже вкусили прелестей здешней вольной жизни, и родной Котел, как бы он ни был нам дорог, все же не мог идти ни в какое сравнение с Парижем, это уж точно! Со временем мы узнали, что и здешняя свобода больше на бумаге, но это уже другая тема, и не будем сейчас отвлекаться.
В лето 1854-е я поступил в лицей Сен-Антуан де ля Саль, что на бульваре Сен-Жермен в Латинском квартале. Мои однокашники предпочли другие лицеи, их больше тянуло к точным наукам. Я же, подобно своему благодетелю доктору Петру Берону, проявил влечение к гуманитарным наукам, и потому меня отдали в Сен-Антуан, где изучали классические языки и литературу. Сначала мне было очень трудно, и я не раз возвращался в пансион в слезах и в отчаянии. Мои соученики, сынки богатых родителей, воспитывавшиеся гувернантками, смотрели на меня свысока, называли «турчица» и «ле тюрк». Они знали, что это раздражает меня, и устраивали самые глупые розыгрыши. Но со временем я стал делать успехи в науках, меня стали замечать и ставить «двенадцатки» (там знания оцениваются по двенадцатибалльной системе), и только тогда эти бездельники оставили меня в покое. Да и я себя в обиду не давал, пастушеская жизнь в Котеле не прошла для меня даром, и им пришлось в темноте на себе испытать силу моих кулаков. Вообще они поняли, что со мной шутки плохи. Еще в начале предупреждал же их, что я котленец, из края гайдуков, но они не верили. Ничего, наконец-то поверили.
Ну а теперь я расскажу вам о своей первой парижской встрече с выдающимися людьми того времени, встрече, оказавшейся поворотной для всей моей дальнейшей жизни. Как-то раз, было это осенью 1855 года (помнится, я уже закончил первый год обучения с отличными оценками и примерным поведением), возвращался я из лицея после утомительных утренних занятий. На бульваре Сен-Жермен я заметил стройную, невероятно миловидную блондинку лет 18—19, одетую по моде тех лет, но без пышности и экстравагантности, так характерных для парижанок. Девушка несла довольно объемистый пакет, что явно затрудняло ее движения. Не знаю, что со мной случилось, но, несмотря на свою природную робость, я набрался смелости, догнал девушку и обратился к ней на чистейшем французском: «Мадемуазель, разрешите вам помочь? Я вижу, вы измучились от тяжести своей ноши». (Два года в пансионе и один в лицее хорошо отполировали мои манеры). Мадемуазель резко обернулась, оглядела меня, опасаясь, вероятно, увидеть одного из тех парижских франтов-нахалов, которые преследуют одиноких женщин на улицах и пристают к ним с разными гадостями, но, увидев мое безбородое лицо с едва пробивающимися усиками, – в то время мне было лет 16—17 – успокоилась и согласилась принять мою помощь. Сказала, что живет на бульваре Сен-Жермен, метрах в шестистах отсюда. «И если вы, жен гарсон, не откажетесь от своего предложения, я буду вам неслыханно благодарна за помощь! Этот пакет предназначен для одного больного человека». Как бы не так, откажусь. Да пусть это прелестное создание живет хоть в десяти километрах отсюда, пусть его пакет весит пятьдесят килограммов, все равно я донесу его. Чего бы мне это ни стоило. Ведь не зря же я столько мешков с половой перетаскал в свое время в Котеле!
По пути мы разговорились. «Вы, кажется, тоже не француз, – сказала девушка. – У вас очень слабый акцент, но все же чувствуется». Я ответил, что у нее безупречный слух, что я действительно иностранец и родился в стране, которая хоть и находится в Европе, но все еще томится под страшным игом. «О-о-о, – удивилась девушка, – как называется эта бедная страна?» «Болгария», – ответил я гордо, и, сдается мне, никогда еще имя моего отечества не звучало так красиво, как тогда, произнесенное мной перед этой прелестной блондинкой. «Болгария! – подняла брови девушка. – Интересно! Я никогда не слышала о такой стране!» «Откуда же вам слышать о ней, когда она находится под пятой османского рабства и не имеет ни знамени, ни герба». «О, извините меня, я не хотела вас обидеть и глубоко сожалею, что ваша бедная родина в таком положении. В сущности, я ведь тоже иностранка. Мое отечество тоже растерзано». Кое-как дотащил я пакет до ее дома, по адресу: бульвар Сен-Жермен, № 341. Я хорошо его запомнил, потому что здесь по сути дела… Но нет, буду рассказывать по порядку. В знак благодарности девушка пригласила меня подняться наверх в мансарду и выпить чашечку кофе. Здесь жил господин, который вот уже целый год находился на ее попечении. Он был поэтом, крупнейшим поэтом Германии, но вынужден был уже двадцать лет скитаться в изгнании. На родине у него было много врагов. «Я, если хотите знать, тоже немка, – сказала девушка, – из Рейнского пфальцграфства, его землячка. Наши общие друзья послали меня сюда заботиться о нем, потому что он очень, очень болен. Парализован, не может двигаться, но такой добрый, такой талантливый…» Я захотел узнать имя поэта, которому уже втайне завидовал. Может, и мне заболеть? Но будет ли ухаживать за мной этот ангел? «Генрих Гейне, – промолвил ангел. – Автор Лорелеи и сотен других прекраснейших стихотворений». Признаться, я до той поры не слыхал о таком поэте. В лицее мы изучали главным образом французских поэтов и беллетристов. Я знал о Ронсаре, о Маро и Корнеле, о Расине, Вольтере и Жан-Жаке, но до современной французской литературы мы там так и не дошли. Было у них свое правило, признавали тебя классиком лишь через сто лет после смерти. Выжидали проверки временем и только после этого допускали произведения автора в школьную программу. Теперь, когда я вижу, сколько живых классиков наводнило болгарскую литературу, мне кажется, что они имели на то основание. Из иностранцев упоминали, да и то бегло, лишь тех, которые были признаны гениями мировой литературы. Из англичан, например, мы изучали Шекспира, из испанцев Сервантеса, а из немцев – Гете. О русской литературе вообще не было и речи, по крайней мере так обстояли дела в нашем лицее. Девушка поняла по моему смущению, что я не знаком с крупнейшим поэтом Германии, и сказала: «Если нам суждено встретиться еще раз, я дам вам почитать что-нибудь из него на французском». Я ужасно обрадовался. Ведь это означало, что я смогу увидеть ее снова. Я тащил тяжелый пакет по крутой лестнице, а чувствовал себя так, словно поднимался не на шестой этаж, а на небеса. Я чуть ли не порхал, и девушка с трудом поспевала за мной. Наконец мы пришли, позвонили в дверь. Нам открыла пожилая женщина, экономка Грета, тоже немка. Впоследствии мы с ней подружились. В то время Гейне, поэт, о котором только что шла речь, находился в крайней нужде. Его книги были запрещены в Германии или же издавались мизерными тиражами. Да и во Франции, известное дело, не больно жалуют писателя-иностранца, будь он хоть гением (это я потом испытал на себе). Он же, бедняжка, уже десять лет страдал от тяжелой болезни, а последние годы был почти полностью парализован, не мог писать собственноручно, бывать в светском обществе и бегать по редакциям, без чего, как известно, литературную репутацию поддерживать трудно. О тебе тут же забывают, увлеченные водоворотом жизни, появлением на горизонте новых звезд. Снобы только и знают, что охать да ахать перед каждым новым явлением, а то, что где-то в мансарде на бульваре Сен-Жермен умирает парализованный, немощный поэт, им до этого дела нет. Мы с Элизой прошли на кухню, и здесь произошло официальное знакомство, она представилась мне – Элизе Криницер. Два года живет в Париже. Слушает в Сорбонне лекции по французской литературе, но из-за нехватки средств и из искренней любви в уважения к великому поэту добровольно присматривает за ним и исполняет функции секретарши. Ей он диктует шедевры, только что родившиеся в его голове. Мы пили кофе в уютной кухне под благосклонными взглядами Греты. Нам было приятно болтать обо всем. Если бы мне позволили, я просидел бы здесь до полуночи, несмотря на то, что меня ждал тяжелый перевод из вергилиевских «Буколик». Но вскоре из соседней комнаты раздался голос пробудившегося поэта: «С кем ты там разговариваешь, Муш?» Элизе вскочила и распахнула дверь. «Вы уже проснулись, герр Генрих?» Совершенно нелепый вопрос, свидетельствовавший о ее смущении. «Проснулся и спрашиваю, с кем это ты так оживленно разговариваешь?» «Ах, да, с одним молодым господином, который помог мне донести пакет с провизией на неделю». «Молодым господином, – я уловил в голосе поэта нотки раздражения. – Ну-ка посмотрим, что это за молодой господин! Представьте мне его. Должен же я знать, с кем встречается моя Муш…» «С удовольствием, майн либе герр Генрих. Он из Болгарии, порабощенной страны, стонущей под османским игом, под игом турок, союзников нашей Франции» (как раз в это время шла Крымская война – П. Н.) Я поднялся, и Элизе втолкнула меня в спальню, где лежал поэт. Просторная спальня, обставленная с роскошью. Посредине под балдахином из зеленой ткани (зеленый цвет успокаивает глаза) лежал неподвижно человек с красивым, благородным, но изможденным болезнью и страданиями лицом. Волосы седые, но все еще пышные. Мне показалось, что ему лет семьдесят, а в сущности в то время ему не было и шестидесяти. Очевидно, он не мог повернуть головы, потому что Элизе заставила меня встать прямо у его ложа. Увидев, какой я молодой, совсем мальчишка, поэт успокоился. Его опасения, если они и были, моментально рассеялись. Мне показалось, что он очень ревновал свою Муш. «Как вас зовут, молодой человек?» – спросил он уже совсем дружелюбно. «Пьер Энконю, – ответил я. – Так звучит на французский лад мое настоящее имя – Петр Незнакомов». «У вас очень трудное для произношения славянское имя, – попытался улыбнуться он. – Болгары ведь славяне, не так ли? И я вряд ли смогу выговорить его, как видите, мне трудно произносить даже обычные слова. Я буду называть вас просто Пьер. Разумеется, если мы станем друзьями и у вас найдется время для посещений уже никому не нужного старого человека». «Вы оказываете мне высокую честь, шер месье, удостаивая своей дружбой совсем молодого человека, не имеющего притом ни состояния, ни знатного происхождения, ни свободной родины». «Как вы говорите, она называется?» «Болгария, шер месье». «Хм, это название что-то напоминает мне, – он наморщил лоб. – Ага, кажется, у Ронсара есть упоминание… Где находится ваша родина?» «В пределах Оттоманской империи, шер месье, – ответил я. – В нижнем течении реки Дуная находятся горы Балканы, давшие имя всему полуострову». «Да, да, да, – сказал Гейне, – именно так. Прадеды Ронсара пришли оттуда, ле ба Данюб, да. А сейчас французские войска проходили там по пути в Крым…» «Да, – сказал я с горечью, – чтобы драться с русскими, а наша единственная надежда на освобождение – они, Россия». «Что поделаешь, молодой человек, сочувствую вам, как и всем, кто борется за свободу, но не я определяю политику этой империи, временно приютившей меня, а вон тот господин… – он указал на развернутую газету, откуда на нас глядела знакомая физиономия императора с козлиной бородкой (Наполеон III – П. Н.). – Как вы знаете, я тоже изгнанник, хотя моя страна и не порабощена иностранцами, как ваша…» Разговор начинал принимать интересный оборот, но поэт уже заметно устал. Он замолчал и прикрыл ладонью глаза. Элизе взяла меня за руку и вывела из комнаты. «Это просто чудо, что он так много говорил, – сказала она шепотом, тщательно закрыв за собой дверь. – Ваше появление, кажется, сильно взволновало его. Приходите к нам почаще, шер Пьер, раз ваше присутствие действует на него так благотворно. Я буду очень благодарна, если вы нас не будете забывать». Забыть ее! Да и поэт, признаться, мне очень понравился. Можно только себе представить, каким он был во здравии. «Вы обещали мне дать почитать что-нибудь из его вещей», – сказал я Элизе. «О да, чуть было не забыла. Сейчас принесу вам последний цикл его стихов «Признания», где… – она зарделась и ее лицо стало еще прелестнее, – я фигурирую в роли героини. Это любовные стихи, но вы ведь не ревнуете, правда? Видите, в каком он состоянии, позволим же ему последнюю утеху. А стихи бесконечно нежны и прекрасны. Он называет меня там Муш. Не знаю, откуда он выкопал это имя». Я схватил рукопись, вероятно, написанную ее рукой, пробормотал «оревуар» и поспешил покинуть это гнездо страдания и любви, провожаемый взглядом, в котором я так и не смог прочесть – принимают меня или же отталкивают.