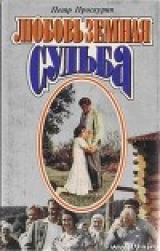
Текст книги "Судьба"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 61 страниц)
Ногам стало холодно, очевидно, Родион, торопясь, не захлопнул дверь; ушел, теперь навсегда, подумала Елизавета Андреевна и поднялась закрыть. Пустота в доме действовала угнетающе, и Елизавета Андреевна, выйдя в настывший коридор, постояла у приоткрытой двери, вдыхая морозный воздух и присматриваясь к искристому небу; конечно, конечно, проликовало в ней, можно будет одуматься и жить по-своему дальше.
Стояла предрассветная тишина, по-особому настороженная, тугая, готовая в момент взорваться; Елизавета Андреевна, вздрогнув от холода плечами, заперла дверь и поскорее забралась в постель; браунинг и патроны, оставленные мужем, она спрятала под подушку. Нужно было погасить ночник, полусонное оцепенение, безразличие ко всему не дали ей встать, и она лежала с открытыми глазами – и не спала и не бодрствовала, лишь резче проступало в ней некое бессознательное ощущение пришедшей беды, и когда оно стало нестерпимо болевым, Елизавета Андреевна, пересиливая себя, оделась и стала в волнении ходить по дому, прислушиваясь к шорохам и звукам в углах и стенах. Она была одна в огромном и тесном мире и особенно остро чувствовала это сейчас – не оставалось на земле человека, к которому бы она могла прийти и все рассказать, и ощущение беды вспыхнуло в ней с новой силой. Елизавета Андреевна погасила ночник, освободила окна от тяжелых занавесок, начиналось серое, холодное утро, квадраты окон проступили из тьмы; самый тягостный предрассветный час кончился, и Елизавете Андреевне полегчало; светало, скоро стали исчезать тени в углах. Елизавета Андреевна не знала, куда себя деть, есть ей не хотелось, о завтраке она не думала; она села в старое продавленное кресло в углу, лицом к окнам, и закрыла глаза. На некоторое время задремала, но тотчас внутренняя настороженность и обостренность, не исчезавшие ни на секунду, заставили ее вскочить, и с этого момента все пошло по своим, уже не подвластным человеку путям, и свершилось то, что должно было свершиться, то, что Елизавета Андреевна чувствовала со времени трусливого ухода мужа, лишь только не могла осмыслить и точно определить.
Они пришли впятером, трое немцев и двое русских из полиции; высокий худой офицер с витыми серебряными погонами оказался прямо перед Елизаветой Андреевной; рядом с ним стоял Макашин; на плечах у Елизаветы Андреевны была накинута большая шаль, под которой она скрывала руки и браунинг, схваченный перед тем, как пойти отпереть дверь, и теперь она не знала, что делать; цепкие глаза следили за каждым ее движением. И опять то самое чувство предрешенности, неизбежности происходящего, жившее в ней с этой ночи, успокоило ее; она прошла в дом, за ней, пригнув голову в дверях, шагнул офицер, следом Макашин и солдат с автоматом; Елизавета Андреевна слышала как-то по-особому движение у себя за спиной. Она остановилась и повернулась к пришедшим; нахмуренное, уставшее лицо Макашина бросилось ей в глаза.
– Нам хозяина, Анисимова, – сказал Макашин хмуро. – Что-то его не видно дома.
– Я проснулась, его нет, – чужим, посторонним голосом ответила Елизавета Андреевна. – Сама ничего сообразить не могу.
Она уловила недоверие в глазах офицера и прислонилась к стене.
– Ищите, – сказала она тихо, – может, вам и повезет. А мне что ж теперь… Говори не говори, никто не поверит, мне все равно. – Елизавета Андреевна замолчала под пристальным, неверящим взглядом высокого офицера; ей казалось, что если она перестанет говорить, то все тотчас догадаются про оружие у нее под платком; она знала, что самое лучшее для нее – это застрелить немца и Макашина, но страх и слабость стиснули ее намертво, и от собственной нерешительности она отодвинулась в сторону, опустилась на стул у стены и заплакала с неподвижным и оттого старым, некрасивым лицом.
Пока шел обыск, простукивали стены и взламывали полы, она сидела все так же неподвижно, в оцепенении, и все думала, что ей надо было раньше уйти от Анисимова, взять и уйти и никому ничего не объяснять. Все ждала какого-то просвета, вот и результат; ее попросили встать и перейти в другое место; она замерла в углу, словно в густеющем дыму различая происходящее. К ней подошел Макашин и что-то громко сказал; она не поняла и, мучительно подняв брови, вопросительно глядела на него.
– Что уж ты так сильно переживаешь, Лизавета Андреевна, – повторил он. – Обойдется, время дурацкое, кто же может знать, каждый по своему с ума сходит.
Елизавета Андреевна кивнула, закусив губу; ее мучило другое, собственное ничтожество и бессилие; какой-то скорбный, обжигающий голос жил в ней. Прошла жизнь, прошла бесследно и бездарно, и нечего обманывать себя всякими туманами. Не ей, даже уходя, хлопнуть дверью, характер не тот. Она мучительно испугалась за браунинг у себя и теперь все время чувствовала его; а когда обыск благополучно кончился и немцы с Макашиным ушли, оставив невообразимый беспорядок и непередаваемое ощущение какой-то загаженности и грязи, Елизавета Андреевна подождала, чувствуя, как понемногу отпускает вязкий страх, затем собралась, непрестанно раздумывая, куда бы ей бросить браунинг и патроны. Таким местом показалась уборная, но что-то удержало ее. Пошатываясь, с неясными, рвущимися мыслями она вернулась в развороченный дом. Несмотря на множество стронувшихся со своих привычных мест и потому бросившихся сейчас в глаза незаметных раньше вещей, ее оглушила мертвая пустота: далекий, полузабытый мотив прорезался в ней, и она, хватаясь за него, как за единственную реальность, стала торопливо припоминать, что это и где, когда она слышала. Она припоминала, и словно таял внутри лед, и она уже начинала улавливать слова. «Не отринь меня во время старости», – все яростнее и яростнее гремело вокруг нее; какое-то сияющее, праздничное здание росло, заключив ее в себе; поднимаемая гремящим хором, она словно освобождалась от того немощного, унизительного, чем была до этой минуты, и она не выдержала. Она не могла удержать хлынувших слез и опустилась на пол почти в бессознательном состоянии.
10Анисимов, намереваясь передневать в ближайшем селе Пяткино, а на другую ночь добраться и до Слепненских лесов, найти партизан, добиться встречи с Брюхановым, ушел в морозную и легкую ночь; близилась весна, и под метровыми снежными наносами уже начинали жить вешние воды; задыхаясь с непривычки от быстрого шага, он, чтобы отвлечься от неприятных мыслей о жене, о последнем постыдном разговоре с ней, думал о том, что скоро заревут потоки воды, устремляясь с полей в овраги, лога и реки вспыхнут, засинеют и освободятся ото льда. И начнут пролетать журавли, нежные, странные птицы на тонких ногах и с тоскующим голосом; он представил себе длинноногих грациозных журавлей среди лугового разнотравья (в бытность председателем сельсовета в Густищах он любовался этими птицами на слепненских лугах и болотах, где они устраивали свои гнездовья), и злая усмешка стиснула его губы; журавли журавлями, а пока приходится барахтаться в снегу, даже следующий час неизвестен.
Время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться лучше и не напороться на неожиданность, Анисимов шел без передышки до самого утра и наконец почувствовал жилье. Он с пригорка увидел мерцавшие во тьме крыши, это было Пяткино. Анисимов устал после перехода, длительное, почти двухлетнее, сидение без дела не прошло даром; приближаясь к селу и услышав окрик «Стой!», он с неожиданной энергией и прытью, пригнувшись, метнулся в поле, тяжело ломая слежавшийся хрустящий наст. Несколько раз по нему выстрелили, пуль он не слышал, но сердце стиснула звериная жуть, и он рвался, сам не зная куда, пока от изнеможения не осел в снег, и тотчас услышал тишину. Тонкая, острая полоска зари прорезывалась перед ним, и он сразу определил, в какую сторону необходимо идти; он еще посидел, затем встал и пошел, и когда совсем рассвело, устроился на день в глубоком, заросшем дубом и забитом старым снегом логу; снег поверху остекленел, взялся ноздристостью, и это смутно напоминало Анисимову тепло, какую-то давно забытую жизнь. Обтопав снег у старого толстого дуба, Анисимов развел под самым стволом небольшой огонек; от сухих сучьев дыма почти не было, он исчезал, еще не доходя до вершины дерева, и Анисимов выпил немного водки и поел. В таком бесприютном положении он совсем не думал оказаться; он давно уже понял, что его надеждам не суждено сбыться и понемногу начинается обратное движение, немцы подвели. Он подумал, что подвели они многих, не один же он затаился в этом перевернутом мире, обозначаемом с некоторых пор всего четырьмя согласными, но от этого не легче. И Гитлеру чего-то не хватало, неподатливость русской земли перечеркнула все его расчеты.
Анисимов почувствовал от таких мыслей даже успокоение и озлился на себя. Нужно было думать о другом – как выпутаться из тяжелейшего положения; надежда отыскать Брюханова – глупость; никто с ним сейчас возиться не станет, пока доберешься до хорошего товарища Брюханова и докажешь свое, успеешь десять раз получить пулю в лоб, и нужно искать другой путь. Он по опыту знал, что в моменты смуты для пущей безопасности необходимо забираться в самую гущу, в многолюдность, и затеряться именно там; исчезнуть, раствориться в громадных человеческих потоках, захлестнувших дороги, а документы у него хорошие (Макашин, молодец, помог), на любой случай имеются. В леса сейчас, конечно, не пробраться, упустил время, поздно; значит, путь один. Раз ничего не выходит, долой на время все и всяческие идеи, только идиоты могут сшибаться и убивать друг друга вот так, впрямую, умный пройдет между ними незамеченным, он посмеется и над теми, и над другими, хотя будет продолжать жить по-своему; в конце концов, именно так и можно определить истинную ценность и смысл жизни, а все иное отнести к несварению желудка у полусумасшедших философов.
Анисимов увидел диск солнца в небе, в ярком, неровном свечении повисший над краем лога; в нем играли иные краски, чем месяц или два назад, и Анисимов опять вспомнил о весне; от мыслей о близком тепле он несколько успокоился, заставил себя подремать у костра и затем уже стал действовать.
Больше недели в потоках машин и людей, с бесконечными проверками документов (каждый раз при этом сердце сжималось и словно смещалось в сторону), он добирался до Холмска, и когда в середине марта оказался на его улицах, сразу ощутил лихорадочные судороги взбудораженного города перед новой катастрофой. Жителей почти не было видно, везде ревели машины, и в трех местах Анисимов видел виселицы; на одной из них, под сильными порывами ветра, вырывающегося из холодного жерла улицы напротив, мертво покачивалась женщина в рваной кофте с широкими рукавами, и толстые ноги ее в лаптях нелепо и длинно вытянулись. Анисимов пошел дальше; он еще не знал, где будет ночевать, но то, что ему удалось благополучно добраться до Холмска, придало ему уверенности. Из домов вытаскивали тяжелые ящики, грузили на машины; прошла скорым шагом власовская рота; прогнали двух арестованных – заросшего мужчину лет сорока и парня, бессмысленно и бледно улыбавшегося на ходу. Затем Анисимов уткнулся в приказ, наклеенный на стену, который категорически запрещал русскому населению с десятого марта появляться на улицах Холмска без специальных пропусков и разрешений. «Какой устрашающий знак придумали», – опять с неожиданной неприязнью подумал Анисимов, глядя на графически четкое изображение орла, державшего в когтях кольцо со свастикой; у него, Анисимова, спецдокументы были в порядке, и он пошел дальше. Растрепанные солдаты в одних мундирах тащили неподалеку из подъезда длинный неповоротливый ящик, очень тяжелый: восемь человек приседали от натуги. Анисимов подождал и свернул на другую улицу; он определил по форме ящика, что это обыкновенный рояль, и подивился людской жадности; это многих губило, и немцы развратились, ну и черт с ними. Нужно было думать о себе; он коротко вспомнил о Елизавете Андреевне, и так как это воспоминание было неприятным, обожгло его и ослабило, запретил себе думать о ней дальше, зло сжал губы. Она-то переживет, подумал он, ей ничего не грозит, а вот ему придется теперь побродить, и чем дальше он окажется от Зежска, тем лучше для него, Это на безлюдье каждый новый человек приметен, а в скоплении все одинаковы, любой растворится и затеряется.
Анисимов шел, ничего не пропуская по пути, подмечая малейшую подробность вокруг; к вечеру ему удалось устроиться в отходящий в сторону Смоленска поезд, помогли и документы, и старинный отцовский золотой перстень с топазовой печаткой. Анисимов пронес его через все превратности и бури и расстался с этой фамильной побрякушкой не без сожаления. Стиснутый разгоряченными людьми, какими-то мешками и сумками, Анисимов устало думал, что жизнь дороже любых реликвий и условностей. Он с трудом заставил себя не спать, словно чего-то боялся; едва окурок начинал жечь руки, он скручивал новую цигарку. Рядом ворчали, но все это был российский люд, снявшийся с места по несчастью, и Анисимов не обращал на недовольных внимания. Колеса вагона уже не стучали, их ход перерос в сплошной стонущий звук, и Анисимов подумал, что и машинист боится, гонит; вот так и верь слухам. Говорили, что немцы по ночам боятся ездить, а вон как летит.
Несмотря на быстрый бег, в вагонах держался тяжелый, дурманный воздух, и когда Анисимов привык и к этому, он задремал; тяжкий удар подхватил его и куда-то понес, он потом помнил лишь это разрывающее чувство падения в жгучую пропасть; что-то орущее и грохочущее двигалось переменчивой массой рядом, вокруг него; за него кто-то цеплялся и визжал у самого уха; Анисимов сунул в это омерзительное вопящее тесто кулаком, и его тотчас отбросило назад. Тянуло гарью, со всех сторон кричали, выли, стонали обезумевшие, искалеченные люди. Нащупывая дорогу, Анисимов попал рукой во что-то липкое, и теплое, и в этом липком и теплом еще не остановилось движение; он не сразу мог отдернуть руку, не хватало места; он уже знал, что он цел и невредим, что нужно только выбраться отсюда, из-под обломков вагона. Где-то совсем рядом горело, он начинал чувствовать правой стороной лица тепло. Извиваясь между смятых перегородок, остервенело расталкивая изувеченные, стонущие тела, тоже делающие отчаянные попытки куда-то двигаться, переползая через них, Анисимов одолел несколько метров и, почувствовав, что теперь он вполне может встать на четвереньки, тотчас приподнял голову. Прямо перед ним была узкая, неровно сплюснутая щель окна, кто-то уже тянулся к этому просвету, глухо постанывая; Анисимов оттолкнул его и протиснулся в этот просвет сам. Ему казалось, что если тот, другой, опередит его, просвет закроется навсегда; он с облегчением глотнул чистый морозный воздух и после некоторых усилий вывалился из искореженного, ставшего чуть ли не на дыбы вагона, схватил пригоршню снега и стал жадно его глотать. От свежего чистого воздуха, от такого легкого избавления он ослаб, некоторое время сидел на каком-то обломке, затем отпозл подальше. Состав в двух местах горел, везде бегали люди, кричали, что-то пытались делать; ночь перед рассветом была особенно черна, и горевшие вагоны только сгущали темень. Заставив всех броситься в снег и замереть, с сухим звонким треском взорвался паровозный котел.
– Партизаны! Партизаны! – закричал кто-то высоким, далеко слышным голосом, полным тоски и страха; Анисимов пополз в сторону от разбитых вагонов, к угадывавшемуся вдали лесу, но тотчас кто-то опять закричал о взрыве котла, и Анисимов остановился. От леса даже издали тянуло промозглой враждебностью, вот там наверняка затаились партизаны, был не тот момент, чтобы оказаться в ними лицом к лицу, и Анисимов вернулся к месту крушения и после некоторых усилий сумел извлечь из-под обломков свой мешок. Теперь он совершенно успокоился и стал ждать дальнейших событий; начинало светать, лес, вырубленный немцами в обе стороны от полотна дороги на двести метров, четко прорисовывался на фоне неба. Устроившись в сторонке, Анисимов достал из мешка хлеба и копченой рыбы и поел, время от времени брезгливо морщась от близко раздававшихся стонов; на него никто не обращал внимания, и сам он не торопился включаться в общую работу, и когда кто-нибудь проходил мимо, делал страдающее лицо и начинал поглаживать вытянутую ногу.
Анисимов не заметил, как прибыл вспомогательный состав, большая, человек в двести, команда русских пленные под конвоем немцев, окруживших место крушения, стала растаскивать завалы и чинить полотно; конвойные кричали и подгоняли пленных с ломами и кирками, а тем временем всех пострадавших начали собирать в одном месте; Анисимов тоже встал и, волоча мешок, старательно обходя линию конвоя позади, двинулся к месту сбора. Солнце взошло, и дым от догоравших вагонов высоко в небе казался белесо-золотистым; щурясь на него и чувствуя хоть на время освобождение от опасности, Анисимов уже подумывал, что и на этот раз самое страшное пронесло мимо; он не замечал ни немцев с автоматами, ни пленных и внезапно, словно от толчка в грудь, замер. Первым его движением было наклонить голову пониже, проскочить мимо, но тотчас в нем сработало нечто иное, пересилившее и его желание, и его осторожность; перед ним в семи-десяти метрах стоял Захар Дерюгин. Нельзя было ошибиться, это был он, невероятно высохший, с заросшим лицом, в какой-то кургузой шинелишке с обмызганными полами, но Анисимов не мог ошибиться, это был Захар Дерюгин, какое-то время он глядел прямо на Анисимова, но было видно, что не узнавал его. Окрик конвойного заставил его нагнуться и снова начать стаскивать с полотна вместе с другими бесформенную груду, оставшуюся от вагона. Анисимов с трудом сдвинулся с места и через несколько шагов не выдержал, в тот же миг и Захар снова поднял голову и поглядел на него. И Анисимову почти неудержимо захотелось отбросить всякую осторожность и подойти к Захару, взглянуть в глаза и засмеяться; на какое-то мгновение вновь свела их судьба, свела обоих в незавидном положении, одного, правда, на свободе, другого – изуродованного пленом, но и этого было достаточно, чтобы ожило и проснулось все прошлое, и между ними ударом тока плеснулась ненависть. «Да он не узнал меня, не мог узнать, – заметался Анисимов, – конечно, не узнал, я это чувствую. Он смотрит мне вслед, даже через одежду жжет, но он не узнал меня, не мог, не мог, да и что же я могу? Не в моих силах помочь, а я бы на всякий случай это сделал, несмотря ни на что». Нет больше ничего устоявшегося в мире, и он, Родион Анисимов, крохотная мятущаяся частица этой бури, так же, как и Захар Дерюгин, и миллионы других Иванов и Петров, сполна платит за первородный грех революции; лишь крохотная часть процента, – полная расплата впереди, и ни у кого не хватит смелости даже представить эту страшную меру…
С лихорадочным, неостановимым ознобом в сердце Аниснмов удалялся все дальше от места встречи с Захаром Дерюгиным и все думал и сокрушался о прежней вражде с ним, и ему казалось, что думает он вполне искренне; он не отличал и не отделял себя от других; за спиной у него, под окрики и угрозы конвойных, пленные, изнемогая от голода и бессилья, продолжали растаскивать завалы на дороге; солнце поднималось выше, березы в лесу с почти светящейся корой ярко выделялись даже на фоне нетронутого снега; скоро должна была на этот мир, залитый кровью, затопленный из края в край смертью, обрушиться еще одна весна.
Когда Анисимов оглянулся в третий раз, он уже не мог различить Захара Дерюгина и лишь видел серую, длинную и неровно копошащуюся массу; от напряжения в глазах у него появилась резь, он торопливо отвернулся, спасаясь от слепого чувства страха; в то же время какая-то сила заставила его выбраться из толпы и вернуться назад к месту крушения; можно было думать, что Захар Дерюгин не узнал его, и успокоиться, но Анисимов слишком хорошо понимал, что случайности часто подводят, он не любил оставлять возможных свидетелей у себя за спиной, он не знал, что можно сделать и как, и хотел вначале всего лишь проверить самого себя. И сам он мог ошибиться, а если ему привиделось, что этот высокий пленный – Захар Дерюгин?
Острое морозное солнце показалось над лесом; от продолжавших гореть вагонов поднимался в безветрии широкий столб густого темного дыма; в еще не утихшей сумятице Анисимову удалось подобраться к месту, куда были снесены покалеченные и мертвые; он пристроился рядом, страдальчески вытягивая ногу и в то же время жадно вглядываясь в работавших неподалеку пленных. Светившее сбоку солнце, остро отражаясь в многочисленных осколках разбитых вагонных окон, мешало, и Анисимов, щурясь, припал на локоть около какого-то непрерывно стонущего человека со смерзшимися, в крови волосами и продолжал жадно вглядываться. Стоны рядом мешали, покосившись, он увидел залитое кровью, слепое лицо покалеченного, наполовину оторванное большое ухо; поморщившись, Анисимов отвернулся – и в тот же миг пригнулся к земле. Человек пятнадцать пленных несли мимо на железных ломах длинный рельс, и в первой паре Анисимов сразу увидел Захара Дерюгина; тот медленно шел, покачиваясь от тяжестит цепко охватив свой конец лома голыми руками; слегка опустив голову, Захар сосредоточенно глядел себе под ноги; чуть сбоку от пленных шагал немец-конвоир с автоматом на груди, в зимнем шлеме и в широкой пилотке поверх него; от напряжения на глазах у Анисимова выступили слезы; пленные с рельсом прошли, и минут через десять Анисимов опять увидел их; они, все с тем же конвоиром, возвращались назад порожняком, и у Захара Дерюгина, идущего впереди, короткий железный ломик покоился на плече; скрывая лицо, Анисимов опустил голову на нечистый, истоптанный снег. Он не знал, что можно было предпринять в его положении, и решил подождать еще; наметанным глазом он сразу отметил прибытие еще одной дорожной ремонтной команды, теперь уже исключительно немецкой; появилось три пары санитаров с носилками; в первую очередь они стали отбирать и уносить раненых и искалеченных солдат; и Анисимов, внешне ничем этого не выказывая, почувствовал себя довольно неуютно, но разволноваться окончательно не успел. В гулком шуме и треске работ, в криках конвойных и стонах раненых не различить было первых выстрелов, он лишь мгновенно отметил замершее везде движение, приподнялся на колени. Не то испуганный, не то ликующий вопль «Партизаны!» резанул его внутри, и сразу же густой, почти слитый всплеск винтовочной, пулеметной и автоматной пальбы обрушился, казалось, со всех сторон, и Анисимов, не раздумывая, тотчас подхватил свой мешок и, пригнувшись, метнулся в ту сторону, куда минут за пять перед тем прошла группа пленных с Захаром, неся очередной рельс. Он и на этот раз крепко верил в удачу и, не обращая внимания на беспорядочную повсеместную стрельбу, проскочил, скрываясь за обломками вагонов, метров сто; он увидел Захара сбоку, когда тот, словно падая вперед, в отчаянном рывке опустил высоко занесенный над собой лом на голову стрелявшего в сторону леса конвоира; Анисимов ярко и болезненно уловил именно этот момент, просевшую на глазах круглую голову немца и рванувшегося прямо к нему, к Анисимову, Захара с развевающимися оборванными полами короткой шинели, с белым прыгающим лицом; за ним Анисимов различил еще несколько бегущих пленных и, вырвав из-за пазухи пистолет, выстрелил чуть ниже надвигающегося, заполнявшего все пространство лица Захара; он выстрелил несколько раз подряд, и когда неразборчивое, вызывавшее какой-то леденящий ужас лицо Захара, надломившись, метнулось вниз, исчезло, Анисимов отчаянным прыжком кинулся в сторону, забился под какие-то обломки и трясущимися руками стал перезаряжать пистолет. Он никак не мог вставить на место запасную обойму, горячий пот заливал глаза; шум боя кругом разрастался, в дело со стороны партизан вступили минометы, короткие, трескучие взрывы мин со звоном вспыхивали где-то совершенно рядом, и Анисимов всякий раз невольно втягивал голову в плечи. Его охватило изнурительное опустошение, и даже если бы кто-нибудь стал стрелять в него, он бы не смог шевельнуться, и все-таки, пересиливая себя, движимый отчетливым, вполне осознанным желанием поставить последнюю точку, он выбрался из своего укрытия и ползком добрался до того места, где упал Захар Дерюгин. Разрывы мин стали чаще, с тугим звоном осколки отскакивали от железа искореженных вагонов, и Анисимов, пряча голову, то и дело вжимался лицом в снег, но последние два-три метра одолел разом и тотчас невольно сунулся назад, пальцы выброшенной вперед руки судорожно дернулись, загребая смерзшуюся мазутную щебенку.
Худое лицо убитого с раскрытыми, уже льдистыми глазами оказалось прямо перед ним, но это было не лицо Захара Дерюгина, это был кто-то удивительно напоминавший его; карие глаза и черные, отливающие синью волосы, похожие сейчас на невиданную, мертвую траву, слабо шевельнувшуюся под низовым ветром, застывшие, слегка приоткрытые длинные губы, все то, чего он издали не заметил и не мог заметить, сейчас произвело на него непередаваемой силы действие; как неожиданный ожог, он почувствовал у себя на лице растерянную улыбку; тупая боль сжала виски, и дикая мысль, что Захара вообще нельзя, невозможно убить, пришла к нему. Он лежал и все никак не мог оторваться от совершенно чужого мертвого лица, и только когда где-то совсем рядом с пронзительным треском взорвалась мина и на него посыпались комья мерзлой земли, он мгновенно вскочил и, петляя, побежал, на ходу пытаясь сориентироваться.








