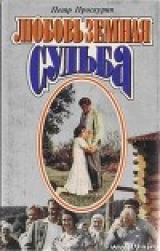
Текст книги "Судьба"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 61 страниц)
Захар привстал, совершенно бледный, с крупными каплями пота на лбу; все напряженно следили за ним, за обитой войлоком дверью разлаженно и сухо трещала машинка; Кошев раздвинул губы в улыбке, показывая всем, что заранее не верит ни одному слову Захара Дерюгина.
– А этого я тебе не скажу. – Захар бы мог сейчас перескочить прямиком пространство в две сажени и одним замахом перебить толстую багровую шею. – Ишь ты, знать захотел, завидки берут, Пал Семеныч? – спросил он внезапно прорезавшимся высоким голосом и, понимая, что несет чепуху, не мог остановиться. – Не стесняйся, прямо скажи, я и тебе устрою.., Я не жадный, девок и на тебя хватит… Мой совет – коновала вызвать, кастрируйте меня здесь прилюдно, вам будет потеха и партийному делу польза!
Прокурор не выдержал первым, смущенно заморгал, басовито гукнул в кулак, за ним засмеялся Пекарев; Захар употребил ученое слово «кастрировать», и оно прозвучало особенно грубо и вызывающе. На какую-то минуту от нечеловеческого напряжения Захар потерял способность говорить, вместо лица Брюханова он видел застывшее белое пятно: что-то странное и далекое ворвалось сейчас в душную, прокуренную комнату. Стены словно опали и рассыпались в прах; Захар видел кровавое от пожарищ солнце у края сухой степи; выполняя приказ, уносился от белых эскадрон, затягивая их в мешок. И, сбитый шальной пулей, все больше и больше валился на бок Тихон Брюханов, деревянно цепляясь за шею коня непослушными пальцами; конь бешено забирал в сторону от пути эскадрона. На всем скаку Захар разворачивает коня назад. Ударил чей-то истошный крик: «Назад, назад, стой, дурак, мать твою!», но какое там назад, смертный восторг захлестнул его, сквозь красную, светящуюся пыль он видел одного лишь Тихона, лучшего своего друга и земляка. Навстречу – рев накатывающейся вражеской лавы; несколько пуль взвизгнуло мимо, коротким ожогом рвануло плечо поверху; только бы не сусличья нора, мелькнула мысль, тогда конец. Он успел доскакать вовремя: визжа, чертом вертелся вокруг бессильно повисшего на шее коня Тихона, отмахиваясь от кричавших, скалившихся казаков; придерживая коней, они явно подзуживали, потешались над ним; густо мелькали со всех сторон потные, чужие лица.
– Вот бес! – восхищались громко казаки. – Брат его, что ль?
– Не тронь! Не тронь! – визжал Захар. – Зару-у-уб-лю-у-у!
Проснувшимся в последний момент шестым чувством Захар знал, идет последняя его минута на белом свете, казакам прискучит, и они тотчас шутя зарубят или пристрелят его; но этого момента он не мог забыть никогда. Он и сейчас не мог разобраться в тех минутах толково и обстоятельно; перед ним плясало черноусое, с оскаленным ртом лицо; в следующее мгновение, взвизгнув, серебристой змеей блеснула в воздухе шашка…
В этот момент и хватила картечь, раз и другой, сшибая людей и лошадей; в один миг вокруг Захара и Тихона никого не осталось, только билось в последних конвульсиях несколько человек и кружилась среди них с человеческим стоном в каком-то нелепом движении, пытаясь укусить себя за развороченный окровавленный круп, лошадь в белых чулках до колен…
– Дерюгин! – словно из густого тумана выплыл к нему голос Брюханова. – Немедленно прекрати хулиганить! Я требую!
– А чего с ним разговаривать? – раздраженно подал голос Кошев, с темными пятнами на толстых, вздрагивающих щеках. – Отобрать у него партбилет, и пусть катится! Он же никого слушать не хочет!
– Сядь, Кошев, – тяжело уронил Брюханов, поворачиваясь к Захару.
– А ты, Тишка! – обрадовался Захар, вскочив на ноги, и, не отрывая от Брюханова бешеных глаз, шагнул к столу. – Вот к чему ведешь, науськал цепняка? Значит, вам мой партбилет нужен? Вон он, на, если ты вправе, возьми, а издеваться над собою не дам. Помни, товарищ Брюханов, тебе мой партбилет долго помниться будет. Запанел, Тишка, революция-то тебе не в тот бок кинулась. В обратную сторону. Раз правду-матку режешь, так и мне дозволь. Без Мани нету мне жизни, не могу без нее, а ты думай как хочешь. На моей беде ты Советскую власть не упрочишь, хлебные горы не сгребешь! Бери, Тихон, твоя воля.
Захар еще шагнул к столу и во всеобщей тишине осторожно положил на стол перед взъерошенным Брюхановым красную, затемневшую от времени книжицу, никто ничего не успел сказать.
– Не годится, товарищ! – крикнул, протягивая руку, Пекарев, приподнимаясь на своем месте. – Немедленно возьмите обратно. Не колхозный инвентарь, вам должно быть стыдно!
Захар не слышал его; от напряжения он снова почти ослеп, но помнил, где находится дверь; повернув от стола, слегка выставляя вперед руку, он двинулся к выходу, неверно ступая; ему что-то говорили, ему показалось, что Брюханов крикнул ему вернуться, он лишь дернулся всем телом; по коридору он уже шел быстрее, а на улице, хватая воздух пересохшим ртом, торопливо поправил сбрую, подтянул подпругу, в слепой, нерассуждающей злобе пнул локтем в морду играючи потянувшегося к нему мягкими губами Чалого, путаясь, разобрал вожжи и, прыгнув в дрожки, в бешенстве чмокнул: «Пошел! Пошел!» Он знал, из окон райкома на него смотрят, знал, что его больше не окликнут и не позовут, и на него рухнуло облегчение. Он хотел лишь поскорее выбраться из города, в голове непрерывно, надоедливо звенело; твердое лицо Брюханова с жесткими набрякшими складками у рта неотступно стояло перед ним. Все было кончено, он уже никогда не вернется, не станет просить за себя. «Сволочи, все припомнили, – бормотал он с ненавистью. – Все припомнили, Москву и учебу… подсчитали…»
Пыльная дорога звенела под колесами, солнце садилось. Сильно дуло с запада, хвост розоватой от солнца пыли относило в сторону, в поле; последние окраинные домишки Зежска остались позади, мелькнули мимо низкие, под дранку крыши сушилок кирпичного завода; начиналась низинная равнина, по обочинам стояли столетние ракиты, причудливо искривленные, насквозь изъеденные трухлявыми дуплами; несколько веков назад по дну этой равнины бежала, очевидно, большая река, оставляя высокие размывы, теперь же здесь струился небольшой ручеек, называемый Сосницей; в жаркую пору лета он пересыхал, только в колдобинах, в густой липкой грязи как-то ухитрялись выживать верткие, старые вьюны, похожие на змей, и ребятишки с корзинами ходили их выгребать; будучи парнем, Захар и сам любил это занятие.
Колеса дрожек гулко простучали по бревенчатому настилу моста через Сосницу; Захар замычал. В висках болело, и, хотя он привык пересиливать боль, ему захотелось остановиться; попридержав коня, пошатываясь, он сошел с дрожек и долго сидел под ракитой, привалившись к ней спиной. Все было кончено, он еще раз понял это, глядя на тускло освещенную низким солнцем листву, но он не мог иначе, он это тоже понял, ну что ж, и пора, до смерти надоело тяжелое, немужицкое дело; подписывать бумаги и распоряжаться другими людьми, и может, впервые шевельнулась в нем глухая тоска; а ведь все обман, все неправда, думал он, ничего нет в мире крепче силы зерна, и его слабый, немощный росток оказывается сильнее самого твердого камня. Он поднял глаза, густая рожь стояла, начиная обвисать тяжелевшим колосом к земле; нужно было что-то сделать, подобравшись, он прыгнул в дрожки и, прихватывая вожжи, ожег Чалого кнутом, выворачивая его в поле, в рожь; последовал сумасшедший бросок жеребчика, едва не выскочившего из оглобель, в лицо Захара ударил густой теплый ветер, и безмолвное, неоглядное поле рванулось навстречу. Захар привстал на колени, покачиваясь, выбирая устойчивое положение, еще раз перетянул коня кнутом.
– По-ошел! – Чалый прижал уши от стонущего звериного крика, понесся непрерывными скачками.
Темнело; у самых горизонтов, разрезая просторы полей, вставали леса с их прохладой и сумеречностью.
10Оставив в один раз опавшего в теле коня ночному сторожу Володьке Рыжему, Захар, не сказав ни слова в ответ на его молчаливое осуждение, побрел по селу, время от времени похлопывая черенком кнута по голенищу; ему тошно было возвращаться домой, хотелось к Мане, а ноги словно сами собой несли в сторону сельсовета; он остановился перед ярко освещенными окнами квартиры Анисимова. В замысловатые разводья переплела судьба их жизни, ох и переплела, глаз сломаешь, не разберешь. От желания посидеть и потолковать сейчас с Анисимовым, именно потолковать, по телу Захара пробежал глубокий болезненный трепет; увидев перед собой чистого, в свежем белье и с влажными редкими волосами, точно из бани, Анисимова, Захар облегченно вздохнул – могло не оказаться дома, не всякий откроет в такой поздний час.
– Здорово, здорово, Тарасыч, что это так поздно? – спросил Анисимов, жестом приглашая проходить и присаживаться, и тотчас пожаловался: – Понимаешь, Елизавета Андреевна сильно прихворнула, ангина посреди лета. Говорит, захотела холодной воды прямо из колодца. Извини, выйти не может хозяйка-то. И у самого поясницу прихватило, ступить не могу…
Он говорил, глядя на Захара спокойно и выжидающе; Захар грузно сел, усмехнулся в лицо Анисимову.
– Ну так что, Родион, теперь доволен? – спросил он, как всегда наталкиваясь на насмешливо-приветливую настороженность этого человека, с голосом искренним и проникновенным, и опять, уже в который раз, чувствуя перед собой глухую стену, через которую никак нельзя было пробиться; Анисимов внимательно взглянул на него.
– Ты, Тарасыч, говори прямо, не кружи около – Анисимов сразу, едва увидев перед собой Захара, понял причину его позднего прихода; он ждал этой минуты и уже давно не испытывал такого острого наслаждения. Лиза, конечно, завела бы свою песню про обмельчание, конечно, он согласен, о значении человека необходимо судить по масштабам его врагов; в данном же случае нечто иное, здесь не в политике дело, если хочешь, дорогая женушка, приятно одержать верх над этой бунтующей протоплазмой. К глухому, задавленному чувству классовой непримиримости примешивалось нечто иное, и если разобраться, копнуть глубже, он, Родион Анисимов, любил Захара Дерюгина нежнейшей любовью, что бы он делал без Захара Дерюгина здесь, в этом болоте? Заживо гнил, Захар ведь его вторая половина, его изнаночное «я», и пусто и беспросветно было бы ему в жизни без этой противоборствующей силы.
Не упуская ни малейшего движения в лице Захара, Анисимов, проверяя свою догадку, не спешил торжествовать победу, он любил сейчас Захара Дерюгина как свою собственность и готов был искренне обидеться за него.
– О чем ты, Тарасыч, с таким возмущением? – повторил он, ласково поглядывая на Захара. – Садись, садись, сейчас кое-что схлопочу, разговоры потом, слава богу, жара свалила, ну, веришь ли, весь потом изошел.
Говоря, он достал бутылку водки из шкафчика, внутри шкафчик был застлан красиво вырезанной по краям плотной белой бумагой, два стакана, поставил тарелку с хлебом и вареное мясо, малосольные огурцы.
– Жизнь, Захар, истина со многими неизвестными, никто их не отменит. Я тебе сочувствую, ишь почернел за последние дни. Однако вот в чем разница: ты считаешь это злыми кознями других, а я – объективной закономерностью, – говорил между делом Анисимов, вытирая полотенцем вспотевшую шею и лицо. – Не огорчайся, прими философски спокойно. – Он еще понизил голос, оглянулся на дверь. – Вот живет, живет человек, ищет, борется, трепыхается, а придавит его несчастьем, и конец. Хотя о чем я? – Он взялся рукой за поясницу, сморщился. – Что там на бюро? Хорошенько прочистили?
Захар взял в руку чуть не полный стакан с водкой, вздохнул; негромкий, убаюкивающий голос Анисимова опутывал сырой пеленой, хотелось закрыть глаза и задремать; Захар тряхнул головой, густые волосы упали ему на лоб, взглянул на Анисимова заблестевшими глазами, отмечая каждое его движение, улавливая и запоминая каждую новую интонацию; в свою очередь он восхищался им. Анисимов, не дождавшись ответа, кончил хлопоты, аккуратно расправил и повесил полотенце на свое место и сел за стол, приподнял стакан.
– Будь здоров, Тарасыч, привык я к тебе, друг без друга скучно нам станет. Давай за счастье Лизы, – Анисимов кивнул на закрытую дверь во вторую комнату. – Между прочим, она тебе очень симпатизирует, Лиза, везет тебе, я гляжу, в жизни. В газетах о тебе пишут, в Москву посылают, на всех активах хвалят… а голова, того, слабая еще, закружилась… Возгордился, а это недопустимо для коммуниста. Я тебя не раз предупреждал, Захар. Ну, будь здоров!
Они выпили, Захар с хрустом откусил огурец, огурцы были вкусные, нежного посола, смотри-ка, Лезавета Андреевна городская, а выучилась.
– Много говоришь, Родион, не в смех ведь говоришь, всерьез, суетишься чего? – От жгучести водки отмякал, распускался судорожный ком, леденевший в Захаре всю дорогу от Зежска до Густищ.
Анисимов усердно придвигал закуску, не забывая и себя, мясо было вкусное, нарезано по городскому, тонкими ломтями. Анисимов молча ел, он мог и подождать, какой бы оборот ни приняло там, в Зежске, дело, ему равно интересно; ошибиться он не мог, Захар Дерюгин сходит с беговой дорожки именно в нужный момент, по желанию его, Родиона Анисимова, и тут ничего не поделаешь, это объективная истина; жалко, разумеется, Захара, деловой мужик, но что он в колоссальных социальных водоворотах истории? И сам он, Родион Анисимов, песчинка в этих водоворотах, но он умеет мыслить и наслаждаться, а наслаждение необходимо организовывать, создавать; в этом отличие интеллекта от грубых, примитивных сил. Анисимов разлил остатки водки по стаканам и, закурив, сел удобнее, боком к столу. А вообще-то, отметил он про себя выдержку Захара, пообтесался мужичок за последние два-три года, научился сдерживать необузданные порывы плоти, тоже, кажется, наслаждается своей выдержкой, наблюдает, и между ними сама собой завязывалась детская борьба, кто кого переглядит.
– Да, говорить ты не горазд, Тарасыч, таких, как ты, молчунов – поискать. – Анисимов глубоко затянулся, наслаждаясь табаком, теплотой водки, присутствием Захара, ощущая во всем этом живительную горчинку – раскуси, и во рту разольется огонь.
– Не выдержал, – довольно засмеялся Захар. – Да говорить-то о чем? Хотел, Родион, просто узнать, теперь тебе легче? Да и сам вижу – легче, рад.
– Легче, Тарасыч, – охотно согласился Анисимов, отбрасывая всяческое прикрытие, не находя нужным больше крутить около. – И тебе должно стать легче, Захар. Кому-то надо было этот нарыв вскрывать, раз у самого духа не хватило.
– Ладно, и так можно повернуть, – на лбу Захара набрякли крупные, одна на другую наползшие складки, – одного я не пойму, Родион, твоего куша.
Анисимов хотел было сказать, что он и сам этого не понимает, но успел остановить себя; разговор шел начистоту, и нужно играть честно, в критических положениях он любил честную игру.
– Не поймешь, Тарасыч, – с ласковым сожалением, отделяя себя от Захара, сказал он, – хотя за эти годы и вырос, отряхнул с себя землицу-матушку. А я бы хотел, чтобы ты это как следует понял.
– А ты попробуй разъясни, – весело попросил Захар, сдерживая голос. – Может, пойму и не зря старания твои пропадут.
– Пустяки, Тарасыч, – весело отмахнулся Анисимов. – Вот ты на меня сейчас зверем смотришь, а я лишь, в конце концов, выполнил свой долг, жалею, что поздновато. Раньше тебя надо было остановить, вот такой встречи у нас и не состоялось бы. Если ты умный человек, ты меня поймешь и потом когда-нибудь добрым словом помянешь.
– Понимаю, Родион, отчего же не понять. Туговато, но понимаю, бес тебя точит, а куша твоего не вижу, Родион!
– Нет, Тарасыч, ничего ты не понял, тебе же добра хотел, – отозвался Анисимов, дружески притрагиваясь к остро выступавшему плечу Захара. – Ну да ладно, на том свете сочтемся…
– Ну, ну, Родион, рано ты лазаря запел – я-то еще живой, – с натужным, отчаянным весельем перебил его Захар, отодвигаясь. – Зря меня хоронишь, Родион, гляди, подавишься таким мослом.
– Подожду, Тарасыч, подожду, – дружелюбно и так же охотно согласился Анисимов, – давно жду, когда ты одумаешься, ты же горы можешь своротить, если захочешь. Под бабьим подолом живьем себя хоронить… Эх, чем у тебя только голова набита! – с искренней горечью выдохнул Анисимов.
– Ладно, Родион, разговор у нас вышел серьезный, – не сразу отозвался Захар. – Твой верх взял… Может, так оно и надо сегодня, ну да посмотрим, куда кривая моей жизни вывезет. Сбил ты меня с ног, Родион, да ведь не тот борец, кто поборол, а кто вывернулся.
– Опять ты за свое. Вывезет! Это же малодушие, ты коммунист, мужик, сам должен своею жизнью управлять, должен бороться, – перебил его Анисимов с темными запавшими глазами. – Бороться, понимаешь, результат не так уж и важен. Допьем водку, что ли?
– Допьем, – согласился Захар; легче ему не стало, зря он пришел к этому человеку и сидит с ним среди ночи, пьет и точно погружается в зыбучую, тонкую трясину, еще немного, и опять разольется удушливая чернота; свербит внутри какая-то порча, тянет в трясину, а встать нету сил, – Допьем, – повторил он про себя, сейчас он встанет, сбросит с себя этот дурман. – Ладно, Родион, поговорили. Подрастут мои сыны, они за меня скажут. Вот я им и передам все недоделанное. Не хотелось бы им столько погани-то из рук в руки, только другого выхода не придумаешь, Время, видать, не приспело. Говори не говори, бог есть, Родион, не поповский… а что у каждого в душе…
Не слушая больше Анисимова, захлестывающегося торопливыми словами, точно внутри у него что то стонало и булькало, Захар вышел на улицу, так ни разу и не уловив присутствия Елизаветы Андреевны в доме; в памяти остались темные провалы глаз Анисимова, его усмешка. Захар покачнулся, в ноздри ему ударила свежая прохлада ночи; что теперь раздумывать, жизнь его одолела. Знать, заел какой-то нехороший перекос, о котором говорили сегодня на бюро. Анисимова, что ж, Анисимова понять он мог. Бумажная душа… И спорить с ним нечего, тут все налицо. Можно, конечно, переломить себя, пойти к тому же Брюханову, сказать ему, что Анисимов больше о своей шкуре думал, тот потребует доказательств, а доказательств-то и нет; вот Брюханов и сведет разговор к личной обиде, крыть нечем.
Пройдя немного, Захар опять остановился, земля окончательно уплывала из-под ног; он поднял голову, звезды в небе пошли в стремительный круговорот, сливаясь в один мягкий блеск; он вздохнул и, чувствуя, как размякают колени, скользнул к земле, находя тихое наслаждение в этом спасительном движении и в твердости под собой.
От легкого обморока он очнулся скоро, с трудом добрался домой в каком-то полусне-полубреду и уже часа в три опять был на ногах и по укоренившейся за эти годы привычке отправился на конюшню, куда сходились люди получать наряд. Солнце готово было показаться, по всему селу топились печи, играл в рожок пастух на околице, поторапливая опоздавших хозяек, коров выгоняли за ворота. С Захаром со всех сторон здоровались, не останавливаясь, он отчужденно кивал.
Перед избой Володьки Рыжего Захар остановился, полюбовался на длиннохвостого красавца петуха; тотчас показалась Варечка с долбленым корытцем в руках, вынесла корм – перемешанную с отрубями вареную картошку. Варечка поздоровалась с Захаром, поставила корытце на землю и стала пронзительным голосом сзывать кур. Первым прибежал длиннохвостый, весь золотой с чернью петух и тоже стал подманивать кур; они, разномастные, суетливо бежали к нему, вытягивая шеи.
– Петух у тебя, Варвара, – с похвалой сказал Захар, желая сделать хозяйке приятное, – весь в золоте, чисто турецкий султан. Гляди, как его бабий полк слушается, вот подлец!
Варечка незаметно поплевала, боясь дурного глаза.
– Зараза никудышная петух! Чего уж тебе завидовать! – недовольно сказала она. – Один только хвост и есть, на курей совсем не глядит, не несутся.
– Не греши, Варвара, напраслину возводишь на свою животину…
– Случаем, случаем, Тарасыч, – тотчас перебила его Варечка. – Больше за весь день ни-ни, хоть от хвоста до зоба пшеницей его набей. Думаю хвост обрезать, уж не хвост ли ему помехой?
– Какой петух без хвоста, придумаешь, Варвара! – засмеялся Захар, давно поняв Варечку. – Матери скажу, она у тебя яиц с десяток под курицу возьмет, больно важен петух, сукин сын.
– Да уж какие там яйца, Тарасыч? – совсем испугалась Варечка. – Только корму перевод, жрут, глашенные, а не несутся, хоть плачь. Самой-то вот как яичка хочется.
Захар пошел дальше; ему словно бы и стало веселее, но и весь день не покидало чувство обреченности, отчужденности. И люди это чувствовали и старались по своим делам обращаться к кому нибудь другому.
… Колхозное собрание состоялось недели через две, в первую пятницу августа, и прошло оно при многочисленном народе, с долгой и горячей руганью и далеко не гладко. Из Зежска приехал представитель – предрика Павел Семенович Кошев, по одной только атмосфере в колхозной конторе, по тому, как с ним здоровались люди, он понял, что дело ему предстоит нелегкое и, главное, неблагодарное. Все-таки в глубине души он уважал Захара Дерюгина, и ему было жаль его, хотели проутюжить как следует, а оно вон как отрыгнулось. Дикий мужик, сумрачно думал Кошев с некоторой оскоминой в душе; можно было, разумеется, словчить, пусть бы Брюханов послал другого или сам ехал, но не в характере Кошева было перекладывать свою тяжесть на чужие плечи…
На закрытом правлении, беря быка за рога, Кошев голосом, не допускающим возражения, потребовал освободить Захара Дерюгина от должности председателя колхоза не только по рекомендации райкома и райисполкома, но и по собственному желанию Дерюгина; и в продолжение всего правления, затем и на общем собрании Захар сидел молча и, казалось, безучастно; перед ним белели неровные ряды знакомых лиц, он их сейчас не различал. Где-то в глубине помещения, у самых дверей, мелькнуло знакомое лицо, и он, присмотревшись, с удивлением узнал жену; раньше она никогда не ходила на собрания. Захар стал думать о ней; ее появление дало толчок в сторону, и он не слышал и не видел ничего вокруг, вспоминая жениховскую пору после гражданской, длиннополую, бьющую по ногам шинель…
Не кого-нибудь, именно ее выбрал, шестнадцатилетнюю сироту, выросшую у тетки, первые годы жили счастливо и согласно, и потом у них никогда не случалось ругани; забытые мелочи в одночасье встряхнули память и казались сейчас особенно важными и необходимыми. Жена всегда держалась ровно, и он подчас тешил себя спасительной мыслью, что она в заботах ничего не замечает; ему этого хотелось, и он прятался за эту мысль; но она-то покойной была оттого, что ей некуда было деваться, и старела на глазах; неожиданный стыд почти выдавил на глаза слезы, и Захар почувствовал загоревшуюся кожу лица; ему захотелось подойти к жене и увести ее отсюда, нечего ей слушать, как его будут совестить, и так ей горько; все происходящее показалось ненужным, было похоже, будто дети затеяли игру и еще в самом начале заскучали. Он тоскливо огляделся. В тот же миг раздался громкий голос крестного, Захар вздрогнул; крестный, стоя у полутемной стены и подняв руку с зажатой в ней фуражкой, негромко, но так, что было слышно всем, сказал, обращаясь к председателю райисполкома:
– По какой такой надобности, товарищ начальник, мы должны Захара Дерюгина с председательства долой? А может, мы без вашего подробного разъяснения не желаем этого?
– Не жела-ам! – прогудел кто-то у самой двери, и Захар не разобрал кто, показалось, Микита Бобок; вслед за этим сердитым возгласом «не жела-ам!» клуб, довольно просторное помещение, сложенное из двух кулацких изб, наполнился гулом голосов; вскочив на ноги, люди размахивали руками и кричали, и в неясно усилившемся гуле голосов, перенесшемся и за дверь, на улицу, где стояли не вместившиеся в помещение, пробивалось недовольство и недоумение народа. Сильно застучавший кулаком по столу Кошев понял, что начал собрание с неверной ноты, выпрямился, напрягши скулы, пережидая нараставшую волну человеческих голосов.
– Не жела-ам!
– Отчего это наш председатель не по нутру начальству!
– Эй, рик! Чего загорелся-то, не нравится?
– Не согласны Захара снимать!
– Нет нашего согласия! Это что ж за Советская власть – народ неволить? Не согласны!
– Расходись, мужики, по домам, нечего воду толочь! Земля наша артельная – воля общая, не согласны на замену головы!
– Постой, постой, ты за себя одного балакай, за все обчество неча! – подхватился со своей скамьи Фома Куделин, задрав заросший редкой щетиной подбородок и всем своим петушиным, взъерошенным видом показывая, что час его пробил и сейчас он скажет о Захаре одному ему известную правду. – А у меня вот другое… дорогой товарищ из району. Захара надо не только с председателев свалить, а из колхозу тоже вычислить и вместе со всей семьей выскоблить по етапу в Сибирь подале. Вот мое разумение. А если вы его доподлинно снимите, могу больше сказать.
Примолкшее ненадолго собрание взорвалось негодующим гулом и криком, Куделина со всех сторон дергали, рвали, принуждая сесть; ворочая белыми от страсти глазами, он тоже кричал и отбивался; Кошев, сознавая, что делает нехорошо, но что необходимо ухватиться хотя бы за эту кстати подвернувшуюся соломинку, подняв руку, не без труда перекрыл общий гвалт своим густым громогласным голосом:
– Молчать! Молчать! Каждый имеет право высказать свое мнение, на то и общее собрание. Продолжайте, пожалуйста, товарищ… ваша фамилия?
– Мы – Куделин, – скромно сказал Фома, оправляя на себе растерзанную свитку и продлевая значительность минуты. – Мы правду, товарищ начальник, говорим. Захар Дерюгин – какой он председатель? Бандит он сущий, по договору с нашим шурином Юркой Левшой нас пьяными напоил, а за это время, пока мы спали, нашу хату с хутора на село переставил. С тех пор мы трохи в голове тронутые, по ночам спать боимся, как бы куда не унесли, а от этого работать не можем, ослабли до конца. И его прихлебателя из подкулачников, Акимку Поливанова, надо вместе с Захаром из колхоза вычистить немедля, а то они… – Договорить Куделину не дали, заорали, затопали, засвистели.
– Лодырь ты! – взорвалось собрание.
– Боковушник, пролежни нажил! В шею его отседова!
– Тебя в Сибирь и отправить, там хоть бы работать заставили! Ишь себя величает: мы да нас! Черт кудлатый! Лежебока!
– Тю-ю! – отбивался Фома Куделин и, увидев пробиравшуюся к нему из другого угла свою бабу с недобрым румянцем на щеках, поскорее сел, угнул голову, стараясь стать незаметнее.
Мягко и трудно сдавило в груди у Захара, он почувствовал, что вот-вот осрамится перед всеми, пустит дурную слезу; уже жжет глаза, и лицо застилает сухой мглой; в этот момент к нему выплыло лицо Анисимова, глядевшего с деланным сочувствием, и Захара с этого момента взяла и повела через омуты и дебри безошибочная обостренная интуиция; Анисимову нужен был праздник на людях, ему, немного не хватало до высшей точки. Ладно, потерпит, решил Захар с ожесточением, сойдет для него и так. Возмущаться и бить себя в грудь он не станет, не станет орать и подлаживаться под недовольство людей. Можно было бы наплевать на Анисимова и на его радостное ожидание, главный корень в другом, беду исправить уже нельзя. И Анисимов это знал и ждал лишь одного; еще большего своего верха через его, Захара Дерюгина, всенародное унижение.
Собравшись и приготовившись сердцем, Захар сутуло поднялся, выбрался из-за стола, и сразу кончилась скованность и неуютность; стряхивая с себя излишний груз, он посмотрел на ряды знакомых лиц; люди затихали под его взглядом.
– Подожди, крестный, – остановил Захар Свиридова, пытавшегося высказаться вторично. – Дайте же и мне самому слово. Слушайте, земляки и землячки. На погост вы меня отволокли? Не надо, я живой и долго жить думаю. Напрасно расшумелись на товарища Кошева из района, он правильно ведет дело, виноват тут не он, а я сам. Он только выполняет свой долг честного большевика и должен выполнить его до конца.
– А ты, выходит, большевик нечестный? – закричал Юрка Левша, торчком выскакивая из общей массы. – Объясни нам, коль мы такие неграмотные. Кругом-то вертеться проку мало, давай в самую середку жарь, выдюжим, не бумажные.
Захар выслушал, спокойно глядя на него, затем засмеялся:
– Успокойся, Левашов, успокойся, объясню. Был большевиком, большевиком и останусь и за Советскую власть жизнь положу, коли придется, потому что наша власть, родная, нами сделанная. В остальные тонкости вдаваться недосуг, сами дойдете. А с председателей прошу меня освободить, товарищи дорогие, прошу поддержать мою просьбу, освободить меня от председательских обязанностей. Устал я, сколько лет без передыху. А что умею пахать да косить, всякую мужицкую работу делать, не мне вам говорить, работу я обещаю вам хорошо исполнять. Насчет Акима Поливанова говорили, по моему пониманию, чтоб побольнее меня укусить. Напрасно мужик страдает. Поливановы – хорошая, работящая семья, вредно отлучать ее от колхоза. А я что ж… постоял – и хватит, надо и другому пробу сделать, может, справнее меня обчеству послyжит.
Захар забыл об Анисимове, говорил всем, и ему было радостно говорить, и был он весь звенящий; той же обостренной сейчас до предела внутренней силой он за какие-нибудь пять минут вновь поднялся выше Родиона Анисимова, их внутреннее несогласие друг с другом не имело больше значения и смысла; Захар широко и ярко улыбнулся навстречу Анисимову.
– Ну вот, Родион, думаю, поддержишь, потому больше других старался и опять же при должности состоишь, твоя обязанность поддержать, все тонкости в моем деле не один раз прощупал, тебе и козыри.
Он говорил и улыбался, и Анисимов, сидевший на первой скамье, справа, встал, одернул гимнастерку.
– Незачем отговаривать человека, видите, твердо решил – сам себе большой. Не совру здесь, высказав перед собранием свое мнение. Захар Тарасыч был хорошим председателем, отлично вел хозяйство. У любого может случиться заскок, в данный политически важный момент нехорошая, несоветская муха ужалила Захара Дерюгина. Говорят, семь раз отмерь, один отрежь, недаром говорят. Надо бы и Захару Тарасовичу крепенько подумать, мало ли кто не оступается, важно вовремя из колдобины вышагнуть на ровную дорогу.
– Не согласны! – бухнул Микита Бобок и растерянно замолчал, часто моргая и оглядываясь в ожидании поддержки; Анисимов, повернув к нему голову, ласково переспросил:
– С чем не согласен, товарищ Бобок?
– Оставить Захара головой! – оглушающе выдохнул Бобок из задних рядов, напрягаясь в лице. – Он обчеству самый раз по душе!
– Кто хочет высказаться, прошу сюда, к столу, – зло оборвал Кошев; время было позднее, а дело не двигалось с места.
Микита Бобок обиделся и сел на свое место, все уже одурели; Кошев, зелено-бледный от ядреного дыма самосада, то и дело вытирал платком влажную шею и не знал, как свернуть собрание и свести концы с концами. Сколько он ни настаивал закончить дело враз, собрание пришлось переносить; люди расходились недовольные, доругиваясь на ходу; летняя теплая ночь подходила к концу, ярко, в полную силу горели звезды, начинала чувствоваться предрассветная влажность, и по всему селу кричали первые петухи. На другой день по рекомендации районных инстанций колхозное собрание избрало председателем одного из членов правления – бывшего красногвардейца Куликова Тимофея Васильевича, он был лет на пять старше Захара Дерюгина и слыл по природе своей работящим мужиком и молчуном. Услышав его кандидатуру, многие густищинцы вначале переспрашивали, кто же это такой, но проголосовали за него довольно дружно, и Кошев перевел дух. С уважением поглядывал он в сторону Захара; тот, с чувством прямо физического облегчения, перестав наконец быть центром внимания, разговоров и пересудов, тут же при всех отдал печать колхоза новому председателю; помедлив, повернулся к Анисимову, оживленно говорившему с председателем райисполкома; оба замолкли.








