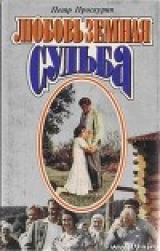
Текст книги "Судьба"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 61 страниц)
В середине марта дни заметно увеличились, и на дорогах и пригорках стало подтаивать; Сокольцев получил задание установить связь, найти двух-трех человек в селе Радогощь для наблюдения за железной дорогой, проходившей там почти по огородам. Сокольцеву дали адрес явки, но, как оно часто и бывает, все получилось иначе; Сокольцеву пришлось двух своих человек, Пекарева и Костю Чемарина, оставить, не доходя до Радогощи трех километров, в хуторе из семи дворов и идти ночью в Радогощь одному; оказалось, что в Радогощи стоит немецкий гарнизон человек в сорок. Сокольцев поколебался, простая осторожность подсказывала ему, что туда лучше не ходить, но он все-таки пошел, благополучно пробрался к нужному дому. Было ветрено, топились печи, и пахло сырым дымом, в центре села порой поднимались голоса, но разобрать ничего нельзя было. На стук из избы выглянула молодая женщина в накинутой на плечи шали; обменявшись несколькими словами, они прошли в избу, хозяйка, не зажигая огня, собрала Сокольцеву поесть, навалила с верхом большую миску жаренной в чугуне картошки, принесла сала, соленых огурцов и все сокрушалась, что нельзя света зажечь, а в темноте любая еда в горло не лезет. Сокольцев положил рядом с собой на лавку автомат, снял телогрейку; хозяйка была молода, с красивым низким голосом, и это несколько смущало Сокольцева; за последний год он успел отвыкнуть от женщин и сейчас не знал, с чего начинать разговор. Выручила сама хозяйка.
– Ешь, ешь, после поговорим, – заботливо сказала она, в полумраке придвигая к нему миски и хлеб. – Сейчас мух нет, можно без опаски.
– Спасибо, – сдержанно отозвался Сокольцев. – Муха не фашист, вот руки бы мне ополоснуть, третий день не умывался.
Хозяйка повела его к порогу, сама полила, подала полотенце; Сокольцеву все больше хотелось увидеть ее лицо, почему-то казалось, что глаза у нее серые, с усмешкой. Сокольцев сел за стол и стал есть; хозяйка устроилась напротив и тихо рассказывала о том, что творится в селе и на железной дороге, как ведут себя немцы и что дядя Илья, нужный Сокольцеву, по-прежнему работает смазчиком на станции в пяти верстах от села, сегодня в ночь он на cyточном дежурстве и будет только завтра к вечеру.
– Выше головы не прыгнешь, – сказал Сокольцев с легкой досадой. – Завтра вечером опять подойду, пусть ждет. За ужин спасибо, давно так сладко не ел, самое главное – досыта.
– Зачем же киселя хлебать лишний раз? – спросила хозяйка с каким-то затаенным ожиданием. – Оставайся, ложись в постель, завтра до вечера отоспишься, а там и дядька Илья подоспеет. Право, – добавила она, почувствовав колебание Сокольцева, – чего тебе мучиться? А как что, скажу, в дом мужика взяла из пленных. Тебя Алексеем звать, а меня Полей. Поля Аверина я.
– Знаю, – в голосе Сокольцева послышалось замешательство; хорошо бы сейчас после сытного ужина, сразу, отяжелев телом, и в самом деле забраться в теплую постель, отоспаться за сутки; глядишь, и хозяйка подвалится, под бок, больно что-то активно хлопочет.
От этой откровенной мысли Сокольцев почувствовал приятную истому; в конце концов, что ж, ему не хочется хоть сутки по-человечески провести?
Вслед за хозяйкой он прошел на вторую половину избы, дождался, пока она постелет, и стал молча раздеваться; да что, говорил он себе, словно оправдываясь, и ее, молодую. оставшуюся в одиночестве, понять можно, и себя; ну а если ничего и не будет, можно вволю выспаться.
Поля ушла на другую половину избы, тихо прикрыв за собой дверь; Сокольцев со странным ощущением неестественности лег, утонув в пуховых подушках и перине, и закрыл глаза; сон пришел сразу же, но продолжался недолго; Сокольцев приподнялся и напряженно прислушался. В избе было тихо, и он растерянно подумал, что, верно, долго спал; пожалуй, обиделась Поля, нехорошо. Может, вышла куда, подумал он, сел, привычным точным движением взял автомат и положил его на колени, дулом к окнам. Он сейчас был готов вскочить туго сжатой пружиной, развернуться в любой момент; да нет, не может быть, тут же подумал он, отгоняя мелькнувшее подозрение, не мог я так ошибиться. Это было бы уже опасно, такой промах…
Сокольцев хотел спрыгнуть с кровати и одеваться; тихий, сдержанный вздох, донесшийся из-за двери, остановил его.
– Поля, – тихо позвал он и повторил: – Поля…
Он услышал движение за дверью, коротко скрипнуло в петлях, и он увидел длинное светловатое пятно, приближавшееся к нему; он отодвинул от себя автомат и принял ее в руки и почувствовал теплоту ее слегка вздрагивающих плеч; он потянул ее к себе и уже ни о чем больше не думал; он лишь помнил потом ее острые сухие губы у себя на груди и на шее, и от них ему было мучительно трудно и хорошо.
– Что же ты не сказала, Поля? – спросил он ее потом, лежа рядом, благодарный и успокоенный, и тихонько поглаживая ей грудь.
– Ну так что ж, что ж, – сказала она, словно оправдываясь и стыдясь. – Так получилось, не успела замуж, двадцать лет, а не успела. Все гордилась, а вот уже и гордиться не перед кем стало.
– Не жалеешь, Поля? – Сокольцев притянул ее к себе, поцеловал. – Ничего я тебе сказать не могу, время такое, вряд ли и встретимся…
– О чем жалеть… Только о том, что второй ночки такой не будет. Да уж я тебя помнить буду всю жизнь, увижу опять или нет. Спи, Алешенька, спи, родной, а я посижу с тобой, ты спи, спи, ни о чем не заботься, тебе завтра в ночь дорога дальняя, дальняя, но впереди у нас много-много всего… завтра до самого вечера, а может, и больше.
Он не заметил, как ее слова перешли в тихую, грустную песню о том, как за рекой жила бедная сиротка и все думала о том, что придет ее суженый, и все в мире изменится, и небо расцветет, и горе пройдет, и будут литься дожди искристые да серебряные. Сокольцев заснул и уже во сне чувствовал ее тихие поцелуи, и ему было хорошо, и от этого все время хотелось проснуться. «Да я люблю ее, – думал он во сне счастливо и растроганно, – люблю эту случайную искру на пути. Нет, она не должна погаснуть, потому что я люблю ее и от всех ветров окружу собой, нет, я не дам ей угаснуть. Я останусь с ней навсегда», – решил он, обнимая во сне теплое, доверчивое тело и чувствуя, как ему хорошо рядом; война, разумеется, кончится, и он уговорит ее учиться; он увезет ее к себе в Москву, потом на Волгу, к родным, и по вечерам они будут ходить купаться.
Сокольцев проснулся внезапно; показалось, что кто-то сильно стучит в дверь, сотрясая избу, и тотчас к нему прорвались громкие, злые голоса, требующие немедленно открывать. Он различил голос Поли, тоже со злобой, высоким криком отвечавший, что по ночам она никому не открывает, а если кому приспичило, пусть днем, засветло, приходит.
Сокольцев схватил автомат, спрыгнул с кровати и в тот же момент услышал, как затрещала дверь, и Поля, полураздетая, заскочила в избу, но дверь за собой захлопнуть не успела, следом за нею ввалились двое или трое.
– Ложись! – закричал Сокольцев, срывая голос, и Поля, поняв его, бросилась плашмя на пол, и в тот же миг он коротко ударил из автомата; один сунулся головой в дверь и свалился рядом с Полей, в наступившей тишине Сокольцев слышал, как отбегают, ругаясь, от избы остальные, и автоматная очередь, одна, другая, полоснула по окнам, со звоном посыпались стекла; Сокольцев присел. Кажется, крепко влип, подумал он, вытолкнул убитого за порог, в сени, лишь выдернул автомат у него из рук; захлопнув дверь, он закрыл ее на крючок.
– Поля, Поля, – позвал он вполголоса, – жива? Давай-ка одевайся, мне тащи одеться, ползком, ползком, – остановил он ее и в ту же секунду, схватив за руку, рванул на другую половину избы, за стену. Резкий, трескучий взрыв гранаты ударил сразу же, и рука Поли в его руке судорожно дернулась; острый мгновенный холод облил его. Поля падала, и он, обхватив ее за спину, сразу почувствовал мокрое.
– Поля, Поля, Поля, – звал он с ужасом, не слыша своего голоса, и тут же отпустил ослабевшее, безмолвное тело на пол и бросился к окну; он скорее угадал, чем увидел фигуру человека в окне, и короткой очередью срезал его; тотчас и с улицы ударили, слабо хлопнула в воздухе, отлетев от стены, неудачно брошенная граната; у Сокольцева не было ни секунды, чтобы помочь Поле; в безотчетной ярости он метался от окна к окну, стрелял и вполголоса сосредоточенно матерился, а когда наконец дотянулся до Поли, все понял: она уже не дышала, и лицо у нее неприятно отвердело. Словно мягкий отупляющий удар упал на Сокольцева; по-прежнему все мгновенно схватывая и держа в поле зрения все три окна, он чисто автоматически продолжал стрелять, но его ни на минуту теперь не оставляло сковывающее ощущение безысходности; какие-то тупые, рваные мысли вспыхивали и гасли; вот ее уже нет, патроны на исходе, кажется, конец.
Выбрав момент, Сокольцев надернул сапоги прямо на босу ногу; за окнами озарилось, трепетный свет отодвинул темноту далеко вокруг. Страха не было. Избу подожгли, крыша горит, равнодушно подумал Сокольцев, узнать бы только, как это его выследили и кто, а остальное уже не важно. Пожалуй, отсюда ему не выбраться, накрепко присох. Костя Чемарин знает, что делать, если он не вернется к утру, ничего. Но как же все-таки его застукали?
В избу стал проникать дым, он ел глаза, и теперь Сокольцев слышал, как ревело вверху пламя, пожирая всяческую сушь на потолке. Взглянув в боковое окно, выходящее в огород, он заметил, что погода не так уж и хороша: сильный сырой ветер порывами прибивал дым к земле, но именно с этой стороны огонь уже охватил стену; Сокольцев видел багрово раскаленные стекла окна. Одним ударом ноги он вынес раму, пламя метнулось в избу, и Сокольцев, задыхаясь, отскочил. За треском и ревом огня он не мог разобрать, стреляли еще или уже перестали, бегло и так же безразлично, как о постороннем, он подумал, что мечется по избе в одной нижней рубахе и в сапогах на босу ногу и одеться уже не успеет. Он замер, прислушиваясь и стараясь продышаться; в огне корежились, шевелились стены избы и сквозь потолок местами уже пробивался огонь; вот-вот все должно было кончиться.
В последнем усилии Сокольцев рванулся к кровати, набросил на себя толстое ватное одеяло и вывалился в боковое окно; почти сразу вслед за этим в избе рухнул потолок, и дым, и огонь, косо под сильным ветром выметнувшиеся далеко в сторону из горящей избы, накрыли Сокольцева. Он упал, вскочил и бросился дальше, стараясь не отстать от волны дыма, тянувшей в огороды, в поле; по ветру, вверху и рядом, обгоняя его, летали огромные искры, головни; он чувствовал, что теряет сознание; едкий дым душил, разрывал легкие, и он часто припадал к земле, стараясь схватить хоть частицу живого воздуха; скоро он почувствовал, что одеяло на нем горит, спину припекало, и Сокольцев отшвырнул от себя одеяло, сорвал тлевшую рубашку и оказался теперь совсем уж нагишом. Все-таки он успел отбежать в дыму метров за триста от горящей избы и был скрыт вдобавок теперь и темнотой; обожженная кое-где кожа на спине и плечах болела, его отчаянно мутило; пошатываясь, он пошел с гудящей тяжелой головой, еще плохо соображая, но скоро дым стал реже, и Сокольцева, раздирая грудь, долго и надрывно бил мучительный приступ кашля Не должен он был на этот раз выкрутиться, и, однако, вокруг – темное снеговое поле, и на груди все больше настывал автомат; а там осталась Поля; что же это такое, подумал он с тягучим отвращением к себе, война войной, разумеется, но вот даже невиновного человека не мог спасти, хотел и не мог; пошатываясь, Сокольцев брел по глубокому снегу; мороз был мартовский, несильный, но чувствовался; до хутора, где ожидали его Чемарин с Пекаревым, было километра четыре, и нужно было бежать, чтобы не окоченеть; он взял автомат в руки, тяжело затопал по снегу, время от времени оглядываясь; пожар слабел, и скоро в небе светлела всего лишь небольшая пропалинка; и опять болезненно ударила мысль, что он только что был с девушкой, был с нею первым, а теперь вот ее уже нет; с хрипом глотая холодный воздух, Сокольцев бежал все быстрее, стоило ему чуть задержаться, голое тело сразу сводило морозом. Когда его неожиданно увидели в распахнувшихся дверях Чемарин и Пекарев, совершенно голого, в грязи и копоти, с окровавленными, изрезанными о снег коленями, в первую минуту они остолбенели; а хозяйка избы, пожилая, лет под пятьдесят, баба, потом, вспоминая, смешливо фыркала в подол; и в отряде об этом случае долго говорили и зубоскалили, и Сокольцев всякий раз, сдерживаясь, бледнел; он доложил обо всем, кроме того, что у них случилось с Полей. В конце концов, ему с группой даже удалось выполнить задание, они отыскали нужных людей в Радогощи, и в отряде теперь постоянно знали, сколько и какие поезда идут по железной дороге; а Поли больше не было, она жила в нем лишь тихой, все удалявшейся болью; он знал, что и боль эта в конце концов исчезнет, и не хотел этого.
14Уже не первый год на огромной территории Европы трещали и ломались фронты, умирали, были искалечены, пропадали без вести сотни тысяч людей; в правительствах и штабах самых различных стран подсчитывали потери, строили, казалось бы на реальных посылках, планы наступлений и контрударов, и миллионы и миллионы были заняты выполнением этих планов, которые часто в конечном счете обращались в свою противоположность.
В начале августа 1941 года Гитлер рассчитывал быть в Москве, и уже была дана директива «…после уничтожения русской армии и сражении под Смоленском перерезать железные дороги, ведущие к Волге, и овладеть всей территорией до этой реки», но на поверку вышло иначе, немцы не только не взяли Москвы, но были отброшены от нее далеко назад, оставляя в метровых снегах десятки тысяч убитых и раненых, сотни и сотни танков, орудий и машин; участь Москвы была решена не слабостью или неопытностью немецких армий, не снегами или сильными морозами, помешавшимися в какой-то мере немцам применять машинную технику во всей ее мощи: они ее использовали по самым высоким ее возможностям. Участь Москвы, а следовательно, и первого этапа Восточной кампании Гитлера, была решена тем, что именно в этой точке сила противостояния советского народа достигла наивысшего предела и намного превысила наступательную силу захватчиков, уже давшую глубокие трещины на Смоленщине, где было сбито и стерто самое проникающее ее острие, ее превосходство, и это тотчас отозвалось на состоянии во всем мире и в каждом отдельном человеке.
Село Густищи Холмской области в первый же год войны оказалось в глубоком тылу у немцев; по закону народной войны, когда в одно целое связан весь без исключения народ, и здесь, в немецком тылу, чувствовалось каждое движение там, на фронтах, в верховных штабах; и здесь улавливалось и прослушивалось малейшее колебание противостоящих друг другу сил, потому что и такое обыкновенное, ничем не примечательное село Густищи, каких в стране и на оккупированной территории великое множество, было связано жизнью своих людей, рассеявшихся по стране, со всеми действиями времени. В самих Густищах тоже шла невидимая, негласная и, однако, напряженная и постоянная работа времени; еще с осени прошлого, сорок первого года, когда вокруг начали поговаривать о том, что под Москвой Гитлеру крепко намяли бока, все заметили, что староста Торобов Демид, назначенный в Густищи немцами и с момента их прихода в первое время выполнявший свои обязанности ревностно и даже с определенной жестокостью, стал к весне мягче и незаметнее, а его баба, толстая Антонина, опять, как и в старые, довоенные времена, запросто зачастила к соседкам и при каждом удобном случае вставляла со вздохом, что вот, мол, делать нечего, поставили в старосты силой, против нее не попрешь, худого Демид никому не делает, а людям не угодишь, недовольны, а с чего? Охотно поддакивая старостихе, соседки прикидывали, к чему бы это она петлю на петлю нижет, знать, жареный петух в зад клюнул… Но открыто высказываться воздерживались, боялись попасть не туда. В Густищах с приходом немцев происходило много непонятного: так, например, один дядька Захара Дерюгина, Игнат Кузьмич, куда-то исчез, а второй дядька того же Захара Дерюгина – не менее уважаемый на селе Григорий Васильевич Козев, оказался в полицаях, под началом у старосты, и ходил по всему селу с белой повязкой на рукаве и с длинной старой винтовкой. Уж лучше бы не лезть ему не в свое дело, потихоньку говорили в Густищах, дождаться, чтобы все своим чередом объяснилось и раскрылось, да и года не те. Староста и его полицаи назначали людей в извоз, в команды по ремонту дорог, собирали теплую одежду по дворам, полушубки, валенки и овчинные рукавицы и все это отправляли в город; время придет, шептались густищинцы, свой расчет получит сполна каждый.
В семье Дерюгиных, как и раньше, верховодила Ефросинья: по-мужски толково она раз и навсегда распределила между детьми работу по дому; Аленку на всю зиму засадила прясть и редко выпускала из дому, несмотря на недовольство свекрухи; Иван таскал воду и колол дрова. Нашлась работа и меньшим, Егору и Николаю; они были приставлены к бабке Авдотье для всяких мелких поручений: подать, принести, подмести, откинуть от крыльца снег. С тех пор, как в Густищах заговорили о том, что главным начальником над полицией в Зежске стал Федька Макашин, Ефросинья уже не могла избавиться от смутного и глубокого страха за детей; она теперь запоздало жалела, что согласилась с мужем поставить новый дом, уж больно он выпирал из общего ряда, и всякий заезжий с винтовкой норовил побывать именно в ее доме, самом нарядном и богатом по виду на селе. Теперь бы нужно жить неприметнее, где-нибудь на задворках, подальше от чужого ненасытного глаза, думала Ефросинья бессонными, хоть глаз коли, ночами, прислушиваясь к спокойному дыханию детей. Сама за себя она и палец о палец не стукнула бы, да их ведь четверо на руках; вот и старший Иван что-то начинает хорониться, куда-то исчезнет и на день, и на два, и не допытаешься толком, буркнет что-либо несуразное, а сердце-то углем жжет. Если бы к девкам (хотя, по-хорошему, рановато ему), она только бы обрадовалась, семнадцатый год парню от святок пошел, может, и поспел, вот и усы проглянули, лезут. Здоров в отца, и глаз такой же косоватый, насмешливый последнее время, гляди, в лето приберут к рукам, в полицию заграбастают или еще куда похуже. Окрутила проклятая доля; даже и с Манькой Поливановой они, бывает, и остановятся, поговорят по-хорошему; тянет их последнее время друг к другу, общая беда словно и взаправду сроднила.
Лежит Ефросинья на кровати в своем углу за занавесью, проснулась задолго перед светом, вставать рано нечего, ни скотины во дворе, ни птицы, все подчистую выгребли немцы. Под печью единственная живность – пара кроликов; Егорка еще с осени откуда-то принес, хозяйственный растет. Ефросинья думает о кроликах, вчера Егорка с Колькой говорили, будто крольчата уже есть, нехорошо, изроют подпол, еще хата осядет. Господи, господи, думает Ефросинья тупо, так ничего определенного и не решив, малые дети – малые заботы, большие – и заботы большие. За одну Аленку сердце вот иструпехло, стук какой – в груди тиснет. А девка, как назло, с каждым часом лучше да приметней становится, в горький час мир дразнит. Нашелся бы человек подходящий, не раздумывая замуж бы погнала. Лежит Ефросинья без сна; мысли перекидываются с одного на другое; трудно понять происходящее, и Григорий Васильевич, которого она всегда уважала и верила ему, ничего не может сказать; а крестный-то Захаров в воду канул, ни слуху от него, ни духу. Разве хорошо Григорию-то Васильевичу белую повязку на руке носить, дядька родной все-таки Захару. Иван на днях что-то такое буркнул насчет Григория Васильевича, да она не поняла, вот и остарела, уж и в толк трудно взять молодых.
Был близок рассвет, а Ефросинья все никак не могла встать; ломота пошла по костям, и она подумала, что надо бы летом попариться муравьями; она слышала, как ходила в передней комнате свекруха, бабка Авдотья, очевидно примеривалась, пора ли топить печь; Ефросинья еще полежала и поднялась. Дети всегда спали крепко, и она не боялась их разбудить; она оделась, сунула ноги в теплые опорки и тут услышала в передней комнате встревоженные, приглушенные голоса; на ходу закручивая в узел волосы, она вышла со шпильками в зубах и увидела Маню Поливанову, Маня от порога бросилась к ней.
– Беда, беда, Фрось! – зашептала она торопливо и сбивчиво. – Аленку скорей буди, прячь, какая то чужая команда нагрянула, девок забирают. Скорей, пусть хоть в поле выскочит, пока все обляжется!
Бабка Авдотья проскользнула мимо Ефросиньи и растолкала Аленку, тут же отыскивая ей одежу; та со сна ничего не понимала и лишь испуганно вертела головой и спрашивала, что такое стряслось. «Да одевайся ты, одевайся! – прикрикивала на нее бабка Авдотья. – Поспешай, поспешай, не копайся зря!»
Проснулся Иван, спросил, в чем дело, и, не получив толком ответа, быстро натянул давно тесноватые штаны, намотал портянки, надернул валенки и потопал ногами, проверяя, удачно ли. В этот момент и хлопнула дверь и ворвался чужой хриплый голос; в сенях забухали тяжелые шаги, кто-то споткнулся в темноте и громко выругался; к Дерюгиным явились двое.
– Давай, тетка, сюда свою девку, – тотчас приказал один из них, стаскивая с плеча карабин и стукая прикладом о пол, тем самым подчеркивая и показывая свою власть с тщанием маленького, потому особо усердного в жестокости человека. – Ну-ну, не мешкать мне, живо! – возвысил он голос, а второй, простуженно кашляя, тем временем прошел в горницу и скоро вывел оттуда Аленку, с явным удовольствием придерживая ее за плечо; Аленка вся сжалась и дрожала.
– Хороша девка, – залюбовался ею полицейский у порога. – Сам бы съел, да денег жалко.
– Богородица-дева, ты ай нехристь? – подступила к нему бабка Авдотья. – По какому такому праву девку мытаришь? Отпусти счас же девку, антихрист рогатый, ей и пятнадцати годов-то нету; куда ты ребенка ведешь?
– Ах, хорош ребеночек, ох, хорош! – с откровенной издевкой заржал маленький у двери. – Бабка, хватит галдеть, давай ей одежду, да харчей в управу на две недели принесете, сухарей поболе. В Германию ваша девка покатит, культурную жизнь изучать. Вернется после войны кралей, фрау гутен морген, а может, и не одна, – опять же не удержался полицейский от злой шутки; Ефросинья не выдержала, заплакала, рванулась к Аленке и, оттолкнув ее в угол, заслонила собой.
– Не отдам, убивайте меня сначала, а девку не дам, – кричала она, раскинув руки в стороны. – На, стреляй, стреляй, кровопиец, стрельни в самую середку, вот кто-нибудь так в твою мать ударит…
Тускло горела на столе коптилка, изгибаясь и дымя острым язычком пламени; Аленка из-за плеча матери с ненавистью и страхом смотрела на медленно приближавшегося от порога человека и, подогнувшись, проскользнула под руку матери, стала впереди нее.
– Не надо, не надо, мам, – сказала она, задыхаясь от собственной решимости. – Я пойду, он же, смотри, убить может…
– Правильно, девка, молодец, – похвалил полицейский, останавливаясь перед нею. – Могу и убить. Не пропадет твоя телка, тетка, – обратился он к Ефросинье. – Погляди вон, какие телеса наела, пусть послужит хорошему делу.
Аленка, слепо пройдя мимо него к порогу, сняла с гвоздя полугейшу, оделась, повязалась. И бабка Авдотья, и Ефросинья, хотевшие опять броситься к ней, были остановлены; бабке Авдотье промеж сухих грудей, словно предупреждая, сунулось твердо дуло карабина, а Ефросинью просто осадили назад.
– Ну, ты, отведи эту, – сказал, удерживая новый приступ кашля, один полицейский другому, – а я еще по хатам пошарю, глядишь, лишних три десятки будет.
Аленку увели; и Ефросинья, и бабка Авдотья завыли в голос, кинулись к двери, но их опередил Иван; сунув руки в телогрейку, нахлобучив на голову шапку, он сразу же пропал; Ефросинье послышалось, что он что-то сказал на ходу, но она не разобрала, что именно. «Иван! Иван!» – закричала ему вслед Ефросинья, совсем ополоумев; она тоже хотела бежать, но ее удержала Маня; проснулись Николай с Егоркой, испуганно торчали со всклоченными головами в дверях, поджимая ноги от холода и с трудом удерживая слезы от воя и вида бившейся на лавке матери.
– Не успела, чуток не успела, – кусала белые губы Маня, не зная, что делать и что еще сказать Ефросинье и бабке Авдотье. – Это какие-то чужие, – говорила Маня растерянно. – Ко мне Настя Плющиха прибегала, иди, говорит, Ефросинью скорей буди, пусть девку хоронит. Ее старостиха Антонина послала, чужие, говорит, из города нагрянули, девок в Германию берут. Горе горькое, и до чего же народ дожился, как скот в продажу…
Ефросинья встала с лавки с распухшими губами, с красным лицом, растрепанная, стала молча собираться.
– Куда, куда! – кинулась к ней бабка Авдотья, в широкой холщовой рубахе с узким, глухим воротом.
– Пойду, мамаш, может, упрошу катов-то, неужто у них сердца-то из железа?
– А как не упросишь? – резонно спросила бабка Авдотья. – А как с самой что сделают, волки-то эти? Вон, – она кивнула на Николая с Егором, – у тебя еще двое. С ними что будет? На меня не надейся, мне недолго, сложу руки крестом на груди, и готово. Я свое оттопала, надоело мне жить на таком страмном миру. Не ходи, Фрося, не надо. Ужо лучше мне, старой, пойти узнать, что да как, мне теперь никакой нечистик не страшон. А ты лучше печку растопи, картошку вари.
Одеваясь, бабка Авдотья все время думала о любимой и единственной внучке, представляя ее именно в этот момент в чужих руках так, что по коже проступал мороз и делалось дурно; Аленка же, в сопровождении одного из полицейских, еще не успела отойти слишком далеко от дома; было темновато, хотя все уже посерело вокруг. Аленка слышала сопевшего позади полицейского; неожиданно схватив за плечо, он остановил ее, приблизив жарко дышащий рот к самому ее лицу.
– Послушай, девка, хочешь, отпущу? Зайдем в какой-нибудь сарайчик, посля валяй куда глаза глядят. Скажу – убегла.
Аленка с отвращением, молча отняла у него плечо, повернулась и пошла дальше.
– Дура, – с сердцем сказал он ей следом. – От тебя кусок не отвалится, на то девка и родится. Самой сладко будет, куда бережешь? Там, в Германии, наплачешься, это здесь сулят разного добра, а там наплачешься.
Раздался изумленный вскрик полицейского, Аленка оглянулась, и тут же услышала прерывающийся голос Ивана, сбившего полицейского с ног и теперь пытавшегося вырвать у него карабин.
– Беги, Аленка, беги! – кричал Иван, барахтаясь сверху на полицейском и раскидывая ноги шире, чтобы удержаться. – В лог, – понизил он голос, – знаешь куда… там найдут… Скорей, – задыхаясь от усилия, заорал он, подняв залепленное снегом лицо и видя по-прежнему стоявшую на месте сестру; Аленке показалось, что он тяжело, по-мужски выматерился; она метнулась в сторону, перескочила чей то, кажется, Володьки Рыжего, покосившийся плетень и побежала в поле; дело близилось к середине марта, и слежавшийся, подтаивавший к полудню, а в ночь подмерзавший сверху снег хорошо держал ее. Сзади гулко ударил выстрел; она дернулась всем телом на ходу, споткнулась; только теперь ее пронял дикий страх; она бежала, задыхаясь и падая, и все думала о том, что Иван лежит теперь в луже крови и мать с бабкой воют над ним, распустив волосы; одно время она хотела вернуться, но тут же подумала, что ничем не поможет, только заберут и угонят в ту самую Германию, знакомую лишь по учебникам, газетам да по войне. А теперь, что же будет теперь?
Схватившись за грудь онемевшими пальцами, Аленка остановилась отдышаться; из села, бывшего уже далеко, доносились встревоженные голоса; рассветало, и нужно было спешить. Господи, она иногда недолюбливала Ивана, все как-то старался толкнуть, обидеть, все насмешничал, особенно перед самой войной, когда заметил, что на нее начинает засматривать Пашка Куликов, сын председателя. Пашка учился в Зежске на агронома и часто приезжал домой, почти каждое воскресенье, вот уж тут Иван поиздевался над ней, даже обидно. Она хоть и замечала, что Пашка Кулик (Куликом его звали по прозвищу отца) посматривает, но сама никак на это не отзывалась. Он был совсем взрослый парень, Пашка Кулик, а она соплюшка; да, впрочем, чего там, волновало и ее как-то по-новому это внимание со стороны взрослого, к тому же высокого, плечистого парня; а Иван-то под конец совсем освирепел, проходу не давал, а дома всякие смешочки. Она даже плакала не раз; вот ведь, думала, здоровый дурак, в военное училищо собирается, а ничего не понимает, лезет не в свое дело. А потом и отца забрали, и Пашку Кулика забрали, и никого в селе не осталось. Иван сразу подобрел и перестал обращать на нее внимание… Да отчего он послал ее в Соловьиный лог, в ту ли полуразваленную избенку в самой глухомани, что принесло лет пять назад в половодье да и приткнуло, перекосив во все стороны, в логу? Так что ей там делать, кого ждать? Кто это за нею туда придет? А мать-то теперь…
Аленка снова остановилась в растерянности, испытывая почти непреодолимое желание вернуться; чего уж им мучиться из-за меня, говорила она, уж лучше мне одной страдать, чем всем. Вот вернусь, и все. А там что же ей сидеть, в Соловьином логу; все говорят о партизанах, а где они, никто точно не знает. Она бы с закрытыми глазами ушла, и ничего ей больше не надо, что угодно делала бы, стирала, мыла, штопала, варила, лишь бы свои кругом; да ведь и она до войны девять классов закончила, тоже в Зежске на квартире стояла два года; отец и дрова привозил, и картошку, все твердил, чтобы училась, не баловалась, самому не пришлось учиться, так хоть дети за него наверстают.
К Соловьиному логу Аленка подошла уже засветло; села не было видно, а в логу, ей показалось, стоял морозный туман. Она стала присматриваться и скоро поняла, что ошиблась: кусты и лес на фоне снега к весне проступили резче; Аленка еще раз огляделась и стала спускаться по тропке, пробитой густищинцами, возившими последнее время дрова из лога на салазках. Она знала, где находится принесенная половодьем в Соловьиный лог развалюха, и через час примерно добралась до нее, с трудом открыла перекошенную дверь и заглянула вовнутрь. На нее пахнуло сыростью и холодом, в дальнем углу высился небольшой закопченный очажок; зимой здесь собирались погреться заготавливавшие хворост бабы, а летом разве только ребятня затеет вокруг какую-нибудь шумную игру. У Аленки с собой не было спичек, ни огня зажечь, ни обогреться, она еще раз беспомощно заглянула в темноту за дверь. В следующую минуту ей показалось, что совсем недавно здесь кто-то был, и Аленка, шагнув вовнутрь, внимательно осмотрелась: действительно, зола в очаге недавняя, свежая, отметила она, рядом устроено нечто вроде сиденья; в щели в стене торчала скомканная бумага. Аленка осторожно потянула ее, разгладила. Приглядевшись, она едва себе поверила, в руках у нее был измятый обрывок старого номера «Правды», и она долго в него вчитывалась. Присев перед холодным очагом, Аленка сжалась от холода; значит, Иван не зря ее сюда посылал, вот только выдержит ли она ждать, полугейша-то не греет, стара, еще мать раньше выносила. Засунув руки в рукава, она молча сидела; все-таки стены кругом, уютнее, и ветер меньше. А то он, слышно, опять поднимается. Если бы спичку, совсем хорошо, разожгла бы огонек, погрела руки; можно было бы и день, и два сидеть, ничего страшного.








