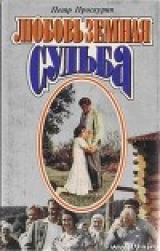
Текст книги "Судьба"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 61 страниц)
– Пустая палата найдется, нужно бы тебя свести сейчас, а не днем, – продолжал думать о своем вслух Анатолий Емельяиович. – Да точно хорошо ли это будет? С неделю тебе придется полежать. Тут уж никто не волен.
– Лучше, пожалуй, в палату, здесь в любую минуту могут взять. Михеевна меня накормила, двое суток могу теперь продержаться.
– Так долго не потребуется, Сеня, а лошадей, трех оставшихся, позавчера забили, надо же чем-то кормить больных.
Несмотря на протесты Аглаи Михеевны, решительно заявившей, что это безбожество и грех нормальному человеку в помешанном доме жить, Анатолий Емельянович той же ночью переправил брата в больницу; Пекарев-младший, оставшись наконец один в прохладной, узкой палате, растянулся на удобной больничной койке и тотчас крепко заснул, в твердой надежде, что завтра предпримет что-то важное и необходимое. Ночью стало хуже, залихорадило, но когда Анатолий Емельянович зашел к нему наутро, он тотчас опять заговорил о необходимости немедленно уходить.
– Оставь, пожалуйста, Сеня, – мягко попросил Анатолий Емельянович, избегая смотреть в воспаленные глаза брата. – Ты сам знаешь, что это невозможно. Здесь безопасно, полежи, наберись сил…
От тихой, но крепкой уверенности в голосе брата Пекарев неловко заворочался.
– Странный ты человек, Толя, – сказал он. – Не пойму я тебя. Ты ведь и стрелять не умеешь. Ведь не умеешь, сознайся?
– Стрелять можно научиться, – поморщился Анатолий Емельянович, думая совершенно о другом; завтра ему нечем будет кормить почти две сотни больных. – Стрелять можно научиться, Сеня, не горячись, не мальчик. Все-таки нога, куда ты на одной доберешься? Я же тебе обещал, что-нибудь определенное станет известно, сразу сообщу.
Они прислушались к далекому, непривычному гулу артиллерийской пальбы; казалось, он копился в толстых, старинной кладки каменных стенах, и от этого было еще тоскливее и неприятнее.
7Танковые части немцев вошли в Холмск на рассвете, в самом конце августа, и бóльшая часть из них, не задерживаясь, лишь слегка изменив направление, устремилась дальше, в юго-восточном направлении, в тылы оборонявшим Киев советским войскам; завязывалась сложная стратегическая игра, приводился в действие план, на котором настоял лично Гитлер и который должен был открыть путь к Москве и компенсировать потерю времени в Смоленском сражении. Уже давно стояло вёдро, днями было много солнца, а по ночам то там, то здесь набухали зарева и разносились утробные раскаты бомбежек; только перед самым вступлением немцев в Холмск ночью стояла неестественная тишина. Самолеты шли где-то далеко стороной, железнодорожные станции опустели, одинокий грузовик, появлявшийся на улицах, привлекал всеобщее внимание. Город был уже брошен, чувство обреченности висело в воздухе, и когда на рассвете город наполнился грохотом танковых моторов, это чувство лишь усилилось.
В «Ласточкином гнезде» среди оставшихся врачей и обслуживающего персонала царило глухое беспокойство; больные в основном продолжали оставаться в своем специфическом неведении и по прежнему требовали ухода, но перестали поступать медикаменты и продовольствие; Анатолий Емельянович зашел к брату посоветоваться, и Пекарев-младший, едва только услышав о его плане обратиться за помощью к бургомистру, скинул здоровую ногу с кровати и сел.
– Ну нет, только ты мог до этого додуматься, Толя, – сказал он брату с сердцем. – Нужны какому-то фашистскому бургомистру, тем более самим немцам, твои заботы, как же, держи карман. Нет, ты это серьезно?
– Вполне. – Анатолий Емельянович, заложив руки за спину, обстоятельно пересчитывал решетчатые ячейки окна. – В таком трудном вопросе может помочь только власть, какая бы она ни была. Больные есть больные, их надо лечить, кормить. М-да, и все-таки я пойду, другого выхода нет, к сожалению, – тихо отозвался Анатолий Емельянович с тем хорошо знакомым Пекареву-младшему выражением внутренней сосредоточенности, когда возражать дальше бесполезно.
Анатолий Емельянович собрался, надел отутюженный парадный костюм, повязал галстук и, хотя его со слезами отговаривала и Аглая Михеевна, отправился на прием в гор-управу, к бургомистру, который откуда-то и сразу же появился и уже издавал распоряжения, приказы, занимался какой-то деятельностью в городе. Старший Пекарев по роду своей профессии привык везде и всегда получать поддержку и помощь; он работал с людьми, живущими где-то по другую сторону реального, и это наложило на его мышление свой определенный, закономерный отпечаток; для него не было ничего серьезнее своей работы, и он шел к бургомистру с твердой убежденностью в своей правоте и необходимости, нужности этого шага.
Он шел по улицам родного города; здесь он родился, вырос, закончил гимназию и научился приносить пользу другим, и поэтому он не боялся немецких солдат, то и дело попадавшихся ему навстречу; они поглядывали на него с удивлением и насмешкой, но Анатолий Емельянович не обращал на это внимания. Если ему загораживали путь, он осторожно и уверенно обходил живое препятствие стороной, и эта уверенность помогла ему благополучно добраться до управы, адрес которой он узнал заранее. Постовой, взглянув в его документы, пропустил; Анатолий Емельянович не раз бывал в этом здании, и по делам у председателя облисполкома, и на различных совещаниях и заседаниях; ничем не выказывая настороженности, он попытался на секунду представить себе, что ничего в жизни не изменилось и нет никакой войны, никакого бургомистра, а пришел он на прием к Валентину Игнатьевичу Сидорову добиваться обещанного расширения больницы, окончательного утверждения сметы на строительство нового корпуса; он прошел прямо в бывший кабинет председателя облисполкома. В приемной ему навстречу поднялся молодой детина в добрую сажень ростом и потребовал документы; Пекарев-старший в бесстрашии знания взглянул ему в лицо, подал паспорт и удостоверение и коротко изложил, по какому делу ему необходимо видеть бургомистра.
– Господина бургомистра, товарищи-граждане кончились, – быстро поправил его детина и, прищурившись в усмешке, на минуту задумался; Анатолий Емельянович терпеливо ждал, посверкивая стеклами очков. – Ну хорошо, господин Пекарев, – подчеркнуто вежливо и отчужденно сказал наконец детина. – Я спрошу господина бургомистра.
Как-то став меньше, он открыл дверь, исчез за ней, затем опять показался и молча пригласил войти. Анатолий Емельянович кашлянул, притронулся, проверяя, на месте ли узел галстука, и вошел в хорошо знакомый кабинет, где даже мебель осталась на прежних местах, и только напротив широкого окна висел большой портрет Гитлера, а рядом с ним – полотнище со свастикой; еще Анатолий Емельянович машинально отметил исчезновение бюста Ленина, очень талантливого исполнения; бюст всегда стоял в правом дальнем углу. За широким удобным столом сидел небольшой человек с острой головой и необычно бледным лицом; Анатолий Емельянович увидел в этом лице нетерпение и поклонился ему, именно не человеку, а ставшему сразу неприятным лицу, повторяя про себя, что нужно говорить «господин», и обрадовался, когда это у него получилось.
– Господин бургомистр, – начал он не спеша, – полагаю, вы уже знаете, кто я и по какому делу. Дело очень неотложное и важное, у меня сейчас сто семьдесят семь человек больных, вот смета… это все нужно хотя бы в таких количествах. – Анатолий Емельянович достал помятые бумаги из бокового кармана и, шагнув к столу, положил их перед бургомистром; тот продолжал сидеть, не шевелясь, пристально рассматривая Анатолия Емельяновича прозрачными, слегка асимметричными глазами, словно пытаясь понять, что это такое появилось перед ним, откуда и зачем.
– Вы, кажется, из старой интеллигентной семьи, господин Пекарев? – подал голос бургомистр, нервно выбрасывая на стол руки и барабаня по стеклу худыми, длинными пальцами; и это тотчас отметил Пекарев с профессиональным интересом, и в дальнейшем на протяжении всего разговора нервные пальцы бургомистра оказывали на Пекарева-старшего успокаивающее действие.
– Да, это так, – сказал Анатолий Емельянович, – но позвольте, господин бургомистр, какое это имеет значение? Я родился и вырос здесь, в Холмске, и не в силах пересмотреть сие обстоятельство. Да и зачем, господин бургомистр?
Бургомистр отрывисто и резко засмеялся и так же неожиданно умолк, глядя на посетителя в упор, перемена эта была разительной и мгновенной; несомненно, у него есть идея, подумал Анатолий Емельянович, и если бы в нем покопаться, можно бы добраться до зачатков какой-нибудь паранойи.
– Так какое у вас ко мне дело, господин Пекарев? – спросил бургомистр, с остротой нервного человека болезненно улавливая интерес Пекарева именно к себе и недовольный этим. – Ах, да, да, я все понял, милосердие – рычаг нравственной основы просвещенного человечества. Но гуманизм столько раз ставил человечество на край гибели… А как же быть с богом? Но… оставьте свою смету, я распоряжусь. Возможно будет сделано, вот только как все-таки с богом?
Анатолий Емельянович давно уже молча поклонился, положил ведомости на стол и собирался идти; его остановил вопрос бургомистра, в общем-то неожиданный.
– Видите ли, господин бургомистр, – ответил он наконец, – я материалист. Какой может быть бог, если на земле такой непорядок? Не станете же вы возводить в догму запланированное уничтожение людей. И ради чего?
– Дорогой господин Пекарев, в революцию, в гражданскую войну тоже немало уничтожали. Тогда вы, пожалуй, не осуждали? И позвольте полюбопытствовать: каких людей?
– Неразумное, антигуманное я осуждал всегда, – Анатолий Емельянович чувствовал себя стеснительно и неловко, не понимая, чего, собственно, добивается от него бургомистр. – К сожалению, вы переоцениваете мои возможности, не в моих силах и не в силах одного человека чему-нибудь помешать.
– Все-таки у вас, у коммунистов, чувство солидарности развито гораздо крепче, чем у других племен. Следовательно, и связь ваша с богом должна быть сильнее. Вы же считаете своего бога самым главным.
– Господин бургомистр, – Анатолий Емельянович слегка пожал плечами, – я убежденный материалист, данное качество нерасторжимо с профессией врача. Мне приходилось рыться не только в желудке или сердце человека, но и в его голове. Не могу лгать, не привык, и сказать, где там может поместиться душа, весьма затрудняюсь. Поверьте, так и не обнаружил в своей очень длительной практике подходящего места для нее, господин бургомистр. В партии же не состою и не состоял.
– Душа бесплотна, зачем ей место, господин Пекарев?
– Не знаю, просто я убежден, все на свете имеет свои размеры и свое определенное место и назначение, следовательно, и душа должна занимать определенное, отведенное ей пространство.
– Мысль забыли, доктор, музыку, – быстро перебил бургомистр, разговор теперь доставлял ему удовольствие, и Анатолий Емельянович тоже отметил это про себя. – Как видите, не все материально в мире. К счастью, к счастью, повторяю я, некоторые категории бытия даже вашим Марксом и Лениным точно не узаконены.
– Полагаю так, – Анатолий Емельянович примиряюще посмотрел себе в ноги, – для верующего в бога и в душу пусть будет и душа и бог. Вера так же, как и мысль, бесплатна, но и то, и другое не может возникнуть без материи и в свою очередь может разрушать и создавать материальные категории. Надеюсь, этого вы не станете оспаривать?
– Рад вашему согласию со мной, господин Пекарев. – Бургомистр энергично вышел из-за стола, пожал руку Анатолию Емельяновичу: он оказался на голову ниже. – До свидания, господин Пекарев, до свидания. Сделаю все возможное, я всегда любил врачей, это святые люди. В детстве один из них спас мне жизнь. До свидания, господин Пекарев. Да, а как, на ваш взгляд, господа немцы? Впрочем, еще рано судить, не так ли? Вы именно это хотели сказать, господин Пекарев? Я так и думал, господин Пекарев, что вы воздержитесь от оценок. Имею честь.
Анатолий Емельянович видел перед собой блестящие, по-мушиному зеркально-отсутствующие глаза бургомистра и понял, что ничего тот не сделает для его больных; Анатолий Емельянович с сожалением подумал о потерянном времени. Пока он решал, что ему делать дальше, бургомистр обошел его стороной и боком, словно боясь нечаянно прикоснуться, теснил его к двери, сохраняя на лице все то же вежливо-отсутствующее выражение.
У самой двери бургомистр еще раз энергично потряс руку Анатолия Емельяновича, и тот с трудом скрыл отвращение.
– Зря вы любите всяческие тайны, доктор, – сказал бургомистр. – Эта материя не для реалистов. Я бывший философ и давно понял одну истину, господин Пекарев: человек не достоин благородного ореола, которым привык себя окружать, бросьте прятаться за фиговый листок. Не надо слов, идите работайте, вас не тронут. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать. До свидания, господин Пекарев.
Анатолий Емельянович шел обратно по улицам Холмска, глядя прямо перед собой: тротуар, дома, саму улицу застилала сухая дымка. Он мог бы огорчиться, но он слишком устал от происходящего, от человеческой слабости, и сейчас ему не хотелось жить, этого раньше с ним не бывало. Он шел к своей больнице, которая была создана им; это было его единственное и дорогое детище; нечего скрывать, здесь он думал прославиться, нащупать и разработать новую методику лечения больных с астеноневротической реакцией, его всегда интересовали в первую очередь переходные формы до наступления органики, он одно время тщательно собирал и суммировал данные исторического характера о кликушах в Холмской и соседней с ней губерниях, обследовал самые отдаленные, глухие поселения, отыскивая причины и корни, терявшиеся во тьме времен, где-то в первооснове человека. К счастью, он вовремя понял, что слава ничто по сравнению с человеческим страданием; сейчас какой-то нереальный, словно выдуманный мир тек перед ним; привычный город, испуганные люди, нырявшие в подворотни, уверенно хохочущие молодые немцы в зеленых мундирах; жизнь перевернулась и бесстыдно выставила самые потаенные свои грани: страх, похоть, насилие; и сила обернулась своей изнанкой – отсутствием каких бы то ни было нравственных устоев. Из школ выбрасывались парты, доски, приборы прямо из окон на тротуары, у библиотек улицы были густо усыпаны растерзанными книгами, в одном месте Анатолий Емельянович наступил на томик стихов Пушкина, поднял его, бережно обтерев от пыли. Пожалуй, впервые его облил, именно облил мерзкий расслабляющий ужас, почти физическая боль прошла у него по телу; не надо излишних эмоций, приказал он себе, осторожно обходя книги и стараясь как-нибудь не наступить на них случайно; ведь это варварство не может продолжаться долго. Стараясь больше не видеть ни немцев, ни книг под ногами, он шел знакомой дорогой, он знал, что ему сейчас необходимо смотреть лишь в себя, иначе мог рухнуть мир вообще; только ценности, хранящиеся в нем самом, могли спасти его, но смотреть в самого себя и не замечать ничего вокруг было непросто.
Вернувшись в «Ласточкино гнездо», пройдя по коридору мимо множества дверей, отделявших собой ту жизнь, которую вряд ли можно было назвать жизнью, он остановился у своего кабинета. Он никого не замечал, и ему никто не был нужен сейчас, потом он опять начнет думать о хлебе и супе, о белье и медикаментах, а сейчас ему нужно побыть одному; лицо старика в женской кацавейке, мелькнувшее в одном из дворов, неотступно стояло перед ним; он вошел в привычный, обжитой за много лет кабинет и запер дверь.
* * *
В день девятого сентября тысяча девятьсот сорок первого года Анатолий Емельянович, как и всегда, ровно в десять часов утра по незыблемому распорядку начал врачебный обход. За ним тянулась свита: единственная оставшаяся из семи женщина-ординатор, медсестра и двое санитарок и, разумеется, баба Кланя – неизменный ординарец Анатолия Емельяновича на протяжении девятнадцати лет совместной работы, крепкая жилистая старуха, завхоз и душа всего сложного больничного хозяйства.
Внешне это был обычный для Анатолия Емельяновича обход; в каждой палате он внимательно осматривал больных, выслушивал их жалобы и короткий доклад сестры. Анатолий Емельянович приучал персонал к честности и лаконичности. Никто не знал, каких усилий стоило Анатолию Емельяновичу сегодня собраться и быть, как всегда, ровно к девяти в клинике. Сегодня ночью к нему приходили домой и предлагали скрыться; ему точно сказали, что на днях особые команды будут собирать всех лиц еврейского происхождения, коммунистов и интеллигенцию в специальные лагеря; он отказался наотрез, тем более что брату было необходимо еще дня три-четыре побыть в больничных условиях. И когда от него ушли, он, погасив лампу, долго сидел в кресле, откинув маскировочную штору и глядя в узкий просвет окна, остро блестевший звездами. Он был одинок, и семьи у него не было, и он, готовый ко всему, ничего не хотел бояться. Во время ночного разговора он опять почувствовал невозможность оставить почти две сотни больных людей на произвол судьбы, без помощи и сострадания.
Анатолий Емельянович шел коридорами и переходами, и постепенно ему стало казаться, что из всего огромного мира только в этом доме идет нормальная, настоящая жизнь, а все вокруг ирреально, и от этой мысли он сразу вдруг успокоился; сопровождающие заметили у него на лице легкую улыбку, переглянулись, стараясь понять ее значение; и эта улыбка уже не сходила с его лица; именно здесь, здесь, думал он, все эти несчастные живут нормально, как им должно жить, и он, общаясь с ними, счастливец, он знает, что на земле все-таки остался хоть кусочек нормальной жизни, созданный только его трудами, его плотью и кровью; он отдал этому дому жизнь, и не напрасно, оказывается. Как нельзя кстати сейчас этот его тихий остров среди мерзости и убийств, среди грабежа и смрада, час пробил, и безумие превратилось в свою противоположность, и наоборот, наоборот!
И может быть, именно поэтому он сегодня особенно тщательно побрился, пригладил щеткой остатки своих жестких седых волос, повязал любимый синий галстук, и когда его прямая сухощавая фигура появилась в длинных коридорах, словно кто сбрызнул живительной влагой приостановившийся механизм больницы, и каждый из окружения Анатолия Емельяновича, глядя на него, старался вести себя так же спокойно и не замечать хаоса, царившего за воротами, и делать то же, что делал он, то есть выполнять свой долг.
Обычно, подходя к очередной палате, Анатолий Емельянович помнил каждого больного, но внутренне сосредоточивался на одном-двух, самых тяжелых. В пятой палате таким был Возницкий, Анатолий Емельяиович и сегодня начал обход с него; по своему правилу Анатолий Емельянович сел не на стул, а прямо на кровать больного.
– Ну-с, Степан Михайлович, здравствуй, голубчик. Как мы себя сегодня чувствуем?
Поняв, что вопрос полностью не дошел до сознания Возницкого (тот все так же приветливо и ровно, не изменяя выражения лица, смотрел врачу в переносицу), Анатолий Емельянович, посчитав пульс, ласково похлопал Возницкого по руке своей теплой сухой ладонью.
– Ну, так что же, Степан Михайлович, голубчик, утро сейчас или вечер, как вы думаете?
Больной молчал и все так же ровно, без всякого выражения улыбался.
– Ну вот, вас сейчас баба Кланя умыла, вот пощупайте – полотенце влажное, я начал обход, что сейчас, утро или вечер, а, Степан Михайлович?
Сестра доложила накануне, что Возницкий проснулся сегодня «мокрый». М-да, вот и появилась «неопрятность» в постели, сказать бабе Клане, чтобы остригла Возницкому ногти, баба Кланя не забудет. М-да, этапный эпикриз Возницкого уже сложился, а надежда все еще не оставляет.
Отдав нужные распоряжения по Возницкому и внимательно осматривая остальных больных из пятой, тянувшихся к нему со всех коек, Анатолий Емельянович внутренне был уже не с ними; он все так же ласково задавал вопросы, внимательно выслушивал ответы, делал назначения, но мысленно он уже отключался, думал о Дорофееве из следующей, шестой, палаты, собираясь с силами для разговора с ним. В особо тяжелых случаях, оставаясь с больным один на один, он должен был именно в эти минуты верить в возможность его исцеления, только тогда и можно было помочь; только верить чаще всего было нелегко, вот и приходилось собирать все свои мобилизационные возможности, как сейчас с Дорофеевым.
Большие часы в вестибюле больницы пробили одиннадцать раз; Анатолий Емельянович машинально достал свои золотые карманные, луковицей, с большими римскими цифрами, щелкнул крышкой и сверился, да, было ровно одиннадцать; именно в это время десять крытых машин остановились у «Ласточкина гнезда», высыпали солдаты, вытянулись в шеренгу, потом двое из них, с привычным азартом поколотив каблуками сапог в ворота и никого не дождавшись, перемахнули через забор, повозились с запором, и скоро тяжелые, с железными зубьями наверху створки ворот распахнулись. Солдаты побежали двумя длинными рядами во двор, затем машины въехали на территорию больницы; солдаты с любопытством оглядывались и пересмеивались не без смущения, говорили всякие сальности о шизофреничках и параноичках, с которыми хорошо было бы вступить в половое состязание; молодые, они о смерти почти не думали: ведь смерть каждый раз вырывала из рядов кого-то «другого», и жизнь не останавливалась, и чернели разрушенные города народа-раба, обреченного на полное исчезновение. Возможность безнаказанно убивать и унижать тоже дразнила и туманила жадные от молодости сердца гитлеровских солдат, это ведь было одно из самых древних и самых порочных наслаждений; о последствиях не думали и не могли думать солдаты, для этого им еще предстояло много пережить и еще больше понять.
Приготовив автоматы, солдаты ждали, а тонкий высокий офицер с бледным лицом и спокойными глазами, в которых таилось простое любопытство, в сопровождении охраны из шести человек вошел внутрь здания; перед началом операции ему формально требовалось сказать несколько слов больничному начальству, чтобы сохранить хоть видимость приличия. Санитары, дежурившие у двери, давно заметили немцев, и один из них сбегал и испуганно крикнул об этом главному врачу; прервав обход, Анатолий Емельянович поспешил в вестибюль, здесь они встретились, группа солдат с молодым офицером впереди и Анатолий Емельянович с двумя врачами и санитарами, и это было после того, как большие часы пробили одиннадцать; еще дрожал ноюще, откуда-то изнутри души затухающий звон последнего удара, и Анатолий Емельянович прикованно прислушивался к нему.
Обер-лейтенант Людвиг Шницлер мгновенно остановил свой выбор на Анатолии Емельяновиче, бывшем чуть впереди группы в белых халатах, выражение его крупного лица было значительным и определяло в нем главного в больнице; обер-лейтенанту говорили об этом человеке как о хорошем и нужном специалисте, и он, вспомнив, с доброжелательным любопытством задержался на лице врача и встретился со старым – проницательным, все понимающим взглядом. Освобождаясь от неожиданной и неприятной власти этого взгляда, обер-лейтенант заговорил громче, чем привык, и от этого солдаты насторожились еще больше, и уже какая-то преграда разделила две группы, и это опять почувствовали и Шницлер и Анатолий Емельянович; обер-лейтенант. презирая себя за минутную слабость, которую он никак не мог забыть и которую он уже не мог простить, по-русски, довольно понятно, сообщил решение германских военных властей о перемещении больных в другое место.
– Господа! – сказал он по-военному четко, любуясь своим красивым, звучным голосом и подчеркивая безукоризненную выправку. – Вам оказывается большая честь: все здесь чистить для военный госпиталь для доблестный солдат армии фюрера. А русских больных мне приказано эвакуировать другой место. – Голос обер-лейтенанта Шницлера построжал, и слово «эвакуировать», произнесенное им с внутренней усмешкой, заставило людей в белом сдвинуться теснее; по всему помещению уже потек, распространяясь, страх, заметно тише и глуше становилось на всех трех этажах огромного здания.
– Позвольте, господин лейтенант, прошу вас, позвольте, – шагнул вперед Анатолий Емельянович, судорожным рывком протягивая руку и шевеля от напряжения пальцами, стараясь тем самым смягчить обстановку, но Шницлер руки не заметил и лишь брезгливо передернул уголком безвольного рта. – Позвольте вас спросить, лейтенант, – опять повторил Анатолий Емельянович, изо всех сил стараясь придерживаться рассудительного тона, – в какое место направляются больные? Невероятно… невероятно… Знают ли власти, что больные нуждаются в обслуживании специально подготовленного персонала?
– Не мой и не ваш забота, – возразил обер-лейтенант Людвиг Шницлер, постукивая крепкой подошвой сапога об истертый камень и высоко подняв светлые брови; в его голосе прозвучала досада от глупого непонимания Анатолием Емельяновичем происходящего. – Нам удобно сделать в здании госпиталь, зеленые деревья, цветы, птиц играет, далеко от город. Удивительно, господин доктор, жалеть отбросы общества. Мы привык здрав судить такой драгоценность.
– Позвольте, позвольте, лейтенант, – быстро сказал Анатолий Емельянович, чувствуя подхватывающий, уже знакомый ему мутный поток (такое же чувство он испытал, возвращаясь от бургомистра и натолкнувшись на выброшенные прямо в дорожную грязь книги: та же пустота в груди и то же легкое подташнивание); он старался перебороть себя, и лицо у него болезненно и неровно раскраснелось, толстые губы вздрагивали. – Вы только подумайте, вникните… Тысячелетия… нормы человеческой морали, господин офицер… – Анатолий Емельянович отчаянно цеплялся за то реальное, что ему удалось различить в образе этого молодого человека, и этим реальным было что-то происходящее глубоко в сознании Людвига Шницлера; Анатолий Емельянович заметил борьбу в нем и понял, что ему неприятно делать сейчас то, что он делает. И Анатолий Емельянович изо всех сил старался удержать эту единственную ниточку, но она оказалась слишком слабой, он даже не заметил, когда она оборвалась, исчезла, он лишь почувствовал, что она растворилась, и его сразу же подхватил все тот же огромный, неостановимый поток и понес; стремительно и косо удалялись куда-то светлые глаза обеp-лейтенанта.
– Что, что вы хотите делать? – спросил Анатолий Емельянович твердо, но лицо у него выдавало растерянность. – Я этого не позволю! Невиданная жестокость! За это не будет прощения ни от совести, ни от истории! Этого нельзя делать! Остановитесь! – повторил он отчаянно и, оглянувшись, увидел своих сотрудников, они как бы стали меньше, сжались, глядели в пол. Он привык им верить и хотел просить их помощи, но их тоже словно что-то отделило от него, они были рядом, и их уносило; раздался чей-то мучительный крик, и Анатолий Емельянович недоуменно оглянулся: часы опять били одиннадцать раз, их звон, резкий, пронзительный, разрывал голову. И по больнице, по всем трем этажам, уже шло необычное насильственное движение; везде оказалось много солдат, кого-то били, кого-то тащили волоком; Анатолий Емельянович понял лишь одно: началась та самая эвакуация, о которой упомянул красивый бледнолицый обер-лейтенант. Анатолий Емельянович выбежал на улицу, стал бросаться то к солдатам, заталкивающим больных в машины, то к обер-лейтенанту, вышедшему на крыльцо и теперь спокойно курившему сигарету.
– Стойте! Стойте! Вы не смеете! Есть ведь и над вами суд! – кричал он в каком-то беспамятстве, не сознавая того, кто перед ним, движимый лишь одним желанием остановить невиданное, преступное дело. – Это недопустимо! – говорил он умоляюще обер-лейтенанту, теперь уже твердо убежденный, что перед ним один из того же ненормального мира, где все сдвинулось и распадалось, и от него никак нельзя ждать разумных поступков. – Я к вашему начальству поеду! Есть же и на вас управа. Звери! Дикие звери лучше! О господи, да что же это?
Анатолий Емельянович потер лоб, пытаясь справиться с болезненно кривившимся лицом; да где это я, что со мной? – продолжал он думать, конвульсивно двигая руками, они никак не хотели успокоиться, словно что-то перед собой расталкивали. Немцы, немцы пришли, рвались в нем несвязные мысли. Так что ж такое, что немцы? А как же Сеня? Нет, это невозможно, этого им никто не мог позволить, это у него у самого просто бред, такого не может быть! Никакой бог этого не может допустить!
– Идите, господин доктор, – не удержался обер-лейтенант. – Вам лучше идти… другой место…
– Какое невежество! Дикость! – тотчас оборвал Анатолий Емельянович гневно, уже больше не опасаясь ни его силы, ни его мести. – Вы пытаетесь даже саму границу между добром и злом стереть, вам этого никогда не осилить! Эту черту нельзя стереть, это значит человечество погубить, навечно в могилу его толкнуть и вечным камнем завалить!
Четко закончив свою мысль, которая показалась ему самому убедительной и веской, Анатолий Емельянович нервно выхватил из кармана платок, вытер потное лицо и хотел войти в вестибюль; один из солдат по знаку обер-лейтенанта довольно сильно оттолкнул его, и Анатолий Емельянович, освободившись от грубых рук, замер. Все было кончено, ни брату он теперь не сможет помочь, ни себе, ни своим больным; это чувство бессилия сдавило голову, перед глазами поплыла рваная дымка.
Он постарался потверже укрепиться на гранитных ступенях, подставив голову ветру, шапочки на нем больше не было, жесткие седые остатки волос за ушами и на затылке, бывшие до того в каком-то приблизительном порядке, сбил резкий, душный ветер с безбрежных просторов уходящих ко всем горизонтам полей. Мимо по-прежнему проводили озирающихся больных и заталкивали в машины; тех, кто сопротивлялся, глушили ударом приклада; волна дикого возбуждения захлестнула все вокруг. Казалось, ветер стал густым и горячим, он залеплял ноздри, и Анатолий Емельянович почувствовал близость обморока; он подался назад, привалился спиной к стене, от неподвластного ужаса тело взмокло. Обер-лейтенант отошел от него подальше, продолжая наблюдать за погрузкой со скучающим независимым видом, но Анатолий Емельянович видел, что ему не по себе. Машины отъезжали одна за другой, и Анатолий Емельянович почти физически чувствовал, как их сотрясает стонущее, мучительное движение изнутри. Мимо Анатолия Емельяновича больных вели, гнали, тащили волоком, и он их всех угадывал и отмечал, кто из какой палаты. «Это из тридцать девятой, а это вот из шестьдесят четвертой… третий этаж пошел, скоро конец». Он отметил это про себя чисто механически, не вдумываясь в смысл, странная, сладкая боль кружила в сердце. Уже вели последних, темный провал фургона машины глотал их одного за другим, вели уже последних, вели последних, стучало в мозгу… а Сеня, Сеня, где Сеня, почему он не видел его? Боже мой, это невыносимо, он же сам, своими руками перевез его в больницу, дома бы его никто не тронул… остался бы под присмотром Аглаи… И тогда Анатолий Емельянович опять услышал яростный, торжествующий, вечный бой часов в вестибюле; опять били одиннадцать раз! Ах, так вот в чем, оказывается, дело! Часы испортились! Часы испортились, и некому перевести стрелки, часы стали и завязли в песке, как грузовик на одном месте, на одном месте! Только песок летит!








