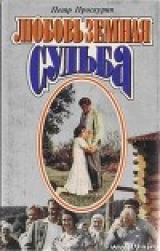
Текст книги "Судьба"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 61 страниц)
Слова Захара об Анисимове крепко засели Брюханопу в голову; и с Родионом Густавовичем он встретился после обеда, проведя совещание с пропагандистами. Вначале он думал вызвать Анисимова в райком, затем решил сам заглянуть в контору райторга; с любопытством оглядел просторную приемную, солидные черные стулья вдоль стены, в углу на высокой подставке, обтянутой кумачом, бюст Сталина. Возле двери в кабинет Анисимова за приземистым крепким столом стучала на старенькой машинке курносая, лет двадцати, девушка с чудесной русой косой. Когда Брюханов вошел, девушка вопросительно подняла глаза, и Брюханов поздоровался с нею, любуясь ее свежим лицом, ровными белыми зубами, задорно приподнятым носиком (он с утра сегодня был в отличном настроении).
– Здравствуйте, товарищ, – сказала девушка, со своей стороны отмечая его кожаное пальто, высокий рост и то, что пришедший в хорошем настроении. – Вы к кому?
– Мне Анисимова, – ответил Брюханов, улыбаясь ее серьезному тону, и вспомнил давно бытующее утверждение, что по секретарю можно определить характер хозяина: – У себя? – спросил он, расстегивая крючки пальто и тем самым показывая, что с Анисимовым он намерен встретиться обязательно; девушка помолчала.
– Родион Густавович очень занят, – сообщила она с легким сомнением в голосе и вежливой улыбкой.
– А вы все-таки доложите, скажите, Брюханов хотел бы его видеть.
Девушка, покачивая красивыми сильными бедрами, вошла в кабинет к Анисимову; Брюханов впервые обратил внимание на дверь, разделявшую приемную и кабинет; она была обита по толстому слою войлока добротной яловой кожей, и Брюханов подивился человеческой тщеславности. Из этой обивки можно было сшить целую дюжину прекрасных сапог, если не больше, а гвозди-то каким замысловатым узором набиты, прямо что-то из древней вязи. Анисимов вышел ему навстречу энергичным шагом, затянутый в защитного цвета френч, помолодевший. Следом за ним с тихой виноватой улыбкой бесшумно скользнула на свое место секретарша. В первый миг в глазах Анисимова, как показалось Брюханову, мелькнула неприязнь, но всем своим видом и словами он выказывал радость. Родион Густавович торопливой мыслью, словно метлой, прошелся внутри себя, все проверяя и подчищая и стараясь припомнить хоть какую-нибудь оплошность со своей стороны; он знал, что такие высокие гости, как Брюханов, ни с того ни с сего не заходят вот так запросто к заурядному торгашу районного масштаба, а имея лишь на то свои, особые причины и предзнаменования. И та метла, коей он мгновенно и тщательно прошелся внутри себя, не задела ни за одну шероховатость, это несколько успокоило его и сделало еще более приветливым; со сдержанной радостью он пожал протянутую Брюхановым руку, посторонился, приглашая гостя пройти.
– Вот уж не мог ждать, хотя, разумеется, наслышан о вашем пребывании, – сказал он. – Рад, рад, проходите, Тихон Иванович, у меня разденетесь.
– Ну, спасибо, спасибо, – Брюханов снял кожанку, повесил на вешалку, где уже висело тяжелое пальто с воротником из серого каракуля и каракулевая шапка Анисимова; Брюханов отметил плотную рельефную шелковистость каракуля и повернулся к хозяину, ждущему посредине кабинета.
– Очень я рад, Родион Густавович, что удалось наконец-то в Зежск заглянуть, понимаете, тянет все таки родная сторона. – Брюханов причесался, откидывая назад темно-каштановые густые волосы, пытливо взглянул в лицо Анисимову. – Цветешь, Родион Густавович, цветешь, еще лет на десять помолодел с тех пор, как мы с тобой в последний раз виделись.
– Пустоцвет все это осенний, Тихон Иванович, хотя, разумеется, стареть некогда и незачем, – тотчас принимая доверительно-дружеский тон, отозвался Анисимов. – Не хотелось бы поддаваться… Садитесь, Тихон Иванович.
Брюханов кивнул, продолжая ходить по кабинету, и Анисимов тоже остался стоять; Брюханов с легкой улыбкой ему сказал:
– Слушай, Родион Густавович, будем без церемоний. Сидеть приходится много, так что давай друг друга не стеснять. Вид у тебя из окна хороший. Сколько лет мы уже знакомы?
– С двадцать девятого, вот уже больше семи лет, – сказал Анисимов с улыбкой и все с той же внутренней настороженностью к своему неожиданному гостю. – Направили меня сюда тридцати двух лет, а сейчас уже сорок первый, сорок – и прозвенело, Тихон Иванович. Э-э, да что годы считать, – засмеялся он, выпрямляясь и напрягая тело, довольный ощущением собственной бодрости и силы. – Кажется, еще немало предстоит нашему с вами поколению, а, Тихон Иванович?
| – Как работается на новом месте, Родион Густавович? – спросил вместо ответа Брюханов. – Признаться, узнал о переменах в вашей жизни, удивился.
– Я и сам удивился, Тихон Иванович, – сказал Анисимов таким голосом, словно оглядываясь. – А потом привык, надо, значит, надо. Мой предшественник проворовался основательно, это уже после вас обнаружилось, у него на семьдесят три тысячи оказалось.
– Это Провзоров? Вот прохвост-то! – сердито повысил голос Брюханов, вспоминая Провзорова, его острый птичий нос и словно навсегда приклеенное к его лицу любезно-жизнерадостное выражение. – Как же мы его проглядели? Да и нас бы с ним заодно нужно было прищучить хорошенько.
В голосе Брюханова прозвучала досада, и Анисимов, откровенно не соглашаясь, засмеялся…
– Мы с вами можем говорить без обиняков. Торговля – дело государственное, люди, осуществляющие ее, имеют дело с дефицитным товаром, которого зачастую недостаточно, с деньгами, которые по-прежнему остаются для большинства самой действенной силой. В этой трещине мошенники и растут, как грибы. Велик искус в делах торговых! – Анисимов развел руками и, заметив, что Брюханов внимательно слушает его, продолжал: – Представьте себе, Тихон Иванович, здесь искушений, как нигде, много, только протяни руку – и поешь послаще, и поспишь помягче. Не всякий справится с собой. Я сначала этого ничего не знал, Тихон Иванович, грязная работа. Потом привык, – человек ко всему привыкает, работать кому-то надо! У нас с началом строительства шумно стало, народу раза в три прибавилось, городище скоро разрастется – загляденье. Другими масштабами заживем.
– Квартиру получил?
– Это не проблема; вы, может быть, не знаете, мы ведь вдвоем с женой, много ли нам надо. Она у меня учительница, ей, разумеется, такой поворот событий по душе. Сейчас в средней школе преподает. А жилье получили, конечно, по улице Отрадной. Может, помните, владения колбасника Носова? Один из его домишек в две комнаты отдали. Дворик отдельный, вот только крыс много, кота на той неделе съели.
Брюханов с веселой насмешкой глядел на Анисимова; он отлично знал и улицу Отрадную, расположенную на окраине Зежска, которую опоясывала почти пересыхавшая к концу лета речушка Селья, один из притоков Оры; знал и владения колбасника Носова, самому пришлось их реквизировать в свое время; он даже этот домик с отдельным двориком смутно помнил, поговаривали, что именно в этом домике колбасник держал, время от времени меняя, своих многочисленных любовниц; вот и Соня Прохорова жила на этой улице Отрадной, только в другом ее конце. Брюханов чуть сдвинул брови, это едва заметное изменение в лице Брюханова тревогой отозвалось в сердце Анисимова, но в глазах Брюханова уже опять стояла веселая усмешка; он вспомнил о Соне случайно, мимоходом. Его насмешил рассказ Анисимова о крысах, уж как-то не вязался этот здоровый сильный мужчина при должности и солидном кабинете с той войной, которую он вел с крысами у себя дома.
– Вчера один знакомый совет дал насчет крыс, – сказал Анисимов. – Говорит, нужно одну поймать, облить керосином, поджечь и пустить под пол, все, говорит, в один час уйдут.
– Жестокий рецепт. – Брюханов опустился наконец в кресло, и Анисимов тоже мог теперь сесть, он еще помедлил для приличия.
– А что с ними делать? Жена измучилась, спать не может.
– Родион Густавович, я на той неделе у Захара Дерюгина был, – сказал Брюханов, взглянув на Анисимова. – Новый дом ставит, посидели, поговорили.
Анисимов, спокойно слушавший Брюханова, вопросительно поднял глаза и не опустил их, хотя что то неприметно дрогнуло в нем, он понял, ради чего здесь у него Брюханов, и Брюханов понял, что его собеседник это почувствовал, и, откинувшись на спинку кресла, не скрываясь, в упор рассматривал теперь Анисимова, и тот, открыто и простодушно встретив прямой взгляд Брюханова, ждал, не выскажется ли Брюханов более определенно.
– Много он мне крови попортил, – сказал Анисимов в задумчивости. – Это мужик с замком, не с каким-нибудь, а пудовым, без скважины и без ключа. Его кувалдой только и можно расколотить.
– Характер у него есть, – согласился Брюханов. – Вот только не пойму, какой зверь между вами проскочил.
– Почему же только между нами, Тихон Иванович? – спросил Анисимов, не скрывая, что готов говорить о своих отношениях с Захаром начистоту. – Я с вами откровенен, как, впрочем, и всегда был откровенен, – тотчас поправился он. – Вы, очевидно, для этого разговора и завернули ко мне, так ведь?
Брюханов ничего не ответил, достал папиросы и закурил; Анисимов придвинул ему поближе пепельницу, взял папиросу из протянутого портсигара, прошелся по кабинету.
– Не сошлись мы, с ним с самого начала, крестьянская стихия, крестьянин вообще не терпит в своей среде чужаков. Захар Дерюгин не исключение, наоборот. В нем земля его прадедами на сотню лет в глубину кричит: раз со стороны – значит, захребетник, только и годный чужой хлеб жрать. У мужика с землей своя особая, нутряная связь, никакому горожанину недоступная, тут уж никто не виноват.
– Все так, разумеется, Родион Густавович, в общем-то мы все оттуда, из одной колыбели – от пастуха и пахаря, ну а если конкретнее?
– Вы считаете, я не думал о своих отношениях с Захаром Дерюгиным? Думал и сейчас думаю, мне самому интересно разобраться, я ему только добра хотел. Откуда же с его стороны такая враждебность? И с самого начала, заметьте, не прошибить ее ничем.
– А пробовал, Родион Густавович?
– Сколько раз! Ну хорошо, спутался он с этой девкой, сказал я ему, остерег, а раньше-то, раньше? Не терпит ничьего верху. Да вы-то знаете, Тихон Иванович, Захара лучше другого, воевали вместе, вам, как говорится, и карты в руки. А передо мной он как закрытый сейф, с какой стороны ни зайди – железо, плотность. Слышал я стороной, что и с дочкой Поливанова у него разладилось. Знаете, Тихон Иванович, – Анисимов снова задумался, глянул в заиндевелое окно, – даже жаль, неужели все перегорает и вечного ничего нет, такая у них любовь была. Вполне вероятно, что все мы тогда, в том числе и я, осуждая Дерюгина, неправы были… Все-таки это что-то большое, редкое было, ни на что не похожее… Впрочем, Захар все равно счастливчик, – неожиданно вырвалось у Анисимова. – Сыновьями, Тихон Иванович, – и Брюханов кивнул. – Будь у меня хотя бы один, не знаю, как бы я счастлив был, все, что в силах, даже сверх того сделал бы – дал бы ему большую судьбу. В наше время это возможно.
– За чем же остановка? – уловив наконец в голосе хозяина горячую заинтересованность, Брюханов оживился. – Впрочем, это я к слову. Да-да, каждый наделен своим пониманием счастья, и голову чужую насильно не приставишь. – Брюханова заинтересовали мгновенные реакции хозяина и несколько непривычный строй его речи; он раньше мало обращал внимания на Анисимова, но ему помнилось, что раньше Анисимов был проще, что ж, пообтесался в городе; скорее всего, предположения Захара – следствие поваливших одна за другой неурядиц в его нескладной жизни. Бывает и так, сойдутся два совершенно незнакомых человека и сразу почувствуют друг к другу резкую неприязнь, наблюдается в человеческих отношениях такая несовместимость, собственно, и Захар этого не отрицает, и он зашел сюда так, из любопытства. То, что он услышал от Анисимова, было толково, разумно, логично, но как-то уж очень гладко; поговорив с Анисимовым еще о том о сем, Брюханов, к слову, спросил его об отце; Анисимов остро блеснул глазами, и тотчас добродушная улыбка набежала на его лицо.
– Вас, Тихон Иванович, отчество мое смущает, – сказал он. – Оно многих смущает, немецкое. Отец у меня потомственный рабочий, кузнецом всю жизнь, оглох под конец совсем старик. Умирал, все услышать голоса наши хотел, перед самой революцией скончался. А вот дед у немца-колбасника работал в Питере, в угоду и назвал первенца Густавом, по имени хозяина. Видите, через поколение отзывается… факт, как говорится, исключительно социальный.
Брюханов ушел от Анисимова засветло и часа полтора бродил по знакомым улочкам и даже выбрался на вытоптанный коровами и гусиными стадами небольшой лужок, долго стоял на берегу Сельи в хорошо знакомом с детства месте, где издавна было ребячье купалище. Обрыв, как и у многих речушек в этой местности, был небольшой, метра в два, а противоположный пологий берег переходил в равнину; Брюханов впервые за последние месяцы чувствовал тихое отъединение от всех дел и забот, он выбрал место, сел и закурил; воды в Селье было сейчас много, у берегов кое-где уже начал лепиться тонкий ледок, движение шло слабо, еле заметно, и только набегавшая иногда от ветра рябь оживляла темный, текучий мир воды.
Что ж, все логично, Захар Дерюгин видит и ощущает в жизни одно пространство, Анисимов – другое, сам он, Брюханов, третье; и каждый по-своему прав; да, поездка в Густищи освободила его от тяжелого, непосильного груза, пожалуй, слишком долго он тащил на себе эту тяжесть и не мог сбросить, несмотря на жгучее желание сделать это побыстрее.
Темнело, нужно было возвращаться, Брюханов бездумно глядел на черную дымящуюся поверхность Сельи, через неделю или две она вся покроется льдом; хрупкий, звонкий ледок упрочится понемногу, и новые мальчишки, совершенно незнакомые, с веселыми криками зазвенят коньками. Оглянувшись, Брюханов увидел большую рыжую корову с тупыми короткими рогами; она подошла незаметно почти вплотную и, наставив уши вперед, глядела на него большими влажными глазами. Брюханов засмеялся.
– Дура, – ласково подразнил он корову, – ну, чего смотришь?
Корова обиженно мотнула головой, а Брюханов быстро зашагал к городу; через несколько часов он был уже в Холмске, и, когда машина, мягко тормозя, пошла с возвышенности, напряженно всматривался в темные улицы; город спал, и прохожие были редки, в домах один за другим гасли огни. Ни одно окно не вспыхнуло радостно ему навстречу. Ну что же, не приехала – и дело с концом, когда-нибудь поблагодаришь судьбу за это, Тихон Иванович, сказал сам себе Брюханов. Теперь – домой, в горячую ванну, и спать, спать; завтра утром с докладом к Петрову. Хочешь не хочешь, придется обращаться в правительство; большего строительству область дать не может, и надо этот вопрос ставить на бюро.
Вымытый, выбритый, в хорошо отутюженном костюме, с мыслями о строительстве и предстоящем разговоре с Петровым, Брюханов вышел назавтра из дому; довольно сильный утренник в яркую хрупкую белизну разукрасил деревья и провода, и Брюханов чувствовал бодрую легкость; кто-то догонял его, и он, оглянувшись, увидел Клавдию.
– Счастливая встреча, Брюханов, – сказала она, разрумяненная, запыхавшаяся от быстрого хода и морозца, в меховой шапочке, надвинутой на самые брови. – Вы уже, оказывается, вернулись. Что ж не заглядываете?
– Только ночью вернулся… Приветствую вас, Клавдия Георгиевна, – Брюханов слегка поклонился, не глядя в ее оживленное лицо. – Кажется, сегодня мороз обещали? Что, не слушали сводку?
Они шли рядом, свободно друг от друга; от странных слов Брюханова Клавдия приостановилась, и он увидел ее зеленые глаза, в которых затаилась легкая насмешка.
– Злитесь, что я сломя голову не ринулась по первому вашему зову в омут, Брюханов? Не сожгла корабли?
– О чем вы, Клавдия Георгиевна, не пойму? Слишком сложно для меня и красиво. – Брюханов слегка притронулся к фуражке. – Простите, Клавдия Георгиевна, я очень спешу, через четверть часа совещание.
– Как вы со мной разговариваете, Тихон Иванович. – Из-под меховой опушки на Брюханова глянули мягкие, понимающие глаза. – Я вас не задерживаю. Что вы стоите? Идите же! – Она круто повернулась и пошла в обратную сторону; Брюханов все время помнил, что ему нужно удержаться, не оглядываться, и не оглянулся, хотя совершенно не понимал этой устроенной самим над собой экзекуции.
В обкоме он подробно, стараясь не упустить ни одной мелочи, доложил о своей поездке в Зежск внимательно слушавшему Петрову. Отдельно остановился на Чубареве, сжато и коротко отмечая его энергичность и работоспособность, подчеркивая, что положение дел на строительстве в значительной степени держится усилиями и волей самого Чубарева; Петров еще долго его не отпускал. Остальную часть дня Брюханов знакомился у себя с накопившимися в его отсутствие делами. Рабочий день кончился, и, оставшись наконец один, Брюханов вспомнил Клавдию; к черту, разозлился он на самого себя, хватит; надо присмотреть хорошую девушку и жениться без всякой долгой волокиты. Что ж, работа, она теперь навечно, но надо же и о себе подумать, матери, наконец, покой дать.
Эта мысль ему поправилась, он стал тщательнее и щеголеватее одеваться, бреясь по утрам, поглядывал в зеркало дольше обычного, а на улицах незаметно для себя присматривался к встречным женским лицам; одним словом, идея жениться во что бы то ни стало и как можно скорее запала в него крепко.
Петров вызвал его спустя недели две, коротко бросив «садись», хмурясь, раздраженно искал что-то у себя на столе, затем в ящиках, с грохотом выдвигая их и заталкивая назад один за другим; Брюханов терпеливо ждал.
– Видите ли, Брюханов, – сказал наконец Петров, выпрямившись, с уставшим, постаревшим лицом, – вчера арестован Чубарев. Ваши выводы противоречат реальному положению дел.
Брюханов ожидал любого поворота, но этот удар застал его врасплох, он оттянул ворот рубашки; вода в графине, конечно, теплая, сейчас бы ледяного квасу, как у матери Захара.
– Да, Константин Леонтьевич, первый в совете – первый в ответе. Но свои выводы я готов отстаивать где угодно.
– Ну, конечно, хороши у меня работнички, пошли Митрофана, за Митрофаном болвана, за болваном еще умника, он тебе так наворочает… Да и я хорош, успокоился… Трех спецов прихватили во главе с Чубаревым, – отчужденно сказал Петров. – Вы сравнительно молодой человек, да, молодой, и лишний раз подтвердили это…
– Константин Леонтьевич, зачем вы прячетесь за слова? – неожиданно для себя и для Петрова вспыхнул Брюханов. – Дело не в моей молодости, любой на моем месте сделал бы то же самое, я не увидел ничего плохого, что же бить тоевогу? Чубарев честный человек, он просто замечательный человек! Да вы же сами в этом убеждены, иначе не послали бы меня туда. Я… – Распаленный, как ему казалось, несправедливостью в отношении себя, Брюханов оборвал на полуслове, встретив темный, в упор, взгляд Петрова. – Я никогда не боялся ответственности, – нарушил тягостное молчание Брюханов. – Если вы находите нужным, находите, что я не справляюсь…
– В кусты, Брюханов? Нет, ты будешь работать. Тяжко? Да, тяжко. А на чьи плечи ты хочешь переложить эту тяжесть? На мои? Сергеева? Третьего? Или позволить занять твое место тому же Горшенину или Холдонову? – Петров назвал знакомые имена с несвойственным ему резким ожесточением, таким беспощадным Брюханов его не видел и, пытаясь что-нибудь вставить, всякий раз умолкал на полуслове от жесткого взмаха сухой руки, рубящей воздух.
– Думаешь, Петров струсил, стрелочника ищет. А я одного хочу, чтобы ты раз и навсегда уяснил себе истинное значение своего места. В нашей работе стандарта нет и никогда не будет. Десятки, сотни тысяч людей олицетворяют в тебе партию, изволь соответствовать… Ну да ладно, – Петров оборвал на полуслове. – Думаю, все это прояснится в скором времени. А тебе, вместо того чтобы землю копать, надо было своим непосредственным конкретным делом заниматься!
– Какую землю? – переспросил Брюханов, чувствуя, что безудержно краснеет.
– Обыкновенную, в котловане, лопатой!
– А я считаю это что ни на есть конкретным и нужным делом. Почаще бы нам, Константин Леонтьевич, от бумажек отрываться, – с вызовом, жестко сказал Брюханов, – людей вокруг себя видеть, а не их анкетные данные. Тут я, Константин Леонтьевич, ни при чем, трудовой энтузиазм масс захватил, – уже мягче добавил Брюханов, видя, что и глаза Петрова сощурились в доброй усмешке. – А что вы думаете, именно энтузиазм, – повторил Брюханов упрямо. – И потом, вы ведь знаете, Константин Леонтьевич, я смолоду вплотную с людьми привык в мартене, кипящий металл шуток не любит; а здесь, в этих палатах, мне порой воздуху не хватает. Так иногда стиснет, хочется поглубже нырнуть. Два года у вас назад в мартен прошусь, именно вы-то должны понять.
Петров ничего не ответил, и хотя он стоял к Брюханову спиной, Брюханов отчетливо представил себе выражение его лица; объяснение пришлось Петрову по душе, и они снова надолго замолчали.
– Что же теперь, Константин Леонтьевич? – спросил Брюханов, но Петров не отозвался, и когда Брюханов вновь увидел его лицо, перед ним был прежний, до мельчайших черточек знакомый Петров, глаза у него остыли, успокоились.
– Его сразу же увезли в Москву, – сказал Петров, возвращаясь к столу. – Я уже звонил в ЦК, разрешение выехать в Москву мне пока не дали. Тут вот еще что… меня поставили в известность: многое, связанное со строительством нашего моторного, вплоть до некоторых, совершенно секретных, данных стало известно в Германии… а Чубарев, вероятно, в самом деле слишком доверчив, неосторожный человек, он и у меня несколько раз был, да и раньше я его знал, приходилось встречаться в Тяжпроме, простить себе не могу…
– Вы хотите к самому, к товарищу Сталину? – спросил Брюханов и тотчас понял, что допустил глупость.
– К сожалению, ошибки, как видно, неизбежны. – Петров тяжело опустился на свое место.
– Константин Леонтьевич, – почти попросил его Брюханов, – я не улавливаю в происходящем закономерностей, логических связей. Я виноват, не справился с порученным вами, очевидно, очень важным делом, блестяще его провалил. Разрешите, я сам поеду в ЦК.
– Никуда ты не поедешь, садись, Брюханов, и не ожидай от меня слишком многого. У каждого свои горизонты, прорываться сквозь них не так просто. Садись, садись, нам лучше побыть вместе, Тихон Иванович.
* * *
Прошел час, прошел другой, разговор у Петрова с Брюхановым давно уже перехлестнул за какие-то конкретные грани, но оба чувствовали, что разговор этот, если они хотели и дальше работать вместе, необходим. Рассуждения Петрова были похожи больше на вопросы и к самому себе и к Брюханову.
– Что такое абсолютная свобода? Возьмем Великого Инквизитора Достоевского и его понимание свободы. Прав ли он, рассуждая об абсолютной свободе? Нет, не прав, потому что абсолютной свободы в человеческой природе вообще не существует. Свободу человеку даст одно только знание, оно поможет перешагнуть бездны в самом себе, от которых шарахались и шарахаются раньше и теперь.
Узкая ладонь Петрова притиснула лежащие перед ним бумаги.
– Любая истина изменчива и текуча во времени, даже самый гениальный человек не может вместить всего. В одном я убежден: знание теперь открыто народу, и это, возможно, главный итог нашей революции. А теперь… давайте ближе к земле, Тихон Иванович.
– Ближе к земле, значит, я просто исполнитель, – настаивал на своем Брюханов, не в силах справиться с вселившимся в него духом противоречия. – Как просто! Верую, и все! Верую! А если я сердцем чувствую, что Чубарев никакой не враг, безошибочно знаю?
– В работе с людьми, в нашей с тобой работе, Тихон, к сердцу надо приложить еще и голову. – Петров дернул плечом, как бы удивляясь несерьезности слов Брюханова. – Я не о Чубареве сейчас, смешно, я, как школяру, должен говорить тебе общеизвестные вещи. В Германии разгул фашизма, Испания в огне, опять же фашизм… Троцкизм, пятая колонна. Впереди у нас не одна схватка с мировым капиталом, может быть, война… Ты уверен, что у нас внутри страны стерильно чисто? Вот видишь, нет, я – тоже. Это противоречило бы всяческой логике… Почему не допустить, что это закономерная обостренная реакция на происходящее вокруг, на разгул черных сил в мире? Как мера собственной безопасности в масштабах страны. Вот лично мои мысли, Брюханов, если это так важно для тебя.
– Важно, очень – Брюханов устал, и в нем все мелькало разорванно – Испания… фашистский мятеж… поджог рейхстага… речь Димитрова… Троцкий.
– Чубарев – беспартийный, – прервал Петров лихорадочные мысли Брюханова, – это дополнительно усложняет дело. Черт возьми, как это ты прохлопал, Тихон Иванович, ни малейшего ощущения тревоги не вынес. Такого крупного специалиста потерять.
Брюханову хотелось пить, но идти через кабинет к столику с водой, он чувствовал, сейчас нельзя было, не с руки.
В наступившей тишине отчетливо доносились шумы города: звон трамваев, гудки автомобилей; на главной улице и площади, примыкавшей к зданию обкома, зажглись фонари.
– Пешком надо больше ходить, Тихон Иванович, – сказал Петров, присматриваясь к осунувшемуся за день Брюханову. – Готовься, доложишь о ходе дел на моторном на бюро во вторник. А сейчас на воздух, за город куда-нибудь, в лесочек.
– А вы, Константин Леонтьевич?
– И я следом, вот только посмотрю тассовки. – Он со злостью отбросил какие-то бумаги. – Читаешь, любо-дорого. Выжимка, самая суть и никакой воды. А наши голубчики – трактаты пишут вместо диаграмм и отчетов. – Он потряс пухлой папкой. – Дюма вместе с отцом и сыном. И кто пишет-то? Инженеры, язви их в душу.
– Да, это верно, эпитеты присутствуют у нас в излишестве… Константин Леонтьевич, помните, мне с группой наших специалистов удалось у Круппа в загранкомандировке побывать… Вот где четкость, доведенная до степени автоматизма, неодушевленности. Но поучиться есть чему. Я как металлург там больше всего положением сменного мастера в мартене интересовался. Понимаете, у Круппа инженер, допустим, начальник смены обязательно ведет запланированную научную работу. Это входит и в его оклад, и в круг обязанностей перед фирмой. Результатами, разумеется, пользуется завод, а точнее, хозяин, но от этого факт не перестает быть фактом. А у нас, как только инженер выбивается в сменные мастера, тут его и потолок, отсюда и начинается дисквалификация. Дергают его в разные стороны, вплоть до установки унитазов, и никаких условий для роста. Стоило бы и нам задуматься и по возможности кое-что позаимствовать, Константин Леонтьевич. Дисциплинированный народ – немцы, я после поездки даже немецкий язык стал изучать. Ну ладно, пойду, Константин Леонтьевич.
Петров кивнул, жестом отпустил Брюханова, что-то черкнул у себя в блокноте, звоны трамваев доносились все глуше; просторная площадь перед зданием обкома совсем опустела; маленькие елочки чернели четким прямоугольником, их посадили недавно, в день открытия памятника жертвам революции.
Петров опустил штору и с тихой улыбкой, которая появляется у человека лишь наедине с самим собою, развернул письмо сына, полученное сегодня утром, и все с той же неисчезающей тихой улыбкой стал его перечитывать. Вот так, думал он с щемящей, теплой грустью, сын уже взрослый, военный летчик, женился, летает где-то на самом краю страны. Петров никогда не был на Дальнем Востоке, но из длинных, подробных писем сына он представлял угрюмую бесконечность тайги, дикое нагромождение сопок, необычное для средней полосы летнее половодье рек; косяки странных рыб, возвращающихся на нерест в родные реки из океана; все-таки как щедра и многообразна жизнь, сколько в ней неистраченных резервов.
Если бы не эта постоянная, не отпускающая ни на минуту загруженность, можно было бы съездить с женой к сыну. Девять суток вдвоем через всю страну в мягком купе без телефонов, ночных вызовов, сбросить с себя этот груз хотя бы на две недели и поехать, вот была бы радость жене, очень уж сильно тоскует по сыну.
Сложив письмо, Петров бережно спрятал его во внутренний карман, короткая минута отдыха кончилась, но именно теперь он и принял решение по самому важному для себя вопросу, необходимо было действовать, не теряя ни одной минуты.
* * *
Просидев во главе специально созданной им парткомиссии на Зежском моторном несколько дней, собрав необходимый материал, аргументацию и лишний раз уверившись в своей правоте, Петров выехал в Москву, пробыл там недели две и, возвратившись, на попытки Брюханова повести разговор в определенном направлении коротко ответил:
– Да чего уж там, Тихон Иванович, не виляй вокруг да около, пришлось мне, как говорится, хлебнуть лиха… Дней через семь будет твой Чубарев на месте, его теперь жена одного не пускает, увольняется с работы, вот поди же, пойми после этого женщин, даже мебель распродает.
Не эти слова, а сам голос Петрова, какой-то намеренно ровный, бесстрастный, будничное выражение его лица удержало Брюханова от выявления чувств и дальнейших расспросов; что-то разделяло их, чему Брюханов не мог найти определения, но что хорошо чувствовал; он кивнул и хотел выйти, но Петров рассмеялся по-доброму, понимающе.
– Как-то я с Владимиром Ильичем в восемнадцатом разговаривал, трудная была пора. Меня на юг посылали, помню, он тогда сказал, что в критических обстоятельствах необходимо уметь действовать молниеносно… Н-да, молниеносно, и все-таки этих дней я никогда не забуду. Права все-таки народная мудрость: не топора бойся – огня. Ну хорошо, иди, Брюханов.








