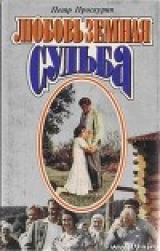
Текст книги "Судьба"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 61 страниц)
Их было семнадцать, и они держались в подвалах десятый день (в оперативках это место так и называли «дом семнадцати»), но теперь их оставалось десятеро; третий день им не подвозили припасов и не забирали раненых, и двое из них уже умерли у самой воды; и вот опять наступало утро, и Вася Ручьев, затаившись в развалинах, пристально всматривался в светившийся мрак перед собой; он угадывал за ним какое-то угрожающее затаенное движение. С левого берега по тылам немцев ударила тяжелая артиллерия; сейчас в Васе Ручьеве даже мать не сразу бы признала собственного сына; он обгорел не только снаружи, но и как бы изнутри, глаза и щеки у него ввалились, голова была обвязана темным окровавленным тряпьем; он выжил тогда в Смоленске, вышел из двойного окружения, а теперь, пожалуй, ему уже не суждено было вырваться из этого ада, и он как-то спокойно и вяло думал об этом, и только глаза, видевшие за этот год войны то, что человеку не надо, нельзя было видеть, выдавали, какая горечь скопилась в нем; он тесно лежал между двумя обломками стены; третий, изъеденный осколками, косо прикрывал его сверху; несмотря на постоянное недосыпание, спать ему не хотелось; он знал, что скоро опять начнется, и, не доверяя глазам, больше прислушивался к каждому шороху и звуку в чадной, дымной мгле впереди; он знал, гранат почти не осталось, хорошо, если удастся продержаться до вечера; кончались и патроны, а подвоза, как обещали, не было в ночь; о чем там, интересно, думают ребята внизу? Ждут, спят? Спят, конечно, решил он, да и думать нечего, позицию нельзя бросить, прямо за спиной обрыв и Волга, только благодаря им и еще один участок в излучине держится; они прикрывают друг друга с тыла. Видать, суждено им здесь всем положить головы. Вася стал думать о Москве, о своем заводе и о матери; с неделю назад удалось написать и отправить на тот берег несколько строк, а дойдет ли?
В воздухе, в земле, в нем самом стоял один непрерывный гул, не прекращавшийся вообще много дней подряд; но Вася еще слышал движение и звуки на участке перед собою отдельно, отличал их от всего остального, и когда в серой мгле перед ним прорезался вначале приглушенный рокот танковых моторов, Вася тотчас отполз назад и закричал в пролом, в подвал:
– Тревога! Тревога! По местам! Опять коробки! Эй, лейтенант!
Увидев приближавшегося к нему из темноты подвала лейтенанта, Вася вернулся на свое место; ему передали связку гранат, и он некоторое время решал, куда безопаснее сунуть эту драгоценность. Он скоро почувствовал, что все десять человек заняли свои места в развалинах, и теперь наступило самое трудное время: нужно было ждать, пока развиднеется, и гадать, пронесет ли на этот раз… В трех шагах от Васи устраивался Дармодехин, здоровый, рослый парень, всегда медлительный и ровный. Вася вполголоса попросил у него махорки и передвинулся к нему.
Они выкурили одну цигарку, бережно передавая ее из руки в руку.
– Кажется, наш час подошел, – по-домашнему спокойно заметил Дармодехин. – У нас теперь на Алтае ветер, простор во все стороны.
– У тебя жена есть, Дармодехин? – спросил Вася, вытягивая из окурка последний дым и задерживая его в легких подольше.
– Какая жена? – простовато удивился Дармодехин. – Мне всего девятнадцать, у нас в селе такими молодыми редко кто женится.
– Мне двадцать три, в сентябре, десятого сентября сровнялось, – уточнил Вася, глядя куда-то мимо лица Дармодехина. – Знаешь, а я баб любил, в городе оно раньше, что ли, начинается… Еще мне железо нравилось… берешь болванку, получается любая замысловатая штука…
В сером, все более светлевшем мраке белело лицо Дармодехина; оно было в самом деле молодым и даже после всех адских дней не утратило мальчишеской неясности; и Вася и Дармодехин в будничном и оттого еще больше сближавшем их разговоре отдыхали, отходили душой, невольно утверждаясь и в своей собственной ценности среди неподвластных им сил и событий; что-то смертельно враждебное копилось вокруг, готовилось рухнуть, стереть их и смешать с каменным хаосом, но у каждого из них был свой особый тыл: не обрывистый берег Волги, не широкая полоса текучей воды, которую можно было и пересечь в темноте, а нечто более прочное, совершенно уж нерушимое, и находилось оно, это нечто, сделавшее их не слепо обреченными, а мудро зрячими в своем тяжком бесстрашии, в них самих, в их душе и сердце. Разговор их о прежней своей жизни оттого и был прост.
– А ты знаешь, Ручьев, – сказал Дармодехин с легкой и несколько смущенной улыбкой, – я лейтенанту заявление отдал. В партию заявление… Насилу у Занина листок из блокнота выпросил, ну, говорит, ладно, ради такого дела…
– Думаешь, умирать легче будет?
– Ну ты не очень-то, не очень, Ручьев! – обиделся Дармодехин и тут же опять притих. – Язык у тебя, Ручьев, крапива, оно так бывает, ничего. Стоит себе, а дотронешься – ожжет… а я сам не знаю, как оно будет, легче или как… только умирать я не думаю, Ручьев, не хочу, я вот после войны соберусь, в Москву поеду, у меня одна мечта есть… Вот я тогда к тебе в гости приду.
– Приходи, – разрешил Вася, – я тебя с девчатами познакомлю, у нас на танцах в клубе духовой оркестр шпарит, и с барабаном. Мы еще, конечно, поживем, Дармодехин, – добавил он, желая этого и заставляя себя думать именно так, – еще день продержимся…
– А я не паникую. – Дармодехин недовольно приподнял голову, безволосо поморгал красными, опухшими веками. – Слышишь? Опять пошли, – сказал он в сердечной досаде от помехи продолжить хороший разговор. – Ну, братья-славяне, держись, прет много!
Перескочив на свое место, Вася проверил автомат, осторожно приподнял голову.
– Много, – пробормотал он, – сотни полторы за коробками идут, надоело возиться… решил добить. Вот будет музыка.
Недалеко от Васи что-то надсадно прокричал лейтенант; Вася не расслышал, ничего нового он не мог сказать, ничего хорошего – тоже; нужно было держаться, как держались они и день, и неделю назад; уже было видно, как тяжело и неуклюже выползавшие из-за укрытий приземистые танки переваливаются на грудах развалин; насколько им позволяла площадь перед советскими позициями, прижатыми к самому берегу, они перестроились, выровнялись в одну линию и, сразу стреляя, рванулись вперед. За ночь немецкие саперы, видать, хорошо поработали; расчистили часть завалов; Васе казалось, что сразу две машины прут прямо на него, из автоматов и пулеметов бить по ним было бесполезно, оставалась одна надежда на гранаты. На ходу стреляя, танки приближались; идти им было не более ста метров; на половине расстояния они остановились, стали из пушек долбить развалины, в которых засели русские; в кирпиче снаряды рвались по-особому, с мучительным звоном, и постепенно воздух затягивался красноватой пылью; Вася лежал, слыша визжащий камень вокруг и чувствуя, как камень шевелится под ним. И еще, задерживая внимание, на глаза попала смятая в лепешку консервная банка; это был пустяк, но Вася то и дело начинал приглядываться к ней. Уже с самого начала обстрела подступила глухота. «Что, что они, опять пикировщиков ждут? – мелькнула короткая мысль. – Тогда надо бы вниз успеть». Он взглянул на свои красные от кирпичной пыли руки (теперь уже хорошо было видно), попытался хоть немного разобраться в происходящем, но в тот же миг снаряд ударил прямо рядом с ним в обломок стены справа, и словно со звонким треском лопнула и полетела куда-то земля; когда он очнулся, горький вкус сгоревшей взрывчатки застилал горло, и он начал судорожно кашлять. Или он совершенно оглох, или стояла тишина; привычка действовать осторожно, не сразу, сработала и на этот раз. Он разгреб мешавшее, наваленное недавним взрывом крошево камня впереди и подумал, что ему снится; танки утюжили развалины на самом берегу, из-под гусениц летели каскады камня, и Вася увидел бегущих к развалинам немцев. Торопливо выставив вперед автомат, он стал стрелять короткими прицельными очередями; кто-то, вероятно, стрелял по ним и еще, немцы бежали, падали, опять бежали, но затем остановились, залегли в завалах намертво, и тут, возликовав душой последний раз, Вася невольно сжался в своем укрытии; совсем рядом, метрах в десяти, пробиваясь через каменный завал, судорожно ревел и дергался из стороны в сторону, расчищая себе дорогу, танк, его широкие гусеницы подбирали под себя, дробили кирпич; и сразу прорезался звук, и несмотря на дикий, обвальный грохот разгоревшегося повсеместно утреннего боя, Вася слышал омерзительный, невыносимый скрежет трущегося в крошево камня именно под гусеницами идущего на него танка; стрелять танк по засевшим в развалинах не мог, он шел на подъем, но его накатывающиеся гусеницы и без того делали свое дело. И вторично длинная дрожь прошла по телу Васи; он увидел сбоку танка неровно движущуюся ему навстречу в красновато-бурой пелене пыли рваную фигуру и тотчас узнал в ней Дармодехина. Но у Дармодехина, как Васе показалось, были странно короткие, словно обрубленные у кистей руки, и он, выставив вперед окровавленные измятые культи, зажав что-то ими, двигался к танку; и только тут Вася понял, что это танк пятится назад, а Дармодехин гонится за ним, неровно вихляя телом где-то в верхней его половине. Танк застрял, крутанулся на одном месте и рванулся в сторону Дармодехина, и последнее, что видел Вася, это темное, словно обожженное лицо Дармодехина, с резким, белым оскалом зубов, падающее под гусеницу; Дармодехин вцепился зубами в гранаты, и только потом Вася понял, что Дармодехин выдернул зубами кольцо. Мгновенно взблеснувший из-под днища танка взрыв, разрубивший левую гусеницу, Вася не услышал в общем реве, охватившем теперь уже все пространство бывшего города на десятки километров, он лишь увидел беззвучный огненный всплеск и тотчас, почти слепой от потрясения и сжавшей дыхание ярости, помогая себе всем телом, выбрался из своей каменной норы, не забывая о бережливости в отношении единственной связки гранат; он присел, незаметный среди общей разрухи и движения, оглянулся, чувствуя, что еще минута – и он перейдет последнюю грань; прямо перед ним, метрах в пятнадцати, стоял боком второй танк и часто бил по какой-то цели; извиваясь, Вася пополз к нему, раздирая в кровь колени и руки и не чувствуя этого. Краем глаза Вася ухватил опять бегущих в атаку немцев, ловко и привычно повернулся и стал бить по ним, ни на мгновение не забывая о танке и не упуская его из виду. Еще из двух или трех нор по немцам открыли огонь, и они легли; Вася видел, как они отползают назад, прижимая зады к земле, оставляя мертвых и раненых. Вася опять занялся танком, отмечая, что вокруг непрерывно и густо щелкают пули; один раз каменная крошка до крови рубанула его по щеке; уже не думая ни о чем, Вася приподнялся и швырнул свои гранаты, и в тот же момент автоматная очередь прошила его, и он так и не узнал, не истратил ли драгоценную связку гранат напрасно, лишь в последнее мгновение памяти заструился, засверкал, пересыпаясь, золотой, горячий песок и ослепил его, и только через несколько часов, уже у самой воды, куда его стащили товарищи, он пришел в себя; оказывается, он швырнул свои гранаты очень удачно, танк взорвался, и вслед за тем немцы опять отошли, но теперь ребят в каменных норах осталось семеро, и всего три связки гранат да по нескольку патронов на брата. «Если в ночь не подвезут, – услышал Вася чей-то надорванный голос, – завтра конец. С ножами на автоматы не попрешь». – «Конец так конец, – отозвался второй, и его Вася тоже не узнал. – Мы свое по совести отстояли». – «Ну, давай, клади его, привязывай, – сказал первый. – Кто знает, авось…» – «В горящую нефть не попадет, все еще может случиться». – «Нетг вряд ли, слаб, не дотянет». – «Он уже свое дотянул… Ну ладно, хватит, чем привязать?» – «Кого же это класть и привязывать? – подумал Вася в последнем усилии. – Ах, это же меня, – обрадованно догадался он. – Привяжут к двум сколоченным бревнам, отпихнут от берега, и плыви в ночь, повезет, ниже кто-нибудь и подберет… А не повезет…» Он сам и вчера и два дня назад таким же образом отправлял в ночь своих тяжело раненных товарищей, и теперь вот ему плыть самому… Он почувствовал, как его взяли и приподняли, и тотчас тяжелое, в зарницах небо зашаталось вверху и исчезло, и вторично он очнулся уже через час или больше; он был привязан к бревнам так, что руки у него были свободны и он бы мог ослабить ремни у себя на груди и сесть, но он не стал и пытаться. Он лишь почувствовал, что одна рука его, свалившись с бревна, все время полоскалась в воде, и ему захотелось смочить лицо и напиться; он с трудом пошевелил рукою, но поднять ее не мог; и лишь с третьего или четвертого раза ему удалось поднести мокрый кулак к лицу, и он полизал пальцы высохшим жестким языком; скоро ему удалось взять в рот немного воды, потом вытереть мокрой ладонью лицо. Вода пахла гарью, отдавала керосином. Вася тяжело водил глазами, тупо рассматривая темное, кое-где в рваных просветах небо; на гул и грохот, не утихший на этот раз и в ночь, он не обращал внимания; покойно-то как, думалось ему сонно и вяло, даже не верится, и небо в зловещих сполохах, но это ничего, пока звезды не остановились, а они ползут, ползут все-таки, и о бревна непрерывно трется вода, он слышит ее слабый шорох. Вот и его пустили вниз по матушке-Волге; он сейчас не он, а вода, и течет вместе с нею.
Свыкаясь с положением беспомощности, Вася покачивался вместе с бревнами; всего год назад нечто подобное уже случалось, кипящая от обстрела белая река, гул, тогда ему повезло, удалось выскочить; рядом с ним оказался здоровый мужик с его крестьянской неторопливостью и рассудительностью; лицо Захара Дерюгина мелькнуло в тумане, да, все хорошо, хорошо, думал Вася лихорадочно, но когда же они виделись в последний раз, когда это было? Сперва пропал этот историк, Смоленск горел, вот-вот, а в ночь началась атака через Днепр…
Сразу что-то дымное, грохочущее подступило к нему и он почувствовал, что теряет сознание; ему опять помогли ныряющие в просветах дыма и туч звезды, он теперь боялся думать или вспоминать и с тихой благодарностью старался не отрываться от звезд; а когда чуть отошел и успокоил дыхание, ему стало казаться, что с ним вместе течет земля, залитое тревожным рыжим огнем небо России, горящая вода, мир; все движется, и так оно и должно быть, и так было и будет всегда.
8Николай с Егором, после того как не стало в доме старших, Ивана с Аленкой, сдружились еще больше; как-то незаметно однолетки подтянулись, и за полтора года войны в их лицах, особенно в лице Егора, стали все чаще проступать черточки взрослости. Они были разные по виду и характерам, и эта разность все резче выявлялась с возрастом; сами они этого не замечали, потому что еще не задумывались над этим. Но и Ефросинья и бабка Авдотья все чаще отмечали эту разность; вот что значит кровь, думала бабка Авдотья, и здесь ее размышления прекращались; все люди – все должны были жить на земле. Ефросинья же и вообще об этом не думала, она все старалась и тому и другому сунуть, отрывая от себя, лишний кусок, и прежде Николаю, и не потому, что сама родила его, а из-за его худобы и роста: он был слабее Егора, хотя выше на полголовы. В хорошее время они бы уже ходили в третий класс, а так Егор окончательно забыл и письмо, и чтение; Николай, тот, правда, не упускал удобного случая достать из тайника какую-нибудь книгу и, по-взрослому морща лоб, посидеть над ней, шевеля губами (книги еще оставались от Аленки и Ивана). Бабка Авдотья не раз заставала внука с книгой в руках, и в таком углублении в нее, что он не слышал ее зова; бабка Авдотья видела в этом определенный недуг и не раз наказывала Ефросинье сводить сына к бабке Илюте повышептать болезнь; Ефросинья все откладывала, да и боялась идти в глухой лесной хутор в пяти верстах от дому. На селе упорно поговаривали о том, что объявленная немцами награда в пять тысяч имперских марок за поимку одного из партизанских разведчиков связана как раз с племянником бабки Илюты – Митькой. Могли что угодно подумать и донести, а потом оправдывайся, доказывай. И ни бабка Авдотья, ни Ефросинья не могли понять угрюмого, все более замыкавшегося в себе Николая; он был большеглаз, лицом почти повторял отца и старшего брата, и только глаза у него были расставлены шире и жили какой-то затаенной, медленно пробуждающейся красотой; бабка Авдотья часто гадала вслух, в кого он такой лобастый уродился, и никто из взрослых не представлял, как Николай, этот мальчишка, одинок в жизни и как ему нехорошо в ней. Спасался он книгами, тем непонятным и таинственным, что они ему преподносили; он быстро, еще в первом и втором классах школы, научился не только бегло читать, – у него все сильнее пробивалась способность возвращаться к прочитанному и осмысливать его теперь заново, по-своему; он мог сидеть и обдумывать часами заинтересовавший его поступок человека, а то просто какую-нибудь арифметическую задачу; он пристрастился к учебникам, оставшимся от Аленки и Ивана, потому что других книг почти не было, вначале он в них ничего не понимал, с удивительным упорством прочитывал одни и те же места по нескольку раз; он бы не мог даже примерно объяснить своего состояния; но он уже начинал чувствовать властное стремление преодолеть ту враждебную силу, которая всякий раз вставала между ним и тем неизвестным, к чему он хотел пробиться и не мог. Чувство беспомощности лишь подстегивало, в серых быстрых глазах его уже угадывался характер. Николай теперь определенно знал, что мир много больше их дома, их села, со всеми его людьми и делами, и иногда, забиваясь подальше от людей, он лежал и разглядывал медленные высокие облака, стараясь понять и представить себе этот далекий мир. Это был странный отпрыск дерюгинского семени, и Ефросинья часто думала о нем по ночам, она любила его, как и всех остальных, но помочь именно ему ничем не могла, и по доброму крестьянскому разумению, по вековому опыту, который жил у нее в крови, она старалась врачевать его, загружая всякой работой по дому. «Иди, иди, помоги Егорке дров напилить, – говорила она, застав его за книгой со злыми, далекими глазами. – Теперь не на кого надеяться, ни батьки, ни старших – никого, сами себе хозяева, да еще в чужом углу». Или тут же придумывала какую-нибудь иную работу; но бывало, когда и сам Николай, возненавидев окончательно непознаваемый для него мир книг, рвался к простой работе, таскал бабке воду, расчищал снег, копал глину на обмазку стен, да еще и Егора подгонял. После обрушившегося на семью Дерюгиных несчастья с Иваном Николай стал бояться темноты, любую работу бросался делать сломя голову, и бабка Авдотья не могла нахвалиться младшим внуком.
В это лето Дерюгины кое-как всковыряли (впрочем, как и большинство других в Густищах) свой огород, наполовину засадив его картошкой, наполовину засеяв пшеницей; полевой участок, который им выделили, Ефросинья не пошла глядеть, ни вспахать его было нечем, ни обсеменить. Староста два раза с весны предупреждал Ефросинью, требовал сеять в поле, потом, подумав, поговорив со своей бабой, в мужицкой дальновидности махнул рукой, тем более что у Ефросиньи сгорела изба и ей приходилось ютиться с ребятами в чужом углу. От беды спасло густищинцев тогда то, что в тот вечер немцы своему унтеру день рождения отмечали и перепились вдрызг, за бабами по всему селу гонялись, об этом знало полсела, согласно говорили об этом на сыске. Тем и спасена была Ефросинья; дольше всех в этом году она с детьми провозилась и в огороде, припоздала. По натуре неразговорчивая, она теперь и вовсе замолчала, и только сыновья ловили порой на себе ее диковатый взгляд и смущались; она словно впервые видела их и часто думала, что совершенно не знает ни Егора, ни Кольки, особенно Кольки; что то тревожное и затаенное прорезывалось в этом подраставшем человеке, и никогда нельзя было знать, что он выкинет через минуту. Так, когда осенью, после разных страхов, огород убрали и высыпали картошку в погреб, а часть закопали на всякий случай в яму, Николай часто стал говорить, что в этом году картошки мало и надо ее беречь, а в первые сильные заморозки, перед снегом, Николай с Егором (все из-за той же пробудившейся жадности у Николая) стали заготавливать на склонах Соловьиного лога хворост на дрова, в старый, настоящий лес ходить никому не разрешалось. Однажды братья поднялись затемно, позавтракали картошкой и по-мужски туго затянулись ремнями на телогрейках; Егор заткнул за пояс топор, и как только достаточно развиднелось, вышли из дому, от их недетской серьезности Ефросинью прошибла тихая слеза, и она благословила их вслед сердцем, долго сидела на лавке, уронив руки. Несмотря на раннее время, братьям встретился Илюшка Поливанов; все трое знали, что они по отцу родня, и потому относились друг к другу с чрезмерной мальчишеской независимостью, Илюшка посторонился, и Николай с Егором прошли молча, и, лишь отойдя на приличное расстояние, Егор, более непосредственный по характеру, возмутился.
– Чего Илюха всегда нос дерет! – сказал он, стараясь говорить не спеша, по-отцовски. – В прошлый раз я к деду Макару подошел, дедка сам меня подозвал. так этот Илюха засопел, в хату сразу ушел.
– Ну и пусть, тебе что?
– Ничего. Задаваться ему особо нечего. Хоть и брат нам по батьке, все одно подзаборник. Эта Манька батю зельем опоила, ну вот оно и получилось. Я слышал: бабушка куме Савельевне рассказывала.
Николай слушал внимательно, но отвечать не стал; оба они уже были в том возрасте, когда в жизни взрослых все меньше оставалось для них тайн; они давно знали, что детей находят не под капустным листом; на их глазах многократно повторяется это у скотины и птицы, и если Егор делился своими наблюдениями с Николаем, тот хоть и жадно слушал, но больше молчал, и если Егор мог и за девками подсмотреть во время купанья из-за кустов, то Николай лишь сопел и слушал потом все, что Егору удавалось подметить; Николай почему-то мучительно стыдился этих разговоров, впрочем, и разговоры подобные были редки; подрастая, братья заметно меньше делились друг с другом сведениями именно такого рода.
Дорога шла голым полем или в густом и высоком высохшем бурьяне; прихваченная морозцем земля звонко отзывалась на каждый шаг. В небе хмурилось, и с холодной стороны по ветру скоро несло низкие тучи.
– У нас уже воза на три хворосту будет. – Егор, шедший впереди, любил рассуждать вслух. – Еще возов семь надо. На зиму десяток возов – продержаться хватит. По первому снегу возить начнем, а может, дядька Гриша лошадь достанет у старосты. На себе ползимы будешь таскать – не напасешься.
– Ну и будешь, – проговорил Николай. – Да и десяти возов хворосту мало, не хватит. Пятнадцать надо, это не те дубы, как батька с Иваном возили. Один кряж отпилишь – и на сутки хватит.
– Надо будет, и пятнадцать нарубим, – податливо согласился Егор. – В холодной хате сидеть – не долго просидишь, а дядька Гриша тоже не обязан нас отапливать. А как думаешь, что Иван сейчас?
– Не знаю…
Егор вздохнул, ни он, ни Николай не могли забыть большого и доброго Ивана; то, что его схватили и увели, словно скотину, выходило из любых их понятий о жизни, и, вспоминая Ивана, они каждый раз делались угрюмее и молчаливее. И на этот раз они молча проделали остаток пути до Соловьиного лога, молча, перед работой, посидели, отдыхая; худое лицо Николая с крупным ртом резко белело в сером воздухе; глаза его сейчас были почти неправдоподобно большими, с какой-то взрослой отрешенностью и болью; Егор, тот, наоборот, вглядываясь в дальние размывы лога, рассуждал, что здесь топлива всем Густищам на сто лет хватит; он подтянул голенища сапог, полюбовался ими (сапоги еще весной сшил им дядька Гриша, и ему и Николаю, и это были первые в их жизни сапоги), взглянул сбоку на Николая.
– Знаешь, Иван – он вывернется, ей-богу, – сказал Егор. – Мы как-нибудь будем спать, а утром глянем… Или в партизаны подастся. А ты знаешь, Колька, – Егор понизил голос, – я на нашем пожарище черепушку от унтера нашел. Копался, копался и нашел, помнишь зубатого унтера-то?
– Почему ты знаешь, унтера черепок или еще кого?
– Его, унтера. У него два зуба железных было спереди, так они и остались.
– Ладно, пойдем рубить, – сказал Николай и первый двинулся вниз по склону лога; потом, в течение трех или четырех часов, они молча работали, один рубил голые, давно уже без листьев кусты, а второй складывал их в охапки, вытаскивал наверх и громоздил в кучу; потом, зимой, легче с одного места возить и дорожку в снегу не надо будет каждый раз пробивать вновь.
Николай быстро уставал, таская охапки сырого, тяжелого хвороста наверх из лога, на ровное место; и после третьей, четвертой ходки начинал чаще спотыкаться, а то и падать, со злым лицом дергая за собой хворост; но сменить себя на этой работе он позволял брату лишь в установленном порядке и сам тогда брался за топор; рубить тонкий хворост было легче и приятней; одной рукой пригнул – и топором под корень – раз! раз! раз! Хворост ложился на землю податливо, как скошенный. На глазок они определили время обеда, поели холодной картошки, хлеба с луком и съели по кусочку сала; бабка Авдотья снарядила их, как обычно снаряжают мужиков на трудную работу, и они наелись досыта, выпили две фляги, подобранные после пожара у себя в саду, еще теплого квасу и затем, отдыхая, полежали на хворосте навзничь. В небе по-прежнему шли холодные, жидкие тучи; после этого работать им уже не хотелось, и они, подсчитав, что теперь запас хвороста увеличился не меньше чем воза на три, решили возвращаться домой, тем более что короткий день уже кончался и начинало темнеть; а пока они дошли до села, совершенно смерклось. Они весело погремели на крыльце, в сенях, прошли на свою половину; мать с лавки встретила их больным, кричащим взглядом и заплакала, не закрывая лицо руками; Пелагея Евстафьевна, сидевшая рядом, стала ее утешать, а Григорий Васильевич, говоривший о чем-то с невысоким мужиком в потрепанной немецкой шинели, но в обыкновенной шапке с бараньей опушкой, при виде племянников быстро повернулся к Ефросинье.
– Перестань, перестань, Фрося, – сказал он, опуская руку ей на плечо. – Разберутся и отпустят, а вы, ребята, смотрите, берегите мать, – оглянулся он на племянников, затем подошел и каждого поцеловал. – Друг за дружку держитесь, вы уже большие, – понизил он голос. – Чего не знаете, того не знаете, и шабаш.
Полицейский в немецкой шинели нетерпеливо постукал прикладом длинной винтовки в пол, приказал:
– Хватит, хватит, дождались чертенят, и ладно. У нас служба, начальство. Бери свое добро, баба, а ты, старая, дай им чего-нибудь, в дороге пожуют. Ничего, пусть привыкают, – сказал полицейский, и тут Николай увидел, что мать сидит одетая и у ее ног лежит узелок. – Ну, пошли, пошли, – опять сказал полицейский Ефросинье тихо, словно оправдываясь. – Нам приказано доставить вас в город, что ж нам… А там, может, ничего и не будет, разберешь теперь, кто где.
Бабка Авдотья сунула и Николаю и Егору по ломтю хлеба; в избе оказалось еще двое полицейских, подталкивая Ефросинью и братьев, они вывели их из дома, усадили в повозку, запряженною парой, уселись сами: один впереди, двое сзади, и тотчас повозка тронулась; ни Егор, ни Николай еще не успели опомниться, но тут выскочила, вырвавшись от Пелагеи Евстафьевны, бабка Авдотья.
– Куда меня бросили, антихристы! – закричала она дурным голосом, похожим на звериный вой. – Постойте, постойте, забирайте уж под корень, неужто у вас божьего, креста в груди отродясь не светило! А-а! – тянула бабка Авдотья, хватаясь за задок повозки; на селе захлопали двери, послышались тревожные голоса.
– Гони! – крикнул один из полицейских, сидевший сзади, и в ту же минуту и Ефросинья, и ее сыновья услышали взвизгнувший над головами кнут; удар ожег бабку Авдотью, она вскрикнула. Повозка сорвалась в бешеный ход, стуча всеми четырьмя колесами и беспорядочно подпрыгивая; мелькнули крайние, словно притаившиеся под черными, полусгнившими крышами избы; мерзлая земля застучала под колесами.
Бабка Авдотья вначале бежала, затем, пошатываясь, шла, а потом, свалившись, ползла, обдирая худые колени в кровь, и тихо, утробно выла; по лицу справа багрово вспухал рубец от кнута. Скоро вокруг нее собрался народ; подняв с дороги, поддерживая, ее повели.
– Фроську с последними детьми в город… в город… ироды… с ними просилась… господи, господи, да есть ли у тебя жалость к сиротам! Прибери ты меня от такой муки!








