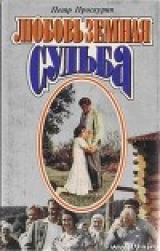
Текст книги "Судьба"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 61 страниц)
Сидя за столом и время от времени легонько притрагиваясь к вискам, Елизавета Андреевна читала сочинения своих учеников; ей хотелось потереть глаза, но она боялась новых морщин, они уже предательски наметились именно у глаз. Едва взглянув на обложку тетради и увидев ту или иную фамилию, она уже знала, о чем и в какой манере будет написано сочинение, и радовалась, если угадывала; она увлеклась и не заметила прихода мужа; услышав за спиной его громкий голос, она вздрогнула, оглянулась.
– Опять, Родион, – сказала она недовольно, – зачем ты культивируешь в себе это? Словно мальчишка, подкрасться, испугать…
Анисимов сзади обнял ее за плечи, поцеловал в голову.
– Ну так что ж, – сказал он, смеясь, – всякий мужчина всего лишь выросший мальчишка. Ты знаешь, Лиза, какой у меня сегодня гость был? Ни за что не угадаешь. Сам Брюханов Тихон Иванович!
– Что ж, был, значит, был, – Елизавета Андреевна с любопытством взглянула на мужа. – Есть хочешь, Родион? Я тоже еще не ужинала, пойду разогрею.
– Поужинать всегда приятно, особенно с любимой женщиной. – Анисимов щелкнул замком большого кожаного портфеля, достал из него несколько свертков, колбасу, сыр и хлеб, затем, поколебавшись, вынул бутылку водки, покосился на жену. – Сегодня такой случай, нельзя не отметить, – сказал он, опережая ее возражения. – Не всякий день наносит нам визит высокое начальство.
– Вот-вот, главное – желание, предлог всегда сыщется, – Елизавета Андреевна скользнула мимо мужа прозрачными, отчужденными глазами, морщась от его ненатурального взвинченного тона.
Анисимов двинулся следом за ней на кухню, растопил плиту, и когда пламя над сухими дровами занялось, остался сидеть на корточках, грея лицо и руки.
– О чем же вы говорили с Брюхановым? – спросила Елизавета Андреевна, накрывая на стол и раскладывая приборы; она не любила садиться за стол кое-как и сердилась, если муж в ее отсутствие позволял себе небрежность. По одной ей заметным признакам она видела, что муж встревожен и озадачен неожиданным приходом Брюханова, и накрывала стол особенно тщательно, давая мужу время отойти, собраться с мыслями и несколько успокоиться. Она даже принесла и положила праздничные тонкие салфетки.
– Понимаешь, Лиза; разговор шел о Захаре Дерюгине и о наших с ним отношениях. – Анисимов оторвался наконец от огня, отстегнул часы и положил их на этажерку. – Разумеется, Брюханов – штучка тонкая, говорили о том о сем, но цель, ради которой он пришел, яснее ясного. Ему, видите ли, захотелось понять, отчего у меня с Дерюгиным не сложились отношения. А что я мог сказать? Я знаю не больше, чем кто-нибудь другой, – улыбнулся Анисимов, желая поддразнить жену. – Правда, ты нравилась Захару, но он, конечно, на успех не надеялся, вот и злился, а переносил все на меня. Может быть и такая версия.
– Ты так и объяснил Брюханову?
– Ну, Лиза, за кого ты меня принимаешь? Я допускаю подобный ход, и только! Я не так прост, как тебе кажется.
– Мой руки и садись за стол, – сдержанно попросила Елизавета Андреевна, в голосе ее прозвучало облегчение.
Анисимов прошел за перегородку, и Елизавета Андреевна, слушая его плескание и пофыркивание, обдумывала услышанное, в то же время не переставая делать свое дело: поставила на огонь чайник, заварила свежий чай, разогрела баранину, выложила из стеклянной банки в салатницу розовые соленые помидоры. То, что сказал ей муж, было, как всегда, ложью, и оба знали, что это ложь, но все их прошлое было ложью и не имело теперь никакого значения, ничто в ее жизни теперь не имело значения; она хотела только одного, чтобы ее оставили в покое, не трогали; у нее было свое место в жизни, любимая профессия, а до остального ей дела нет. Прошлое мужа было тесно связано с нею, и она не могла отряхнуться и уйти навсегда, в ее судьбу намертво вплелась другая судьба; для того чтобы разорвать раз и навсегда, она была слишком безвольна, инертна. Она давно уже жила только на дозволенной части негласно разграниченного между ними поля и, когда муж нарушал эту зыбкую границу, страдала. Они проросли друг в друга, и муж (она это знала) не мог без нее, она была частью его прежней жизни и даже в своей слабости и беспомощности оставалась ему единственной опорой, не давала окончательно опуститься. Он по-прежнему жил ожиданием перемен, она больше не верила ни в какие перемены и не хотела никаких перемен, она перестала верить в них именно после случая с Захаром Дерюгиным; объяснить этого она не умела, но всякий раз, когда муж пытался сломить призрачное разграничение в их жизни, становилась непримиримой, и теперь, едва дождавшись, когда муж сядет за стол, перехватила его руку, потянувшуюся за бутылкой, отвела в сторону.
– Подожди, пожалуйста, Родион. Ну, прошу тебя.
– Лизонька, почему? Есть хочу, можно немного выпить трудовому человеку, простому советскому служащему?
– Зачем ты все время фиглярничаешь, Родион? – Елизавета Андреевна смотрела, как он налил в стакан, выпил и стал закусывать, аккуратно разрезав на тарелке помидор па четыре дольки. – Зачем ты лжешь, Родион, даже самому себе, тебя ведь никто не слышит. Ты все время лжешь, но у тебя завидная память. Зачем ты это делаешь, Родион? Ведь не я причина ваших расхождений с Захаром Дерюгиным. Занеси нас судьба в любое другое место, и там нашелся бы свой Захар. Ты никак не поймешь – это масса. Захар Дерюгин здесь ни при чем, одни он ничего бы не значил. Твой опыт не удался, Родион.
Анисимов еще раз молча выпил и продолжал так же методично, со вкусом есть, зная, что своим спокойствием бесит жену, она с трудом сдерживалась.
– Лиза, Лиза, перестань, – миролюбиво притронулся он к ее руке, ему не хотелось ссоры – Ты не права. Посмотри, что кругом делается, мы-то не должны обманываться всей этой патриотической шумихой! На той неделе, говорят, на строительстве завода у нас тут под Зежском кое-кого взяли. На собрании объявили врагами народа, и поминай как звали. Вроде бы даже начальника строительства прихватили, да вот я слышал сегодня, что он просто в Москву по делам укатил… Черт сам не разберет. Времени у них не хватает, вот в чем загвоздка, а коровку-то надо доить равномерно, не рвать все с выменем. Подумай-ка, сейчас все, у кого ликвидирована неграмотность, кстати, твоя капля тоже в этом есть, – он сощурил глаза, – взялись каждый на свой лад строить прожекты, как скорее к всеобщему процветанию подступиться. А кроме процветания и равенства, кусáть еще каждому нужно. Да пожирнее, послаще. Вот иной в чрезмерном усердии и доносик сочинит.
– И ты в том числе…
– Лиза! – укоризненно остановил ее Анисимов. – Хотя почему бы не подлить масла в огонек? Интересно ведь…
– Оттого, что я буду молчать, действительность не изменится, а логика жизни приведет тебя к их правде, Родион. Мне больно, силы твоего ума, интеллект уходят впустую. До каких же пор так, вслепую… Я ведь часто замечаю: прячешь что-то, прячешь… Как только я войду, прячешь.
– Это могут быть и любовные письма, – попытался отшутиться Анисимов, стараясь не глядеть на жену и стискивая за спиной вздрагивающие пальцы. – А если бы и писал? – Он еле сдерживался, чтобы не сорваться в крик. – Время такое, ты не напишешь, на тебя напишут, оглянуться не дадут, щелк… и там, за решеткой… Ну что ты? Не надо, – сразу обмяк он, увидев, что Елизавета Андреевна плачет с неподвижным лицом, комкая в руках батистовый платочек. – Я просто привязываю тебя к себе, Лиза, – сказал он тихо, не решаясь прикоснуться к ней. – Не хочу, не могу остаться один. Ты все время отдаляешься от меня, а я не могу с этим примириться, и какая же это ложь? Ложь во спасение того, во что веришь? Ты следишь за газетами и знаешь, что творится в мире, все выше и выше захлестывает, я иногда ночью подхвачусь и чувствую: уже над головой этот вал стоит, вот-вот рухнет. Вот об этом подумай, Лиза, тогда и для тебя все на свои места встанет. Все эти беспосадочные перелеты да всякие там троцкисты от страха придуманы. Борьба есть борьба.
– Они борются, а ты просто двуличный человек. Нет, пустые надежды, Родион. – Елизавета Андреевна отодвинула от себя тарелку, к которой не притронулась. – Какой там вал… Больше всего на свете мне покоя хочется, неужели тебе не надоело? Вспомню весь ужас, кровь на мостовых, мертвых, холерные карантины, – как же ты не понимаешь, Родион, что этого больше нельзя! Каждому поколению – своя мера страданий, и наше с тобой давно превысило допустимые нормы. И потом, это наша земля, отсюда мы вышли, какая бы ни была у нас судьба, мы должны пройти ее вместе с Россией, другой ведь нет и не будет. У меня сегодня трудный день был, Родион, ты прости, я пораньше лягу… Пожалуйста, убери со стола сам.
Елизавета Андреевна коснулась губами его затылка и затворила за собой дверь, он не стал ее удерживать и все так же сидел, тяжело положив руки на стол; он понимал ее, и прощал, и по-своему любил; ему доставляло какое-то тайное наслаждение говорить ей все, в чем он должен был таиться от посторонних, в этих откровенных разговорах приходило недолгое успокоение. Но не на этот раз; он еще выпил, сейчас она раздевается и ложится, и расчесывает свои густые волосы в свете ночника, и хорошо было бы пойти и лечь с нею, и забыться, ни о чем больше не думать, но время шло, а он все сидел, не меняя позы. Встревоженность от разговора с Брюхановым не проходила, и в голове, отяжелевшей от водки, стоял легкий шум; он заметил его появление впервые года три назад, рановато, конечно, впрочем, все равно, он теперь привык и не обращал внимания.
Тишина становилась глуше, домик стоял в глубине двора, зараставшего летом у заборов лопухами, а зимой после каждого снега приходилось расчищать дорожки до калитки и сарайчика с дровами, он любил эту веселую, бездумную работу. Скоро уже начнется настоящая зима, повалит снег, говорят, снежная будет зима, старики по каким-то своим приметам предсказывают.
Рядом, в небольшой зимней пристройке, служившей для хранения всяких хозяйственных запасов, что-то сильно загрохотало, заставив Анисимова вздрогнуть и выругаться. Он вспомнил о крысах и, толчком распахнув дверь в пристройку, зажег свет; несколько расплывчатых теней мелькнуло в углах и молниеносно исчезло, но он сразу заметил, что в привязанной крысоловке в дальнем углу есть добыча. Остромордый противный зверек с длинным голым хвостом яростно грыз железные прутья и бился о них, крыса попалась только что и металась по клетке в бешенстве, и Анисимов, закрыв дверь на кухню, подошел к ней, присел на корточки, рассматривая. Это была матерая, жирная тварь; несколько раз она слепо бросилась в сторону Анисимова, сотрясая свою тяжелую западню, и от ее бессильной ярости Анисимова захватило какое-то странное болезненное чувство; это была всего лишь крыса, но она металась и билась яростно и сильно, и морда была у нее в крови, один острый, как сапожный гвоздь, зуб сломан. Анисимов принес жестяную байку с керосином, сверху, не жалея, облил крысу, стараясь не попасть ей на голову, и, чиркнув спичкой, осторожно поднес огонь к полу крысоловки, к потекшей струйке керосина, оглядевшись по сторонам и убрав все легко воспламеняющееся. Огонь охватил крысу сразу, и Анисимов быстро распахнул дверку клетки, визжащая крыса метнулась вон прямо в ноги ему, и он невольно весь сжался, когда в ботинки ему шлепнулся огненный ком, но клубок рассыпавшегося огня уже мелькал где-то в дальнем углу, затем пропал в какой-то дыре, и только в щелях деревянного пола то тут, то там просвечивал неверный свет и, наконец, совсем исчез где-то под домом.
Анисимов, стараясь ни до чего не касаться, прошел на кухню, в столовую, просматривая щели пола, но слышал лишь глухое, быстрое движение; вскоре и оно затихло.
Елизавета Андреевна спала; Анисимов вернулся на кухню и долго, с отвращением мыл руки, тер их мылом и щеткой, обливал одеколоном и опять принимался тереть, и в течение нескольких дней у него держалось ощущение чего-то нечистого, гадкого на руках, хотя крысы с тех пор действительно совсем исчезли из дома и больше не пугали Елизавету Андреевну. Она обрадованно рассказала об этом мужу; несколько дней в доме держался неприятный запах, несмотря на открытые форточки; Елизавета Андреевна болезненно морщилась и чаще обычного мыла полы; глядя на нее, Анисимов улыбался; все таки он любил эту нерешительную, мягкую женщину, с ней ему было хорошо.
10Захар Дерюгин ставил новый дом, и все Густищи, привыкнув и обсудив досконально весь его поворот в жизни с Маней, а следовательно, потеряв к этому интерес, теперь говорили о том, что мужик, слава богу, перебесился, взялся за ум, а то, что он стал строиться, уже не будучи председателем колхоза, вызывало к нему и к его делу доброе отношение всего села, и не было никаких завистливых и недоброжелательных толков и пересудов. Когда его сняли с должности председателя колхоза, неожиданно открылось, что, несмотря на молодость, он успел завоевать на селе уважение у многих, и почти все в Густищах считали, что сняли его с председателей незаконно, и нет-нет да и велся об этом разговор на бревнах у сельсовета, и, пожалуй, именно сам Захар теперь меньше всего вспоминал о том, что был когда-то председателем. Он как-то естественно, хотя и далеко не просто, особенно после разрыва с Маней, вернулся к тому извечному, чем занимались его дед и отец и он сам.
Вместе с другими он выходил пахать или сеять, косить, метать стога или складывать скирды, но больше всего он любил работать на молотилке, толкать в ее железную грохочущую пасть снопы, которые с двух сторон подсовывали ему, перерезая перевязь серпами, две помощницы, – это была тяжелая и веселая работа, в жару сухая рожь или пшеница легче вымолачивались. По всему телу стекали струйки пота, и Захар часто сходил вниз, поручив дело помощницам, и жадно, подолгу пил прямо из ведра, с удовольствием выплескивая воду себе на горячую грудь; бабы не успевали, и полупустая молотилка начинала звонко гудеть; Захар спешил на свое место, и его высокая, полусогнутая фигура опять маячила у ревущего барабана, и только лопатки под мокрой рубахой неустанно размеренно шевелились.
Он работал споро, с веселой злинкой к себе и к другим, одинаково хорошо работал всюду, куда его ни посылали, но с тех самых пор, как его сняли с председателей, он почти не ходил на собрания, а если приходил, то позубоскалить с мужиками о разных житейских разностях; словно раз и навсегда он перестал интересоваться общественными делами, как напрочь отсек топором. Первое время, особенно когда Куликов о чем-либо спрашивал, советуясь, и звал его на правление, Захар разводил руками, отнекивался, отделывался каким-нибудь предлогом или шуточкой, и его постепенно оставили в покое.
Нельзя сказать, чтобы все эти процессы протекали легко и гладко для самого Захара; жена его Ефросинья, тоже начавшая потихоньку привыкать к последним переменам в муже, замечала, что с ним случались какие-то внезапные и быстро проходящие приступы злобы и раздражительности, он кричал на детей или неделями не замечал их, и дети это чувствовали и не подходили к нему, и только на приемыша Егорку почему-то не распространялась Захарова тоска. Именно в эти минуты Захар брал Егорку к себе на колени и с лаской вслушивался в лопотание черноголового шаловливого мальчугана. Пожалуй, одна Ефросинья угадывала своим бабьим сердцем состояние Захара, но молчала, хотя ей и хотелось подчас приступить к нему и облегчить свою застарелую боль воем и криком, и только бабка Авдотья, по праву матери, не стеснялась в такое время в обращении с Захаром.
Она гнала его работать по хозяйству, привезти дров или почистить в хлеву; бабка Авдотья ревновала приемыша Егорку из-за родных внуков, в моменты глухой отцовской тоски старавшихся не показываться ему на глаза и исчезавших из хаты в теплое время года или жавшихся по углам в зимние холода, когда одежи и обувки на всех не хватало и волей-неволей приходилось отсиживаться дома. Всякий раз, увидев Захара с Егоркой на коленях, бабка Авдотья отыскивала какие-нибудь несуществующие заботы, разговаривая громко и ворчливо, и у нее сразу находилось множество дел, и она звала старших внуков Ивана и Аленку, заставляла тут же посреди избы Ивана драть лучину на растопку, а Алену чесать лен, приставала к молчаливой Ефросинье, попрекая ее ведерными чугунами, которые приходилось ворочать и толкать в печь, а затем подступала к сыну, сидевшему где-нибудь на лавке с Егоркой.
– Ну, а ты что, сыночек, сидишь? – спрашивала она тихо и ласково. – Что ж, неможется, так я травки отварю, у тебя какая хворь подступила, а, сыночек?
– Отвяжись, старая, ну чего тебе надо? Здоров я, – хмуро отзывался Захар, тоскливо косился на двери, оглядывая свое многочисленное семейство. – Посидеть минуты не дадут, неймется тебе, мать…
Бабка Авдотья умолкала на минуту, но лишь для того, чтобы зайти с другого бока и придумать что нибудь еще позанозистее.
– Дед Макар-то, сосед наш, – говорила она, – с утра нынче полозья на салазки парит да гнет. Малец этот, Илюшка, с ним, кругом вертится. Лукерья кричала через плетень, в базар торговать поедут, салазки-то хорошо идут. Ты бы, Захар, тоже приловчился, а то вон у Аленки верхняя одежа совсем проносилась, в школу-то стыдно бегать, тринадцатый год девке. Экий ты неловкий родитель! Да и Ивану обувку какую надо, другие давно лапти не носят, а он все в лаптях да в лаптях, стыдно ему, поди, перед другими.
Захар угрюмо молчал, и бабка Авдотья притворно вздыхала.
– Не хотел хорошей жизни на председательстве, сынок, теперь и посмирнее-то надо быть перед людьми да перед собой, можно и травкой постелиться, ничего, от поклона не переломишься. – Бабка Авдотья шла все дальше и становилась безжалостнее. – Поклониться для дела не грех, хата вот валится, гляди, угол над печкой совсем просел, а на потолок и лезть страшно, того и гляди задавит. Сходил бы в сельсовет, к Михею, попросил бы лесу – кум он тебе, гляди, и не откажет, слава богу, теперь не этот городской бес сидит (старуха имела в виду Анисимова), сам мужик, нашу мужицкую голь-нужду и поймет. Кулик, председатель, на той неделе встретился, сам о том разговор завел – строиться вам, говорит, бабка Авдотья, надо, пусть бы Захар зашел потолковать.
Захао молча снимал Егорку с колен, легонько отталкивал его от себя и, захватив топор, уходил во двор; ему становилось не по себе от разговоров матери, тем более что ничего ей нельзя возразить, права была старуха: и дети хуже других на селе ходили, светили латками да дырами, штаны передавались от одного к другому, от самого Захара к Ивану, затем укорачивались на младших, и под конец уже не было на них живого места, да и хату надо было ставить. Каждую зиму, несмотря на защиту из кулей соломы, которыми он плотно обкладывал ветхие, глухие стены, ветер гулял по избе, и дети непрерывно кашляли, и то и дело приходилось таскать их к фельдшеру, особенно слабосильного Николая; Захар затравленно шатался по двору, отыскивая себе дело, и уже совсем звериная тоска охватывала его.
А с полгода назад, в марте, когда уже к полудню появились у крыльца лужи и куры дружно пили из них, Захар, после очередного, особенно въедливого разговора с матерью, потому что картошка в погребе, главная еда в семье, кончилась, а он все отказывался идти к Куликову просить помощи, выскочил во двор, в слепой ярости, ударил несколько раз тяжелым кулаком в угол избы и увидел, что торец бревна на глазах разъехался и выпал истлевшими, источенными червем кусками; он поглядел на них в недоумении, втоптал в грязный снег и заскочил в сарай, где за перегородкой шумно перетирала жвачку Белуха с обвисшим животом, принесшая уже двенадцать телят и готовившаяся к появлению очередного. Впервые беспросветное отчаяние охватило Захара, тяжкие и дрянные мысли шевелились и рвались в разгоряченной голове. «Да что же я, да в чем же я виноват? – думал он, притиснувшись лбом к суковатой решетке. – Можно было сдержаться тогда в райкоме, теперь знаю, надо было сдержаться, хоть язык прокусить, да смолчать; нечего с собой в жмурки играть, не в полный размах своих сил приходится жить, не сдержался тогда, теперь винить некого. Что ж теперь делать? И молчание бабы своей выносить больше не могу, не могу и Маню забыть, Илюшка больше всех остальных детей дорог, в сердце врос, а сыном не назовешь, только издали и увидишь». Он вспомнил, как с месяц назад, возвращаясь в воскресенье с крестин у Микиты Бобка (Ефросинья приболела, и он ходил к Бобку один), он не выдержал, среди ночи пробрался в сад Поливановых и долго, стыдясь себя, торчал под окнами той половины, где жила Маня, и наконец заявил о себе особым стуком в глухое окошко, выходившее в сад; долго стоял у задней двери на пронизывающем ветру, и когда за дверью послышался живой шорох и дверь приоткрылась, он проскользнул в темноту сеней, и тотчас руки его натолкнулись на теплые даже под шалью плечи Мани.
Она тихо отступила, затем вытеснила его из сеней.
– Уходи, Захар, – вздрагивающим, незнакомым голосом сказала она. – Что же мне теперь, и домой с завода из-за тебя не показываться? Чего ты за мной следишь, чего следишь? Я – слабая баба, – поддаться могу… А ты? Ты? Чего тебе надо, окаянный? Хочешь, чтоб я мот на себя накинула?
– Маня, брось, да ты что?
– Уходи, я тебя рядом вынесть не могу, опостылел, мне зарей назад, на завод надо. Дай дух перевести.
Он отступил назад, в темень, чувствуя, как глухо и сильно колотится сердце; хорошенько бы стукнуть бабу, чесались руки отчаянно. До этого он держался больше чем полгода, но теперь хорошо сделал, что пришел к ней, вот теперь-то и настал полный конец всему между ними.
Было время, и оба они, утомленные и счастливые, стояли над кроваткой спавшего сына, и Маня говорила и говорила, что она и без того самая счастливая на свете, говорила и плакала от радости, что рядом с ее сыном стоит его отец, с безграничной мужской властью над ней, над ее жизнью, и что ей больше ничего не надо, а то все в ее жизни рухнет и смешается. Вот так оно и случилось, подумалось ему, вот и угадай, отчего все так перепуталось и где чему начало и конец. Нету за ним больше никакой вины, а жить труднее и труднее; вернувшись в ту ночь к себе, он разделся и впервые за последний год лег к жене, с тру дом выдавив привычное «подвинься».
– Ты что, ты что? – спросила она испуганно, пытаясь в первые минуты освободиться от его рук, потом они лежали рядом молча, по-прежнему чужие и далекие друг другу.
Захар оторвался от решетки и, освобождаясь от воспоминаний, посветлевшими глазами поглядел на вздыхавшую от распиравшей ее изнутри новой жизни корову, затем со спокойной, звенящей тишиной внутри себя отыскал пеньковые вожжи в углу сарая, развязывая их, примерился к расстоянию от балки до земли; он помедлил, решая, хватит или нет, но для верности прикинул это расстояние каким-то обломком, подвернувшимся под руку, и опять убедился, что хватит! Он делал все размеренно и спокойно. Принес со двора обрубок, на котором он сам и Иван рубили дрова, установил его под балкой торчком, затем внимательно осмотрел веревку. Веревка была поношенная, и он, сильно подергав, постепенно разматывая ее, убедился в ее крепости. Он уже хотел перекинуть ее через балку и завязать и в этот момент услышал легкий, осторожный скрип двери сзади; он подумал, что ее шевельнул ветер, но тут же резко оглянулся; в просвете двери перед ним стоял его старший сын Иван, длинный, тонкий, уже дотягивался до его плеча (Ивану в то время шел двенадцатый год), и Захар почему-то сначала увидел его ноги, лапти, дерюжки, длинные ноги мальчика, и только потом его лицо, темные длинные брови, пухлый рот, но где-то именно в этих губах и у глаз зрела, проступала мужская жесткость и сила.
– Что тебе? – зло крикнул Захар, чувствуя в затылке мучительно подступивший нестерпимый зуд.
– Поговорить хотел с тобой, батя, – сказал Иван, глядя ясно и прямо; он вошел в сарай, оставив дверь приоткрытой, и в эту узкую полоску рвалось мартовское солнце, Захару больно было смотреть в ту сторону.
– Говори, раз приспичило, – напряженно согласился Захар, присаживаясь на чурбак и не спуская с сына ищущего взгляда, и глаза у него были непривычными и пустыми. – О чем ты говорить-то хочешь? Может, мать заставила? – спросил Захар с той, иногда бездумной жестокостью взрослого, которая приоткрывается в тяжелые моменты от пропущенной и неожиданно заявившей о себе жизни; Захар словно в первый раз увидел зардевшееся лицо сына, уловил его робкое, вынужденное движение к себе и сам смутился; подумал, что совсем не знает парня, не знает, как он растет, и что думает, и чем занимается, и о чем хочет говорить с ним, и новая волна хлынула в него, расталкивая ту ледяную стену, что встала вначале между ним и сыном.
– Нет, мамаша не просила, – сказал Иван по-взрослому, тихо и спокойно, и по-прежнему почему то продолжая глядеть на веревку, которую отец машинально комкал в руках. – Я вот о чем, батя… Петька Бобок в городе в воскресенье был, его отец взял, говорит, что объявление на заборе читал, в четыре военных училища в Холмске ребят берут. Мне недолго осталось…
– Подожди, подожди, как это – недолго. Ну что ж, давай поговорим, – отозвался Захар, со смутным волнением и интересом присматриваясь к сыну и замечая в нем все новое и новое, неизвестное для себя, и стараясь припомнить хоть что-нибудь из прошлого, что как-то связывало бы их, и не мог этого припомнить. Он подумал, что сын конечно же знает и о нем, и о его отношениях с Маней, в его годы и он обо всем таком уже знал, и наконец опустил глаза, засуетился, стал собирать веревку в кольцо, связал ее и отбросил в угол. – Хотел вот кое-что поправить тут, – неразборчиво пробормотал он, – ладно, найдется время… Строиться начнем с весны, – неожиданно хрипло от волнения сказал он, – завтра пойду в сельсовет, о лесе потолкую с Михалем… А что в училище куда… так что ж, это хорошая думка, давай, Ванька, давай расти… Да ты послушай, это же хорошо, в училище, а примут?
– Примут, Бобок говорит, с восьми классов объявлено, – сказал Иван, в свою очередь глядя на отца во все глаза и неосознанно жалея его сейчас за какую-то неизвестную слабость и суетливость. – Ты, батя, не думай ничего такого, я ведь так, я ничего, – неожиданно вырвалось у Ивана, и он мучительно ярко покраснел, потому что увидел неожиданно благодарные, какие-то светящиеся глаза отца, устремленные к нему в смятении.
– Ты о чем это, о чем? – пробормотал Захар и встал, сутулый и сильный, неловко затоптался на месте. – Ты о чем это, Иван?
– Да ни о чем, батя, я так, так, понимаешь, мне показалось… вроде ты как виноватый глядишь, а я ничего. |
– Ты это потом поймешь, Иван, – напряженно, как взрослому и равному, не опуская благодарных глаз с сына, сказал Захар, все время боясь, что сын отвернется, но Иван глядел смело, и пришел момент, когда все рухнуло и смешалось; Захар как-то косо, словно его душило, повел головой, задавил звериный всхлип, заплакал и затем, не стыдясь горячих слез, ползущих по заросшим щекам, помимо воли, шагнул к сыну, притянул его к себе и прижал во всю силу, и Иван, подняв к нему изумленное, надломленное лицо, тоже заплакал от какого-то прошедшего по всему его телу счастья и, стыдясь своих слез, не мог оторваться от отца, впервые на его памяти обхватившего его руками.
– К весне мы тебе как-нибудь сапоги соорудим, – сказал Захар, положив ладонь па лохматый затылок сына и больно прижимая его щекой к плечу, потому что он не хотел в этот момент, чтобы сын увидел его лицо. – Знаешь, такие жениховские, гармошкой, идешь по улице – поскрипывают…
– Лучше матери что-нибудь, – отозвался Иван глухо, со врослой рассудительностью. – Аленке надо, девка… А мне зачем сапоги-то, до училища дохожу, там в казенные обуют…
– Все будет, Иван, и им хватит, в этом году трудодень будет хорош, – сказал Захар Дерюгин хрипловато, в подъеме ожесточения и радости перед каким-то еще небывалым и еще не вполне ясным ему прозрением. – Ты на меня сейчас не гляди, у каждого слабина может подступить. А род наш, Иван, дубовый, в землю на версту кореньями прошел, главный корень пропадет – ничего, другие в свой черед ветвиться начнут, матереть. И так пока земля стоять будет, Иван, и все это во тьме, без громкого шума да голосу. Земля, Иван, великую силу имеет. Гордость свою под ноги никому не кидай, люди, они тоже разные, бывает кому сладко раздавить да на подошвах разнести, вот о чем всю свою жизнь помни, Иван! Нам бояться нечего. – Захар говорил, и слова к нему приходили какие-то дорогие и складные, и понимал он их сейчас сердцем, и хорошо и больно ему было, что рядом – сын, стоит, замер; пусть он всего не поймет, дело не в этом. – Тебе, сынок, еще топать да топать, шлях твой в зарождении. Встретится и такое дело, будешь любить его больше себя, никому чужому не давай в середку влезть… Друзья найдутся, сынок, души будешь не чаять в них, а при первом трудном деле они тебя легонько да незаметно не в ту сторону и толкнут… в грязь да в болото. Выбирай себе друзей не по выгоде, по сердцу выбирай, Иван! Враги будут у тебя, не жмурься, бей прямо, не жди, не ударишь первым, самому в провал лететь, сынок…
Захар отодвинул от себя сына, потому что мог теперь спокойно и прямо глядеть в лицо ему; пронзительный взгляд отца смутил Ивана, и он промолчал.
Они вышли из сарая, рыжее мартовское солнце понемногу топило старый, слежавшийся снег, наполняя глаза густым сияющим светом, и оба они, и отец и сын, почувствовали первое, тяжкое дыхание близкой весны.








