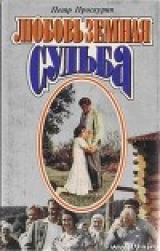
Текст книги "Судьба"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 61 страниц)
– Встань, Маня, – попросил он тихо, и она, подчиняясь этой тишине в его голосе, поднялась с колен, и в тот же миг оба они увидели, что к ним наискосок через улицу бегут две тонкие фигурки; Маня тотчас признала старших детей Захара, Ивана и Аленку; они набежали на Захара с Маней, и Маня от неожиданности отшатнулась назад. Не увидев, скорее почувствовав в толпе застывшее лицо Ефросиньи, Маня молча, не говоря ни слова, с бледным, решительным лицом и все с теми же отблесками только что пережитого безумного счастья самоотречения (она не могла знать или думать об этом, просто испытывала какое-то чувство обессиливающей радости за свой поступок, и ей хотелось плакать), отодвинулась от Захара и ушла; люди молча расступились перед нею, и Ефросинья, провожая ее глазами и видя только ее, тоже поняла Маню, и поняла, что проиграла окончательно. Ей хотелось кинуться к Мане, вцепиться ей в волосы, хоть один раз выместить на ней все обиды, пусть бы набежали люди, стали бы их растаскивать; ей хотелось биться в чужих сильных руках и так же, как Маня несколько минут назад, всенародно, на всю деревню каяться и признаваться в своей проклятой слепой бабьей любви к Захару, что-то кричать и кому-то грозить, но рядом были дети. И Захар косо, вторым зрением видел лицо Аленки, своей дочери, лицо, на котором в полудетской гримасе смешались страх, стыд, отвращение и жадное любопытство; и это оказалось лишней каплей, хлынуло через край; он облегченно вздохнул и рухнул в темень, податливо и готовно расступившуюся перед ним.
Маня, разбитая и оглушенная случившимся, никуда не выходила и весь день пролежала на своей половине лицом вниз в полубеспамятстве. Заглядывала Лукерья, бестолково совалась из угла в угол; робко просовывал в дверь голову Илюша; у нее недоставало сил поглядеть на него и успокоить; лежа без движения, она и сама не замечала, как все больше обретает единственно возможное и правильное решение, а когда ясно осознала и осмыслила это обретение, подумала, что дальше ей нечем будет жить и теперь она мертвец, без тепла и радости в сердце.
К вечеру, не выдержав, Лукерья, повертевшись и повздыхав у большого, красиво окованного медным узорочьем сундука с Маминым приданым, так и лежавшим без толку, остановилась над дочкой, заплакала.
– Господи, непутевая, – запричитала она в отчаянье. – За какие грехи свалилась ты на мою головушку. Стыдобушка, на люди не выйдешь… к чужому мужику выскочила всему селу на дивованье… Счас же подымайся, – потребовала Лукерья, меняя и голос, и выражение лица. – Пожри встань, в гроб себя вколотить хочешь? Ребенка на кого оставишь, кому он, круглая сирота, нужен? Дед с бабкой не век протянут…
Маня слушала мать, не находя силы шелохнуться; долго сдерживаемая, потаенная сила прорвалась в ней сегодня помимо ее воли и желания; при виде бредущего одиноко по селу Захара, отъединенного от всего мира какой-то особой силой, она забыла все на свете – стыд, суд людей; любимый, единственно родной человек на глазах уходил, не останови, и он уже никогда не вернется; она бросилась ему навстречу, спасая единственное свое горькое счастье в жизни. Она не думала ни о чем, она спасала его и одним отчаянным усилием разрубила все установившиеся на селе законы и обычаи. Мать говорила о людях – она же больше не боялась их, она могла встать и пойти по селу с тем же вызовом, как утром шел Захар, она уже это сделала, и теперь ей нужно было побыть одной, и она лишь стискивала зубы и молчала в ответ на увещевания матери.
Вечером, в сумерках, к отцу пришел Кирьян, воровски проскользнул в избу; Лукерья как раз собирала на стол, дед Макар возился с Илюшей, а сам хозяин, ожидая ужина, сидел под окнами в непривычном для него сумрачном бездействии. Увидев старшего сына, Лукерья засуетилась еще больше.
– Садись, садись, Кирьян, – сказала она сыну. – Вечерять будем, а то ты и дорогу в батькин дом забыл.
– Работа, продохнуть неколи, – сказал Кирьян, здороваясь с отцом, затем с дедом Макаром и осторожно, словно опасаясь повредить лавку, присаживаясь наискось от стола. – Вишь какое диво вышло, кто-то, видать, по старой злобе бывшего председателя причастил.
Встретив зоркий, враждебный взгляд отца, Кирьян перекинул глаза на деда Макара; тот собирался что-то сказать. Поливанов перебил его.
– Где Митрей? – тяжело спросил он, ощупывая взглядом плотную, заматеревшую фигуру сына, и тот под отцовским взглядом постарался усесться посвободнее, развернул плечи.
– Не знаю, – сказал он в деланном простодушии. – Митрей сказывал вчерась, у бригадира отпросился в Бродни сходить, к Калику. Дела у него какие-то объявились…
– Значит, дела, – в легкой раздумчивости, как бы сам с собой проговорил Поливанов. – Хорошо, коли дела. Калик – мужик с головой, присоветует по-хозяйски.
Лукерья стала опасливо ставить миски с жирными, перетомившимися щами на стол, и в это время, пугая деда Макара с Илюшей и Лукерью, Поливанов увесисто грохнул по тяжелому столу кулаком; в миске заплескалось.
– Дурьи головы! – хрипло взревел Поливанов, тряся перед собой отшибленной рукой. – Сколько раз вам говорено не трогать Захара! Кровь наша с ейной смешалась, теперь не расцепишь! – Поливанов сверкнул глазами на Илюшу; тот, спрятавшись за деда Макара, зажмурился от громового голоса, а Поливанов, вскочив, едва не опрокинув стол, закрутился по избе, затем выхватил из ступы в углу толкач и хрястнул им по деревянной бадье с водой у порога; та распалась враз, разлетелась на клепки, и на полу широкой лужей потекла вода.
– Ахти мне! – жалобно охнула Лукерья, волчком кружась вокруг мужа и не решаясь подсунуться ближе. – Батюшко, батюшко! – крестила она его издали. – С нами крестная сила! Батюшко! Хату развалишь, батюшко!
– Да ты что, батя! – подал наконец голос и Кирьян. – Нехристи мы или как? Неужто на нас подумал?
– Цыц, дурак! – проревел Поливанов, тыча дубовым вековым толкачом в трещавшие под ударами доски потолка. – Своего ума не нажил, у других бы пришел подзанять! Сестру опозорил на весь свет, отца!
Дед Макар, бесстрашно семеня через всю хату, приблизился к нему, взял толкач, и Поливанов непонимающе уставился сверху вниз в сухое лицо старика, словно впервые увидел его.
– Ты, Акимка, не того! – строго сказал дед Макар. – Не сигай козлом. А ну, пусти, нехристь, – дернул он толкач к себе, и Поливанов неожиданно легко выпустил из рук свое увесистое оружие; дед Макар пошел и поставил толкач назад в ступу; Поливанов медленно повернулся, увидел в дверях Маню, вернее, он различил в первый момент белое пятно ее лица с неподвижными глазами и, чувствуя начало самого неприятного и тяжелого, решил немедля притушить готовый вспыхнуть взрыв, повернулся к Лукерье:
– Чего взъерошилась, ворона? Век прожила, а все у тебя бьется да валится. Подбирай свои черепки, давай вечерять, ночь на дворе!
– Господи, да я что ж, – изумленно охнула Лукерья, бросаясь наводить порядок в избе. – Садись, батюшко, счас, счас, – говорила она, подбирая тряпкой воду с пола. – С кем не бывает, грохнулось и рассыпалось… руки уж не держут, заморилась на работе… новую купим в городе, эта давно течь начала… Все недосуг, сказать хотела…
Медленно, не обращая внимания на мать, Маня прошла мимо отца и деда Макара; Кирьян, сжимаясь под ее взглядом, словно становился меньше и, когда Маня оказалась у самого стола, рядом с ним, с трудом удержал себя на месте, и в его глазах зажглась ответная ненависть.
– Выбрали, значит, свой час, братики, – сказала Маня, трудно и медленно шевеля губами. – За что ж вы его, душегубцы, он же вам теперь по крови родня…
Не выдержав ее тихой, бесконечной всплывшей боли, Кирьян вскочил на ноги и, подавшись вперед, почти застонал от застарелой, густой, как деготь, злобы.
– Молчать бы тебе, срам свой от людей подальше хоронить, а ты как божья матерь выставилась! Глядите! Вон какая у Поливановых! Не отстанет твой кобелина, до конца забьем, вот те крест свят! – Кирьян неумело обмахнул широкую, мослатую грудь крестом, пытаясь в то же время подчинить себе, соответственно моменту, передергивающееся лицо.
– Что ж он тебе, Кирьян, в горле поперек стал? – спросила Маня, из последних сил сдерживая ворочавшуюся, разрывающую ее изнутри беду; она еще помнила, что где-то здесь рядом мог быть Илюша, мог слышать и видеть все происходящее, но тупая, темная злоба, вставшая перед нею в лице брата, вскоре стерла и эту последнюю грань.
– Забьешь, Кирька? А помнишь, как ты меня спьяну на пасху лапал, еле отбилась? Может, ты за это забьешь, Кирька? Али в шутку было? Погляди матери с отцом в глаза, а на меня нечего белки пучить! – почти кричала она вздрагивающим от избытка стремительной силы голосом, – Знай, антихрист косоротый, – она увидела, как брат побелел от детского прозвища «антихрист косоротый», и мстительная радость захлестнула ее, – тут и моему родству с тобой да с Митреем конец. Сама на плаху пойду и вам головы порублю. Я вам говорила: не троньте меня с Захаром! Давно подбирались! Дождались разбойного часа, прозвонил! А какой ты мне брат? Какой? – бросала она Кирьяну наболевшие давно и теперь словно сами собой рождавшиеся слова. – Не брат ты мне, раз судьбу мою до конца изувечить решил. Так вот знай, плетью обуха не перешибешь, а судьбу руками не разведешь! Ладно, Кирьян! Ты на кровь пошел, и я ни на что не погляжу! – Маня стремительно отступила от онемевшего Кирьяна, легко поклонилась ему в пояс и бросилась к дверям; здесь ее, растопырившись и расставив руки, с решительным и грозным лицом встретила Лукерья.
– Пусти, маменька! – прошипела Маня, намереваясь хоть силой прорваться в дверь.
Лукерья стояла не шевелясь, охваченная тем редким приступом гнева, когда и сам глава семьи смирялся и благоразумно отходил от нее. Но именно в этот момент со стороны было особенно ясно видно, насколько схожи мать с дочерью, схожи той, обычно неприметной, силой характера; Лукерья стояла медведицей у потревоженного гнезда, заслонив собой двери; она не знала, что будет дальше делать, но чувство беды, грозившей в один момент разметать и уничтожить ее привычный и налаженный мир, привело ее в редкостное состояние решимости: она была готова хотя бы и своим телом загасить вспыхнувший пожар.
– Куда это ты сбираешься, доченька, стерва бусурманская? – спросила она у тяжело дышавшей Мани, протягивая к ней руки и этим неловким жестом как бы приглашая к примирению; Маня не приняла ни ее рук, ни голоса.
– В город! В милицию! – кричала она. – Я вас на весь свет ославлю, а этих бандюг, – она метнулась лицом на Кирьяна, – за решетку. Нету такого закону – человека убивать по злобе! Пусть власть разберется! Пусти меня, старая, ты свое отлюбила, мне поперек дороги не становись!
В избе, казалось, была одна Маня, звучал один ее голос; дед Макар ничего не мог понять, сам Поливанов в неподдельном изумлении, словно видел впервые, глядел на жену с дочерью, и так как вмешаться в их поединок не было возможности, он молчал, чувствуя тягостное, ненужное присутствие старшего сына все большим злом; он уважал Захара; даже по-родственному привык к нему через внука, и случившееся никак не вязалось в его представлении с пользой. Раз сам черт связал, богу не рассудить; именно эта в некоторой степени житейски мудрая мысль удерживала его в отношении дочери в спасительном равновесии, и самовольное вмешательство сыновей, Кирьяна и Митрея, было никак не на пользу и хозяйству, и дому, и фамилии. По новым временам он ничего не мог сделать сыну, разве попытаться побить его; трезвый Кирьян бы стерпел от отца, а так тоже бугай, враз его не пришибешь. Пока эти и множество других мыслей мелькали и путались в возбужденном, разгоряченном мозгу Поливанова, Маня попыталась прорваться мимо матери; Лукерья, обхватив ее короткими сильными руками за плечи, не подалась, и Поливанов, совсем не к месту, увидел кипящий тарарам в избе совершенно иными, чем до сих пор, глазами. Эк их разбирают черти, думал он, оглядывая перекошенные, злые лица близких; по своему полувековому опыту он знал, что все людские дела и страсти – тлен, все проходит – ненасытность в бабе, богатство, красота, сила; вроде бы без всякой на то причины ему захотелось захлопать себя ладонями по ляжкам, не может быть, чтобы все его домашние посходили с ума, и даже дед Макар, проявляя признаки возбуждения, время от времени начинал звать сноху, выкрикивать резко и неприятно одно и то же: «Лукерья! Лукерья! Подь сюда, оглашенная!» Но Лукерья не обращала на него внимания, напуганная дочерью, она не слышала голоса свекра; глаза у Мани лихорадочно горели, голос рвался; она пошла было напролом, но не нашла в себе решимости оттолкнуть мать.
– Руки на себя наложу, проклятые! – почти бессознательно выкрикивала она. – Все одно перед людьми ославлю! Мне теперь одна дорога – в петлю! А вы живите! Живите!
– Аким! – закричала в испуге Лукерья, напрасно пытаясь удержать сползавшую по стене на пол дочь. – Не стой гнилым пнем, беги за фельдшером. Ахти мне! Маня, доченька! Доченька! – кричала она, в то же время с трудом удерживая безжизненно обвисавшую в ее руках Маню.
– Давай сбегаю, – вызвался Кирьян, до сих пор державшийся незаметно и теперь запоздало и смутно пожалевший о случившемся; он больше всего хотел сейчас как-нибудь скрыться; увидев его перед собой и словно вспомнив о нем, Поливанов опять пришел в неистовство, затопал, и со стороны казалось, что он нечаянно ступил на горячее железо босыми подошвами.
– Вон! – выдохнул он в сладком упоении, растягивая и срывая голос, так, что конца слов нельзя было разобрать. – Во-он, бандитская рожа! Ноги твоей чтоб не было тут! Духу твово не хочу слышать!
– Очумел старый, – пятился от него Кирьян и, когда до двери оставалось немного, выкрикнул: – Сбесились вы тут все от этой…
Еще не слыша, но угадав, что Кирьян скажет что-то постыдное и скверное, заглушая его, Поливанов рванул за жирный край с загнетки чугун-ведерник, наполовину с горячими щами, и, размахнувшись, ахнул им, целясь в Кирьяна. Кирьян успел шмыгнуть в дверь, и чугун, с глухим кряканьем угодив в косяк, расселся; Поливанов затряс обожженной рукой, ворочая глазами; Лукерья, испуганно прикрыв лицо, в то же время инстинктивно защищала собой полусидевшую на полу Маню; все услышали опрокинувшуюся и как-то в один момент устоявшуюся тишину. Словно черный вихрь наскочил, потряс до основ избу Поливановых и умчался бесследно, оставляя за собой оглушенных людей, ребристый остов крыши, провалы рам с торчавшими кое-где осколками стекол – и тишину.
Маня и очнулась от этой черной, глубокой тишины, знакомый, волнующий голос звенел над ней, и она всей душой потянулась, еще слепая, на этот голос; с трудом приоткрыв глаза, различила над собой мокрые, испуганные глазенки Илюшки, увидела его прыгающие в плаче губы.
– Мамань! Мамань! – теребил ее Илюша, неловко отталкивая от себя руки Лукерьи, пытавшейся оттащить его от матери, и по-детски беспомощно размазывая слезы по лицу; тугой огненный жгут перекрутил сердце Мани, оно словно остановилось от ослепительно счастливой боли за эту рвущуюся к ней и зависимую только от нее во всем жизнь, доставшуюся в такой муке. Ее охватило чувство стыда, и она подняла слабую еще, словно ватную руку, стараясь пригладить спутавшиеся волосы, по-прежнему не в силах оторваться от испуганных, вопрошающих глаз сына. Эти косоватые, диковатой красоты глаза (иногда она даже вздрагивала, встречая их, – сам Захар в пугающей ощутимости проглядывал из глаз сына) не только прощали, но и оправдывали, и Маня приподнялась, взяла теплую, податливую головку сына и прижала ее к груди; радостное потрясение не оставляло ее, жить было можно, хотя зрела и крепла одна неумолимая мысль, единственно правильная и холодящая сердце жестокостью.
* * *
Почти три месяца провалялся Захар в отчуждении со стороны всей своей семьи, и даже младшие, Колька с Егором, избегали подходить к нему, хотя его редкие просьбы подать воды они тут же и охотно выполняли; Аленка с Иваном вообще не приближались к отцу, как и сама Ефросинья, и от этого Захару становилось нехорошо и больно. Лишь мать, бабка Авдотья, еще связывала его с семьей, но и эта пуповина начинала усыхать и перетираться; Захар все меньше и меньше ощущал зависимость от Ефросиньи и детей и теперь часто глядел на них издалека; они отвергли его, а он не мог жить по их хотению, наступил конец одной жизни, и начиналась другая, совершенно новая, хотя еще и неизвестно какая, в ней думалось найти спасение и выход. Ефросинья больше его не держала, дети не могли того понять; выход был рядом, и не надо было искать и метаться столько лет, оставалось лишь собраться с силами и сделать последний необходимый шаг. Случись это раньше, сколько бы отпало ненужного; и стычки с братьями Мани, Кирьяном и Митреем, не было бы.
Захар как-то смутно, неуверенно помнил последний момент, он очнулся в собственной избе и на своей кровати, значит, кто-то его привел и уложил; впервые в жизни с такой прямотой и откровенностью он пошел до конца, взял на себя все с Маней, освобождая ее от ехидных пересудов и усмешек; он был доволен собой и оправдывал себя. И однако он почему-то часто возвращался в мыслях к двум суткам беспамятства после подробного осмотра и ощупывания приведенным бабкой Авдотьей стариком фельдшером, дорабатывавшим в Густищах второй десяток лет (сама Ефросинья в порыве последнего отчаяния и стыда заявила, что пусть «он» на глазах у нее сдохнет, она и пальцем не шевельнет); Захару все время теперь вспоминались именно эти ее слова, каким-то чудом запавшие в сознание, и они укрепляли его в появившемся, все более твердевшем решении; теперь уже волей-неволей приходилось идти до конца, и он был рад; именно эта определенность на дальнейшую жизнь помогала ему скорее стать на ноги, а не примочки, прописанные фельдшером, и не отвары из трав и кореньев бабки Авдотьи.
Постепенно исчезали, жухли огромные сизые кровоподтеки на боках, на спине и груди; бабка Авдотья первой заметила в глазах у сына непривычное, почти детское (бесстыжее, как она определила про себя) просветление и молчаливо насторожилась, неосознанно усиливая свою нескончаемую старческую воркотню, изводящую Захара. Она еще думала добиться своего и восстановить в семье прежнее подобие мира; не трогая Ефросиньи, она то и дело посылала к Захару младших сыновей, жаловалась на собственные многочисленные немочи, в то же время с безошибочным чутьем, свойственным долго жившим, много перестрадавшим людям, сознавала, что ничто уже не поможет и близок конец всему привычному, и не могла избавиться от своей постоянной тревоги. В один из моментов она пыталась привлечь на помощь Ефросинью, та наотрез отказалась и близко подходить к мужу, и бабка Авдотья, обреченно вздохнув, покорилась; Захар уже ходил по дому, подолгу сидел под старой дедовской яблоней-китайкой, почти ежегодно усыпанной к осени небольшими краснобокими яблоками; эта яблоня была точно такой же еще в его детстве; голопузым сорванцом он лазил по ее сучьям, и хотя теперь она давно облетела и в изломах ее тонких ветвей резко свистел холодный ветер, Захар часто приходил к ней подымить цигаркой, безучастно разглядывал кур, гревшихся у дымившейся у сарая кучи старого навоза.
В последних числах ноября все чаще пропархивал густой пронизывающий снежок, Захар крепился еще с неделю, и однажды, дождавшись сумерек, собрался, выскоблил щеки старой, со стершимся лезвием бритвой, прислушиваясь к сильнее разыгрывающейся метели, и, не говоря ни слова, ни от кого не таясь, пришел к Поливановым. На крыльце ему встретился Илюша в толстой стеганой телогрейке, в новеньких валеночках; Захар с затеплевшим сердцем прищурился на сына, ничего не сказал и сразу прошел в хозяйскую половину. Остановившись у порога, поздоровался. Вся поливановская семья, за исключением Мани, была в сборе, и при появлении Захара лущившая у окна фасоль Лукерья полуоткрыла рот, метнулась глазами к мужу; дед Макар подошел к порогу, рассматривая Захара.
– Захарка, ты? – словно с недоверием спросил он, оглядываясь на молчавшего сына.
– Я, дед, – ответил Захар спокойно и шагнул к Поливанову. – Аким Макарович, – сказал он с тем же спокойствием от бесповоротности принятого решения, – мне с Маней поговорить надо, ты ни о чем плохом не думай, жизнь так расписала, решил я кончать эту канитель,
– У себя она, на своей половине, иди, – после тяжелой паузы через силу сказал Поливанов, ничего больше не прибавив; с защемившим внезапно сердцем, чувствуя на себе испуганный взгляд Лукерьи, Захар вышел, в сенях помедлил, толкнул дверь и увидел Маню.
– Здравствуй, – сказал он с радостным чувством освобождения, владевшим им вот уже несколько дней подряд, уверенный именно в ее понимании и поддержке. – Здравствуй, Маня, я совсем к тебе. Не прогонишь?
– Ты, Захар? – Она словно с трудом верила собственным глазам. – Прогнать тебя? Захар!..
Она медленно-медленно выпрямилась, Захар застал ее за кройкой нижней рубахи отцу; она сильно похудела с тех пор, как он видел ее в последний раз; в ответ на его радость и ее лицо разгорелось, глаза, ставшие еще больше и светлее, притягивали, ласкали его, слепили, она подошла и, словно подломленная, ткнулась ему в грудь. Всю свою прежнюю жизнь он шел к ней, к этой минуте, и теперь вот пересохшим ртом мог пить сколько угодно, мог и не смел; все было слишком просто, и эта простота уже таила в себе новую, неизвестную угрозу.
Он взял ее за плечи, бережно, с усилием отстранил от себя, опустился на лавку.
– Ну вот, Маня, пришел я, насмерть загорелось, – проговорил он сосредоточенно. – Как ты тут без меня жила?
– Да так, Захар, и жила. Как я еще жить могу. Илюшка вон болел. Глотошная прихватила, в город возила, сейчас отошел, в хате не удержишь.
– А ты похудела, Маня, совсем прежняя…
Она обжигающе-коротко подняла на него глаза. Как и в то утро посреди села, они властно вбирали его в себя, вознаграждали за все утраты. И снова их нес горячий, неостановимый поток, и вся остальная, не относящаяся к этому мгновению жизнь мелькала мимо бесформенными клочьями.
Маня очнулась or дурмана первой, отодвинулась, натягивая на себя измятое покрывало из выбеленного холста, расшитое по краям цветами и петухами. Захар лежал навзничь, закрыв глаза, и раслабленная улыбка подрагивала у него на лице. Была уже ночь, и за стенами избы вовсю хозяйничал ветер; ни он, ни она не могли бы сказать, сколько прошло времени.
– Смотри, как метель расходилась, – прислушался к завыванию ветра Захар, и Маня, словно дожидалась, тотчас приподнялась на локоть, низко наклонилась к Захару, к самому его лицу, и он почувствовал ее тихое, теплое дыхание. Не открывая глаз, он притянул ее к себе; сопротивляясь, она отодвинулась.
– Кончилась наша с тобой песня, Захар, – не выдержав, она упала ему головой на плечо. – Наша с тобой песня кончилась. Все, Захар. Мы с тобой навсегда распрощались, мой был горючий час… за него меня бог не осудит, а люди…
Выскользнув у него из-под руки, не давая ему времени опомниться, стала торопливо одеваться.
– Что ты, Маня, – с благодушной уступчивостью проговорил он, пытаясь дотянуться до нее; она опять мягко отстранилась и вскоре уже стояла перед ним одетая, даже платок отыскала, накинула на голову; не обращая внимания на свою наготу, он подошел к ней, сутуловато свесив широкие плечи.
– Все, Захар, все, все, – словно в забытьи, повторяла она, удерживая слезы; Захар схватил ее за плечи, близко заглядывая в глаза, несколько раз с силой тряхнул.
– Разлюбила? – внезапно охрипшим голосом спросил он, готовый в минуту убить; его опустошенное сумасшедшим часом сердце разрывалось от новой идущей беды, он уже чувствовал стремительное падение в пропасть, еще секунда – и все будет кончено; вздрогнув, он отпустил Маню, сел на кровать, нащупал кисет с махоркой. В ставни слепо бился ветер. Не поднимая глаз, Маня молча стояла у стены, неподвижная, в наглухо повязанном до бровей платке. – Давно решила? – спросил он издалека, чужим, медленным голосом.
– Сразу, Захар, – тихо, как эхо, отозвалась она, стараясь казаться спокойной. – Сразу, как с тобой случилось… Ты на братьев, Кирьяна с Митреем, не таи злобы, дураки они… Мужики неотесанные, по мужичьи и рассудить хотели…
Задохнувшись крепчайшим дымом самосада, Захар не в силах был заглушить растерянности.
– На твоих братьев мне наплевать, – слова падали медленно, как редкие капли, – нам с ними не жить.. Об Илюшке подумала? О нас с тобой, обо мне подумала? Такие дела надо вместе решать.
– Лучше будет для всех, Захар. Рубить
– Не пожалей, Маня, потом. Больше не приду… другого часа не будет.
– Захар, меня пожалей, не мучай… уходи.
Не проронив больше ни слова, Захар молча оделся, у двери задержался, не оглядываясь, и, задавив ненужное сейчас, не ко времени, желание подойти и обнять Маню, впервые с ясной отчетливостью понял, что в последний раз переступает этот порог..
– Не пожалей, – уронил он тяжело. – Живи, богатей…
Он спиной чувствовал ее решимость; она по-прежнему каменно молчала, и он, со злостью рванув дверь, долго не мог разобраться в темноте с запором, а когда справился, в лицо ему ветер ударил снегом, словно стараясь втолкнуть назад; защищая глаза, Захар отвернулся, увидел в рваном просвете неба молодой рогатый месяц, который тотчас закрылся, и лишь некоторое время дрожало в глазах далекое, светлое пятнышко. «Надолго разгулялось», – машинально отметил про себя Захар, с трудом отходя от избы и останавливаясь на середине дороги, торопиться теперь некуда, подумал он коротко и жестко и пошел наугад, не разбирая дороги. Ему трудно было понять и самого себя, и Маню, но все-таки где-то в самом сокровенном тайнике мерцала мысль о том, что все еще исправится, Маня помыкается-помыкается и опомнится, и вот тогда жизнь выльется в иную дорогу; он хотел, чтобы так и случилось, хотя знал, что Маню ему будет простить трудно. Поворачиваясь спиной к ветру и несущемуся стеной снегу, он время от времени отдыхал; старый, латаный-перелатаный полушубок пробивало насквозь, он двигался куда-то в белой, несущейся мгле, не думая о дороге; ни одного огня не было заметно, ни одного дерева или избы; он остановился, не зная, куда идти, и стал припоминать, откуда дул ветер в момент его прихода к Поливановым; мелькнула мысль о замерзавших вот в такую погоду в каких-нибудь десяти шагах от тепла. Нахлобучив шапку потуже, он, считая шаги, прошел, как ему казалось, в одном направлении саженей пятьдесят, ничего не встретил, повернул обратно, шел против ветра теперь, низко наклонив голову, выставив вперед плечо.
Налетел особо сильный порыв ветра, ударил вокруг, срывая с земли еще не улежавшийся, слабый покров снега; Захар, расставив ноги, удержался и, честя про себя всех баб и непогодь, побрел дальше, время от времени останавливаясь и оттирая застывшее лицо ладонями. Вот не было заботы, кажется: он умудрился сбиться с дороги; в небе опять пробился расплывчатым пятном свет от луны, и тут же мгла стерла его. Захар, приложив ладони ко рту, стараясь не поддаваться тревоге и неуверенности, крикнул протяжно:
– Э-эй!
Голос захлебнулся, увяз в снежном месиве, и Захар побрел дальше: сколько же сейчас времени, думал он, потеряв счет часам. Петухов не слышно, тут же отметил он, и мысль, что он давно бредет где нибудь в поле, за селом, заставила его недоверчиво усмехнуться. Этого не может быть, решил он, как же он мог ни на один плетень не наткнуться? Хотя теперь все замело, можно и в колодец рухнуть, а колодцы в Густищах ого, пока до воды долетишь, помрешь от страху сорок раз.
Пробиваясь сквозь снег и ветер, он уже больше ни о чем не думал, и его лишь не оставляло ощущение, что его кружит кто-то всесильный, насмешливый; сейчас в мире остались всего двое, он сам, Захар, и тот, невидимый, неотступно следивший за ним, Захаром; прежде чем окончательно сбить его с ног и кончить, он решил еще понасмешничать, покуражиться. Покарает тебя бог, Захарка, вспомнились ему слова матери в одном из недавних разговоров; накликала, старая, с усилием усмехнулся он, погруженный на время в напряженную тишину; ему показалось, что это передышка, и тотчас на него опять обрушился вой метели. Нет, не в поле я, решил Захар, напряженно прислушиваясь, на просторе по-другому гудит.
– Э-эй! – закричал он опять, стараясь бессознательно разорвать грохочущее вокруг, мечущееся пространство; но тотчас словно кто-то дернул и стянул петлю туже, и, несмотря на холод, он почувствовал потекший по спине горячий пот. Его охватило безотчетное озлобление именно к собственной слабости; узнай на селе, что из-за бабы в метель сгиб, все кости и на том свете просмеют, и мертвым спокойно не улежишь Отчетливей становилась мысль, что он борется один на один с тем насмешливым, что кружит его из стороны в сторону с завязанными глазами; он заторопился, двинулся прямо навстречу снегу и ветру, зажмурил глаза, чтобы их не высекло бешено летящим снегом, и шел до тех пор, пока совершенно не выбился из сил. «Замерзну», – мелькнуло у него впервые коротко и определенно, и в следующий момент он больно ткнулся грудью в твердое. С трудом подняв плохо слушающиеся руки, он стал ощупывать неожиданное препятствие: это был угол не то какой-то избы, не то амбара; ну вот, ну вот, подумал он лихорадочно и, всем телом раздвигая навалившийся в затишь мягкий снег, стал пробираться вдоль стены и скоро обошел подвернувшееся строение без окон вокруг; это действительно оказался амбар, на двери висел пудовый холодный замок. «Да я ж где-то напротив сельсовета! – догадался Захар. – Векшенский амбар, надо же!» – изумился он тому, что бродил где-то в самой середине села. Он постоял в затишке, засунув руки за пазуху и отогревая их; не сразу приходя в себя, он теперь уже с насмешкой и даже с удовольствием вслушивался в снежную бурю кругом; гудело не только все вверху и вокруг; гул шел, казалось, из самой глубины потревоженной земли.
Ага, так и есть, напротив, шагах в двадцати от него, сельсовет; вправо, на той же стороне улицы, где находился приютивший его амбар, собственная хата через десять дворов. Он в уме пересчитал хозяев и обрадовался: точно, через десять дворов. Влево, через три двора, хата его дядьки по матери Григория Козева; пожалуй, к нему он и постучится, переночует. Он подумал, что дома теперь не спят ни мать, ни Ефросинья, выждал еще немного, отходя окончательно; от спасительной стены отрываться не хотелось. «Подожду немного», – решил Захар и насторожился. До него долетел живой звук, и в первый момент ему показалось, что он наконец слышит петуха, но тут же засмеялся. «Ну, народ!» – подумал он и, пробиваясь через сугроб, пошел на звук песни; кто-то, видать, спьяна, во весь голос басовито выводил:








