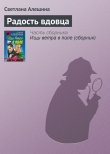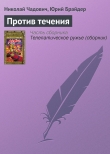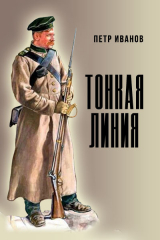
Текст книги "Тонкая линия (СИ)"
Автор книги: Петр Иванов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
– Они от нас всего в ста саженях, – сказал прапорщик Толстому, у которого вызвался быть проводником, – Еще немного и можно будет пустить в дело ручные гранаты.
– Быть не может!
– Да вот сами увидите. Пожалуйте сюда. – Ершов подвел приятеля к амбразуре, укрытой веревочным щитом, такие стали применять вместо деревянных еще полгода назад. – Только будьте осторожнее! Учтивые французы здесь с нами не церемонятся! Их штуцерные постоянно обстреливаю наши позиции, и случается попадают.
Лев взглянул в узкую щель между щитом и пушкой: виднелся желтоватый вал неприятельских траншей, лежали такие же, как у нас, мешки и плетеные туры и выскакивали белые дымки из бойниц, казалось, без всякого шума, так как в воздухе стоял хаос звуков. Наблюдателю, не искушенному в тонкостях осадной войны, открывшаяся картина ровным счетом ничего не говорила. Прямо с бастиона спустились они, приблизительно по восемнадцати ступенькам, в потерну, тянувшуюся на протяжении семнадцати саженей, до самого эскарпа, в который она выходила. Напротив, в контрэскарпе, начиналась галерея не так уж просторная, фута в 4 1/2 высоты, тут с трудом могли идти два человека рядом. Дневной свет мерцал слабее, погружались все более и более во мглу, обдало могильной сыростью… С непривычки едва можно было различать предметы, несмотря на то что здесь горели, не в дальнем друг от друга расстоянии, стеариновые свечи, вставленные в особого рода шандалы, воткнутые в земляную стену и масляные лампы. Подаваясь вперед, надо было идти уже пригнувшись, потому что галерея, углубляясь вперед, постепенно понижалась и наконец достигла только трех футов высоты. От дневного света нас отделял слой земли в восемнадцать футов. Гробовая теснота, мрак и сырость непонятной тяжестью давили на грудь, возбуждая какую-то тревожную тоску. Чтобы пройти в нижнюю галерею, нам нужно было спуститься еще на тридцать девять футов. Сорок ступенек вели туда. Пласт известкового камня шел до самой вершины галереи, откуда начинался уже пласт желтой глины.
– Хотите, заглянем в последнюю мину, где ведутся работы? – предложил Льву спутник. Тот согласился, и они спустились вниз вдвоем, нагнувшись, сначала в полусвете, потом в совершенном мраке. Навстречу выходил кто-то и крикнул: "Держи направо!" Едва успел посторониться, но его порядком толкнул выползавший сапер. Далее следовало двигаться добрых 20 саженей на четвереньках, но вскоре под руками оказалась вода и поневоле пришлось встать, благо высота галереи позволяла. Мина на своем протяжении все суживалась: сначала можно было ощупать доски и столбы по стенам, далее шел голый земляной коридор, где крепления еще не успели установить. Вдруг вдали показался тусклый свет. Увидели масляный фонарь под потолком, там в расширенном месте, трудились одетые в грязное и рваное платье солдаты.
Русские галереи достигали 60 футов углубления от поверхности, тогда как французские не опускались ниже 40. И это не случайность, не лень французов, а следствие правила, принятого в те времена, по которому ниже 30 футов без принудительной вентиляции ходов и галерей работать было нельзя, потому что работающие задыхались. Именно русским солдатам, чьи имена безвозвратно утрачены, претерпевшим в каменной подбастионной утробе больше мук, чем противник, меньше себя жалевших, мы в конечном итоге и были обязаны тем, что имели решительный перевес над врагом в минной войне.
Даже привычным людям было трудно дышать в такой спертой атмосфере. Вентиляторы с приводом от паровой машины беспрерывно очищали воздух, который сильно портился от человеческого дыхания и горения свечей. Но не помогало, время от времени приходилось вспрыскивать известковым молоком. Свечи не могли здесь иначе гореть, как наклонно. Во многих тоннелях противно хлюпала под ногами грязная вода. Лев не мог в этом месте оставаться долго и поспешил подняться в верхнюю первую галерею, там все-таки было не так тяжело. Непременно хотелось добраться до головы работ, а потому он вышел в ров немного подышать свежим воздухом, и через несколько минут опять отправился в подземное путешествие, пробираясь под конец пути ползком… Повезло – он попал как раз на самую интересную минуту: слышно стало, как работает вдали неприятель.
– Наши прошли галереей еще на 15 саженей, – раздался из темноты отчетливый шепот и какое-то легкое позвякивание, – Спешно присылайте сюда бур, не то опоздаем.
– Кому это он докладывает? – возник законный вопрос у Толстого.
– Верно наверх сообщает, начальнику работ. – пояснил проводник, – У них в минных галереях телеграфная связь организованна, совсем как на позициях.
Невидимый неприятель был с левой стороны. Лев приложился ухом к одной из пробуравленных в стене небольших слуховых дыр и едва-едва различил отдаленный, довольно слабый глухой гул. Опытные саперы же отличали в нем даже стук инструментов и находили, что неприятель должен быть в 7 саженях, не далее. Новость положения, мерцающий свет, спертый тяжелый воздух – все это сильно действовало на воображение, порой казалось, что уже не суждено вылезти из этого жуткого земляного гроба… В первые мгновения при вести о заслышанных работах неприятеля стало страшно. "Нет, – думал он, – лучше получить двадцать пуль на бастионе, чем быть погребенным заживо здесь под землей". Мысль эта промелькнула мгновенно, осмотревшись и одумавшись, ободрился и скоро был снова увлечен любопытством… люди рядом спокойно работают, словно и не случилось ничего. Надо сказать, что перед неприятелем мы имели теперь важное преимущество – самое главное в подземной войне, мы были ниже его. Теперь дело за "новым порохом" о котором в городе ходила масса совершенно фантастических легенд и слухов. Запаянный с торцов жестяной цилиндр аккуратно отравляется в просверленную в грунте длинную горизонтальную скважину, словно пуля в ствол ружья, вместо шомпола – составной деревянный шест обмотанный на дальнем конце войлоком. Сапер осторожно, точно боится порвать, разматывает с катушки гибкий провод. Даже удивительно, что заряд совсем небольшой, согласно учебникам фортификации требуются десятки пудов пороха для закладки контрмины, а тут чуть более пушечного картуза, неужели хватит?
– Ваш благородие пора, – настойчиво теребит гостя за рукав солдат в испачканной землей нижней рубахе, – Счас рвать будем, уходить треба от греха подальше.
Вот так совершалось "подземное Бородино"… Не может быть, чтобы чувство благодарности к подземной рати севастопольцев не шевельнуло вашего сердца, когда воображение ваше (увы, только лишь воображение) вернется из-под скальной тверди пород в этот радостный ясный мир, украшенный солнцем. Необыкновенно приятное ощущение испытываешь, оставляя эти тесные могильные подземелья, когда, добравшись до выхода, вдохнешь свежую струю неиспорченного воздуха, когда глаз, который не мог примириться с неопределенным мерцанием и между тем уже успел отвыкнуть несколько от нормального света, снова увидит этот мягкий, ласкающий свет дня. О, какая тяжесть спадет с сердца, с каким восторгом глубоко потянешь этот воздух грудью, с какою жадностью начнешь всматриваться во все окружающие предметы!
– Ну как насмотрелся, на наших землекопов? Пойдем познакомлю с самым главным севастопольским обер-кротом, – встретил приятеля на выходе весельчак Ершов выбравшийся наружу ранее, – Он тут и живет прямо в блиндаже на бастионе, в городе бывает редко, в артиллерийской лаборатории всем распоряжается его заместитель штабс-капитан 4-го саперного батальона Мельников. Тот самый, что тебя прогнал вон, извини брат но посторонних пускать туда не велено.
– Погоди немного, глину отскребу с сапог и одежды, не иначе пропал мундир совсем, хорошо хоть старый догадался надеть. Что-то взрыва не было, али не получилось, вышла осечка?
– Да нет, просто камуфлет на большой глубине, отсюда не слыхать. Наши минеры в день по несколько раз такие устраивают.
Комната подполковника Романова находилась в потерне. Это просто была ниша выкопанная в земле почти в сажень высоты, шагов семь в длину и немного менее в ширину, вся обшитая досками.
– Вот здесь, в этой дыре, наш главный минер и обитает. Зайдем, он всякому гостю рад. – Ершов слегка постучал в дверь.
– Входите! – послышалось оттуда.
Они попали в довольно порядочную подземную комнату, увешанную старыми коврами. Над чисто поставленной складной железной кроватью развешен был по стене прекрасный гобелен. У складного столика с телеграфным аппаратом стояло довольно изящное вольтеровское кресло, которое как-то странно выглядит при такой обстановке и в таком исключительном месте. У изголовья висела этажерка полная книг, с ней соседствовала клетка с канарейкой. На небольшом выступе, в углу помещалось все хозяйство: маленький складной самовар, несколько стаканов и шкатулка с чаем и сахаром. Две толстые стеариновые свечи, горевшие постоянно и днем, и ночью, довольно удовлетворительно освещали эту подземную квартиру. Подле одной стены была небольшая железная печка. Огня в ней не было, и сверху стопкой лежали тетради, бумаги, чертежи и потрепанный томик "Мертвых душ".
Молодой подполковник с георгиевским крестом – это и был "обер-крот" Романов – принял гостей необычайно радушно и усадил их пить чай. Вид у хозяина подземных хором был весьма нездоровый, глаза запали и на руках виднелись синие пятна, следствие жизни в сыром подвале.
– Извините любезные, спиртных напитков я не употребляю и для гостей не держу. Весь спиритус вини у меня строго на химические нужды расходуется.
– Полно Вам Всеволод Юрьевич, мы не в обиде, лучше расскажите про ваше новое изобретение. Цербер Мельников не пустил моего товарища в артиллерийскую лабораторию.
– А это… не думал я, что до Бахчисарая слухи дошли, светлейший князь Меншиков ко всем новинкам военного дела равнодушен.
– Ну как же, даже "Московские Ведомости" грозят супостатам новым порохом невиданной силы? Про ваш "горький мед", или мелинит и иностранные газеты восторженно пишут.
– Извините друзья, но я вынужден держать состав нового взрывчатого вещества в секрете. Дело в том, что в отличие от смесей на основе нитроглицерина, моим мелинитом можно начинять артиллерийские снаряды. Опыты стрельбы новыми мелинитовыми бомбами из мортир дали прекрасные результаты, но к сожалению дальше проб мы пока продвинутся не можем.
– Почему? Я видел ваш заряд в контрмине, граната или бомба с такой начинкой должны обладать просто невероятной разрушительной силой?
– Не совсем так, подземное минное дело имеет свою специфику и новый состав тут пришелся очень кстати. Мелинит выделяет при взрыве много сильно ядовитого газа, мы не столько разрушаем вражеские галереи, сколько "выкуриваем" оттуда французов. Разве вы не заметили специальной пробки, которой мои саперы закрыли мину перед взрывом?
– Нет, с непривычки я пулей наверх вылетел, даже не осмотревшись толком по сторонам, – признался Лев, – Неужели этот дым настолько ядовит?
– Вдохнул и почитай умер, к сожалению у нас был несчастный случай, по неосторожности погиб один нижний чин. Хорошая вещь, вот только возможности для производства сего зелья в Севастополе сильно ограничены. Я и так сражаюсь с нашими химиками за каждый лишний фунт, запасы химических реактивов в артиллерийской лаборатории уже давно на исходе…
– Сами то как потом поступаете после подрыва? Неужели тоже бросаете старую контрмину и отрываете другую?
– Нет такая роскошь нам непозволительна, у меня каждая пара рук на счету. Устраиваем вентиляцию, для работы сразу после взрыва, применяем дыхательные аппараты устроенные на манер водолазных. Андрей как сейчас раз на таком восседает, под чехлом не видно, но потом я вам покажу в действии… А вот противник обычно бросает с такими усилиями созданную работу и начинает по-новой. Страх поражает людей сильнее взрыва, так что здесь все продумано до мелочей. Изредка удается даже отбить вражескую мину и мы включаем ее в свою контрминную систему.
– Неужто Всеволод Юрьевич до рукопашных схваток под землей в этих ваших норах доходит дело?
– Слава богу пока не было, но мы готовы – нижние обязательно чины носят при себе ножи, а у меня имеется с десяток револьверов, обычно ими пользуемся для действий на поверхности. Так на прошлой неделе мы ночью проникли в воронку от преждевременного взрыва вражеского заряда и оттуда вышли в новую французскую галерею.
– Наши потери велики? Я признаться как в могиле себя ощущал там внизу в подземелье.
– Впечатлительная у вас граф натура однако, с начала осады мы потеряли пятерых нижних чинов, из них только трое погибли под землей, включая и того отравленного. Здесь намного безопаснее, чем вверху на бастионах под обстрелом.
Далее собравшиеся поговорили "о том и о сем", о политике и нравах, привычно поругали Австрию пополам с Пруссией и случайно упомянули имя генерала Тотлебена.
– Что это за светлый ум! – с неподдельным восторгом воскликнул Романов, голос подполковника задрожал от волнения – Ему, а не мне приписывайте, господа, всю честь того, что усилия неприятеля в этой осадной м подземной войне не привели пока ни к чему. Он голова, я только руки, просто исполнитель его поразительно гениальных планов!
– Не скромничайте Всеволод Юрьевич, если Тотлебен спас Севастополь, от преждевременного захвата врагами, то вы сберегли флот от неминуемого потопления. Я полагаю государь отметит ваши заслуги по достоинству.
– Увольте милостивый государь! Кто обо мне вспомнит после войны? Дальше полковника в чинах не вырасту определенно. Тут надобна или протекцию иметь, или действительно быть великим человеком как Эдуард Иванович. – слегка улыбнулся усталый подполковник. Невольно в его памяти всплыл забавный эпизод произошедший на днях в штабе, куда Романова пригласили на совещание…
"Любезный Ползиков, поздравляю тебя с наградой храбрых. С самого детства ты был стоек, помню я, как ты с особенным искусством умел стоять на голове. Очень обрадовался я, узнав, что ты умеешь так же твердо стоять головою за Государя и Отечество. Посылаю тебе орден Св. Георгия. Спасибо Ползиков. Александр 16 февраля 1856 г." Нет конечно спору нет инженер-полковник Владимир Петрович Ползиков свой георгиевский крест заработал честно, но выходит чтобы заслужить внимание верховной власти требуется и еще кое-что специфическое. Посмеялись они тогда в своем кругу инженерной братии, когда Ползиков зачитал им это послание наследника престола, но горький осадок остался.
– Нет братцы мои, не быть мне генералом, я в акробатике не силен и на голове стоять не умею, не обучен таким фокусам…
"Странный человек!" – подумали в одно и то же время оба посетителя. Разговор их были неожиданно прерван появлением сапера-телеграфиста, который влетел в подземельный кабинет Романова и, запыхавшись, отрапортовал:
– Ваше высокоблагородие, снова идет француз контрминою, с третьего нумера доложили по связи, слышно работает!
Услышав слово "идет", Лев вообразил, что "враг идет на приступ", и хотел было бежать наверх, чтоб принять участие в схватке, но Романов его остановил:
– Куда вы спешите? Давайте послушаем сперва новую работу французов.
На удивление гостей, потянувшихся было к вешалке за саблями, подполковник никуда уходить не торопился. Прислонив к уху что-то вроде небольшой чашки, соединенной проводом с телеграфным аппаратом, он долго и внимательно прислушивался, одновременно манипулируя свободной рукой рычажками странного устройства, извлеченного по такому случаю из под стола.
– Далеко, еще саженей 40 до них будет, можно не торопиться… Вы что так на меня уставились господа офицеры? 19 век на дворе давно! Это станция дистанционного прослушивания. – поспешил с объяснениями гостеприимный хозяин подземелья, – Я немного изменил для своих нужд конструкцию "звукового телеграфа" или "телефона" – так кажеться называет сию вещицу ее изобретатель. Полезнейшая штука получилась, теперь нет необходимости ползти каждый раз в мину, едва там шум вражеских работ заслышат. Для предварительной оценки вполне подходит, а точную мои молодцы на месте проделают.
Остаток дня Толстой вместе с приятелем провели у Романова, пока вновь попили чай, да поговорили на разные темы уже стемнело. Поднявшись на бастион и посмотрев на скрывающуюся в вечерней дымке панораму крепости он вспомнил наконец, что не все намеченное на сегодня исполнил, а завтра надо принимать полубатарею. Следовательно надо обязательно отыскать того нижнего чина телеграфиста, чье имя упоминалось в газетной заметке, на центральный телеграф возвращаться уже не хотелось, да и далеко… Лев решил еще раз заглянуть в штаб, может быть получиться там застать нужного человека. Проблуждав некоторое время в лабиринте траншей и ходов сообщений граф наконец с сумел добраться до штаба. Днем он уже побывал в этом просторном блиндаже, напоминавшем большую многокомнатную городскую квартиру поэтому сразу уверенно направился на узел связи, помещавшийся в одном из многочисленных закутков. От аппарата ему навстречу поднялся человек в солдатской шинели с погонами фельдфебеля. Чем то он напоминал Толстому его самого, сразу видна та же порода людей, как говаривал покойный дед: "крепких на кулак".
– Здравствуйте ваше благородие, Лев Николаевич, – приветствовал телеграфист гостя, – Турчанинов меня оповестил еще в обед, но только сейчас удалось вырваться, сегодня было слишком много дел.
– Зачем так официально? Меня пока только по имени величают, годами еще не вышел. – несколько опешил будущий великий русский писатель.
– Сам не знаю… так получилось, – и в самом деле Толстой для нашего современника, это Лев Николаевич, а не Лева.
Разговор у них вышел донельзя печальный, корнет о судьбе которого хотел разузнать граф, уже давно похоронен на городском кладбище, где обычно погребали погибших офицеров. Александр ничего не скрывая рассказал собеседнику о всех деталях той ночной драмы. Умолчал он только о том, что не сумел выполнить последнюю просьбу Петра, не смог написать ни строчки его родителям, пришлось доверить это дело штабным писарям, а те привычно напортачили…
– Так я и думал. Жаль мальчика, он даже за девицами еще не бегал кажется.
– Судьба Лев Николаевич, все под ней ходим, вы надолго к нам?
– Дают вылазочную полубатарею трехфунтовок, не знаю будет ли толк от столь малого калибра. Вы лучше поведайте, как тут дела обстоят, чай к штабу близки, а то мне как приезжему разобраться пока трудно.
– Как дела… как дела, хреново у нас дела… – Александр подошел к смотровой амбразуре где очередная ракета прочерчивала в вечернем небе огненный трек по направлению к Севастополю, – Смотрите сами, видите французы новые осадные батареи строят? Наполеон обещал прислать сюда триста крупнокалиберных мортир, вероятно первые уже прибыли на место.
– Но ведь штурмы, сколько их уже было, до сих пор удавалось отбить?
– Все верно ваше благородие, только вот последнего у нас почти не осталось пороха, слава богу, что погода испортилась и вышла передышка. Вот опять запустили ракету, в начале года они бросали на город десять в сутки, а теперь не меньше сотни. Пленные утверждают, что в Балаклаве построен целый завод по производству этой пакости и железная дорога проложена прямо до осадных позиций, чтобы боеприпасы подвозить.
– Полагаете не выдержим? Но как же так? В 1812 мы смогли отбить нашествие двунадеси языков, а тут придеться отступать?
– Они ученые теперь и вглубь полуострова за нами не пойдут. Уничтожат флот и Севастополь, собьют и все остальные укрепления по побережью и разорят города. Им что, военные припасы и пополнения подвозят морем, это намного быстрее чем на волах как у нас.
Лев ничего не возразил, неприятно конечно, фельдфебель прав – подвоз припасов по нашим дорогам на гужевой тяге уже давно превратился в головную боль военного ведомства. И никаких улучшений тут не предвиделось, железные дороги в России пока представлены в совершенно недостаточном количестве. Но обдумав последнюю фразу он все же решил возразить, слишком обидная перспектива вырисовывалась в итоге.
– Поговаривают, что накопим сил и тогда дело решиться в генеральном сражении? У нас в Бахчисарае по крайней мере с прошлого года ходят такие слухи.
– "Мильен штыков"? Забудьте ваше благородие, этот миллион тонким слоем размазан по всей России, значительную часть войск приходиться держать против Австрии и для защиты Петербурга. Их стронуть оттуда нельзя, иначе у наших "доброжелателей" могут появиться разные нехорошие прожекты, особенно насчет Питера.
– Разве к вам пополнения не присылают?
– А как же, недавно пришло ополчение, дедушки с бородами до пояса и топорами. Велика Россия, а людей похоже уже не осталось. А что до планов сражений, так вы же сами пишете: "Гладко было на бумаге…".
– Не ожидал, что до Севастополя так быстро доберется сие стихотворение, – Толстой даже обрадовался, что появилась возможность сменить тему разговора, – Я ведь только на прошлой неделе показал сослуживцам…
– Нам текст по телеграфу передали, ночью все равно линия свободна, – Сашка махнул рукой в сторону аппарата Морзе на столе, – Лишняя тренировка для телеграфистов, пусть повышают мастерство. Английские корреспонденты статьи для газет пересылают телеграфом, вот пусть и наши привыкают.
– Удивительно все же, так боюсь скоро и музыку будут передавать по медной проволоке?
– Может по проводам, может без оных, а может не только музыку, но и изображение. – Сашка порылся в ящике стола и извлек тоненькую самодельную тетрадочку, всего три тонких листика, кое-как склеенных по краю, – Вот посмотрите пожалуйста ваше благородие, один мой покойный приятель сочинил, слог у него правда своеобразный.
Уж сотый день врезаются гранаты
В Малахов окровавленный курган,
И рыжие британские солдаты
Идут на штурм под хриплый барабан.
…
Холодная казенная бумага,
Нелепая любимая земля…
Короткие и рубленые, но в то же время необычайно емкие строчки стихотворения невольно заворожили Льва Николаевича, он сумел сразу оценить талант неведомого поэта. Но в самом деле, мало того что автор проигнорировал часть букв русского алфавита, так еще и сам слог, рифмы и размерность необычные.
– Недурственно, а твой друг родом не француз ли часом? Я смотрю бриттов ругает, а о других супростатах помалкивает?
– Не знаю, может быть, мы недолго были знакомы. Почти как с вашим Петриком. – приходиться в который раз прибегать Александру к полу-правде полу-лжи. Ведь нельзя же сказать, что Константин Симонов еще даже и не родился, – Попробуйте ваше благородие доработать и отдайте в печать что ли? Может быть у вас возьмут, все же это лучше виршей наших казенно-квасных патриотов, над ними даже смеяться тошно.
– На Камчатке в самом деле удалось победить? Или опять только на бумаге?
– Десант по крайней мере действительно сбросили обратно в море, правда немного их было, по нашим меркам цифры совсем смешные. Скорее всего они повторят попытку и тогда придется уступить.
– Эх братец, "война в Крыму – все в дыму", постараюсь я но успеха обещать не могу. Ни царя, ни бога, ни православный народ твой француз не упомянул, могут и зарезать цензоры за недостатком патриотизма! Только не смейся, это в самом деле так!
Спустя месяц Лев Николаевич, после участия в ряде боевых операций покинул действующую армию, чтобы более никогда к военной службе не возвращаться. В его жизни начался новый этап, в результате которого мир получил великого писателя, вместо весьма посредственного офицера. Как говориться – каждому свое. «Поручик» Симонова в обработке Толстого был опубликован только после смерти писателя уже в начале ХХ века, рукопись случайно нашли родственники при разборе бумаг. Что помешало публикации стихотворения во время Крымской войны неизвестно, скорее всего, как и предполагал Лев в свое время, возникли проблемы с цензурой, традиционно видевшей в каждом «неправильном» печатном слове «подрыв устоев».
Война и жизнь шли своим привычным ходом, в Севастополе кое-как отбили очередной штурм и пережили очередную массированную бомбардировку. До осажденного города наконец добрался "неофициальный представитель" его императорского величества князь М, столь напугавший в свое время Льва Николаевича в Бахчисарае. Пришелец вел себя скромно и безобидно, ни на что не претендовал, поэтому внимания на него в штабе практически не обращали. Временами высокий гость прогуливался по бастионам вместе с адмиралам Нахимовым, постепенно в течении недели к нему привыкли и стали даже доверять. Как говориться: "Толку было с него как с козла молока, но вреда однако тоже никакого." Но в один далеко не прекрасный летний день все внезапно изменилось, пришелец сыграл роковую роль как в судьбе осажденного города, так и в жизни "путешественника во времени" Александра.
28 июня или 10 июля по старому стилю адмирал Павел Степанович Нахимов отправился на очередной осмотр укреплений. Надо сказать, что в фортификации адмирал разбирался плохо и его посещения позиций скорее служили для поднятия духа людей, легендарный адмирал, победитель при Синопе с нами, а значит и Севастополь устоит. На это раз его в поездке сопровождали только адъютант, да все то же князь М, сумевший войти в немалое доверие к адмиралу. Питерскому гостю явно нездоровилось, он тяжело простыл накануне, и поэтому зябко кутался в шинель солдатского покроя несмотря на теплую погоду. Впрочем на Малаховом кургане сегодня дул студеный ветер, и такая экипировка была вполне оправдана.
– Знаете князь, а ведь меня в этот день год назад должны были убить! – неожиданно произнес адмирал, что-то разглядывая вдали на французских позициях.
Гость вздрогнул, впервые маска показной учтивости на секунду сползла с его лица, но он быстро справился со своими чувствами, слава богу никто его реакции на шутку Павла Степановича не заметил.
– Это вам господин адмирал цыганка нагадала или предсказатель в городе завелся? – осторожно полюбопытствовал Князь, стараясь не выдать обуревавшего его интереса.
– Ни то ни другое сударь. Письмо я получил, еще до войны. Судя по почерку писал ребенок, возможно девочка. Удивительно, но она оказалась отчасти права, у наших европейских друзей действительно имеются специально выделенные стрелки для уничтожения офицеров противника. Жертвой одного такого "Робин Гуда" и должен был стать ваш покорный слуга.
– Не может быть! И так и не узнали кто авторша письма? Можно было через жандармов попробовать найти.
– Бог с вами князь, зачем? Предупредила и на на том спасибо, все равно я ей не поверил тогда. Убить меня по ее словам должны были прямо тут у этой амбразуры, но любезный наш Тотлебен распорядился углубить траншею на несколько вершков и уменьшил обсервационные щели, теперь мы в недосягаемости от пуль противника.
Пока они мирно под свист пуль франтиеров беседовали, адъютант в стороне раскуривал трубку, он недавно пристрастился к табаку и не желал досаждать "зельем" адмиралу. Нахимов с князем разглядывали позиции противника поочередно в знаменитую адмиральскую подзорную трубу, своей оптики гость сегодня по неизвестной причине не взял. Пронзительно взвизгнув очередная пуля ударил в бруствер рядом со смотровой щелью, совсем близко…
– Ох ты горе то какое! Опять галлы мне зрительную трубу уничтожили! – вздохнул устало адмирал.
– Не волнуйтесь Павел Степанович, случайно получилось, я вздрогнул с непривычки и рука дернулась…
– Да черт с ней со стекляшкой, у меня благодаря адмиралтейству целый запас! – и обращаясь к адъютанту адмирал добавил, – Голубчик да хватит вам кадить этой гадостью, не иначе на ваш дым французы и целятся. Потрудитесь сходить до командира батареи Керна за новой зрительной трубой.
Адьютант убежал исполнять поручение и возле амбразуры теперь остались только двое: адмирал и его новый знакомый. Никто и ничто теперь не мешало их приватной беседе.
– Стоит ли Павел Степанович гонять его за трубой? – возразил князь М.
– Да уж нет мой сударь, что-то они там затевают не могу никак понять? – адмирал продолжил всматриваться в отдаленные позиции.
Он не сразу заметил, что князь бесшумно отступил на шаг и теперь находиться сбоку и немного впереди, холеная рука заложена за борт шинели. Со стороны французских окопов снова захлопали выстрелы и тут князь вдруг отскочил еще на шаг в сторону и в руке его появился какой-то предмет… Это последнее, что увидел в своей жизни боковым зрением Павел Степанович, на секунду оторвавшись от наблюдения за противником. В его голове словно взорвался фугас, красная вспышка и темнота безмолвия поглотила последние мысли.
– Адмирала убили-и-и-и!!! А-а-а!!! – пронеслось над Малаховым курганом, у каждого кто услышал этот крик кровь застыла в жилах. Десятки оказавшихся поблизости людей кинулись к злосчастной амбразуре наблюдательного пункта, где на руках у безутешного князя М умирал Нахимов.
Сделав перевязку, его понесли на простых солдатских носилках в Аполлонову балку, а отсюда отправили в паровой шлюпке на Северную сторону. Всю дорогу он глядел в синее небо и что-то шептал. В госпитальном бараке вновь лишился чувств. Нечего и говорить о том, что у постели тяжелораненого собрались все врачи гарнизона. На следующий день страдальцу стало как будто лучше. Он шевелился, рукой дотрагивался до повязки на голове. Ему в этом препятствовали. "Эх, Боже мой, что за вздор… князь…!" – произнес Павел Степанович. То были единственные слова, разобранные окружающими. 30-го июня утром адмирала Нахимова не стало.
Крымский историк В. П. Дюличев такими словами описывает похороны Нахимова: "От дома до самой церкви стояли в два ряда защитники Севастополя, взяв ружья в караул. Огромная толпа сопровождала прах героя. Никто не боялся ни вражеских ракет, ни артиллерийского обстрела. Да и не стреляли сегодня ни французы, ни англичане. Лазутчики и перебежчики безусловно доложили им, в чём дело. В те времена умели ценить отвагу и благородное рвение, хотя бы и со стороны противника. Грянула военная музыка полный поход, грянули прощальные салюты пушек, корабли приспустили флаги до середины мачт. И вдруг кто-то заметил: флаги ползут и на кораблях противников, на пароходофрегатах несущих блокадный дозор! А другой, выхватив подзорную трубу из рук замешкавшегося матроса, увидел: офицеры-англичане, сбившись в кучу на палубе, сняли фуражки, склонили головы…"
Во втором часу дня баркас, буксируемый паровой шлюпкой, привез тело Нахимова с Северной стороны на Графскую пристань. Море было неспокойно и подбрасывало баркас. На корме стоял пожилой священник с крестом. Народ без шапок толпился у пристани, особенно много собралось моряков. Тело доставили в дом адмирала, там же и отслужили панихиду. Покойного покрыли флагом с корабля "Императрица Мария" в память Синопского боя. Полотнище было в нескольких местах пробито ядрами и картечами. Один за другим стали входить в комнату матросы, солдаты, адмиралы, офицеры и множество дам, нарушивших этим запрещение покойного являться на Южную. Почти все женщины плакали. Этот день адмирал лежал на столе как живой. Но на другой день его положили в гроб, и лицо пришлось закрыть покрывалом. В головах утвердили три флага, андреевский и два государственных. Картинки – портрет Лазарева и изображение корабля "Крейсер в бурю" оставили на стенах.