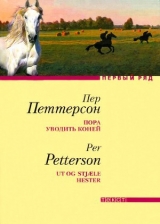
Текст книги "Пора уводить коней"
Автор книги: Пер Петтерсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Я лежу, не шевелясь и закрыв глаза. Пол холодит щеку. Пахнет пылью. Слышно, как дышит лежащая у печки на кухне Лира. Мы с ней должны были бы выйти на прогулку давным-давно, но она терпеливо ждет, не пристает. Меня подташнивает. Наверно, это симптом, который должен мне что-то подсказать. Жаль, я этой подсказки не понимаю. Но дурноту чувствую. А потом вдруг как разозлюсь! Сильно зажмуриваюсь, погружаюсь взглядом в себя, перекатываюсь так, что колени оказываются под пузом, берусь рукой за косяк и медленно встаю на ноги. Колени дрожат, но держат. Потом долго не открываю глаз, жду, пока тошнота совсем развеется, но наконец поднимаю веки и вижу Лиру, она стоит передо мной и смотрит мне в глаза своими умными глазами внимательно и чуть искоса.
– Утро доброе, – говорю я без тени смущения. – Пойдем наконец.
И мы идем. Сперва доходим до прихожей, ноги еще дрожат немного, я надеваю куртку, без большого труда застегиваю ее, выхожу на крыльцо впереди тыкающейся в ноги Лиры и надеваю сапоги. Я внимательно прислушиваюсь к себе, пытаясь понять, не дал ли сбоя отлаженный и притертый механизм, каким все-таки является тело немолодого человека, но разобраться не так легко. Не считая тошноты и занемевшего плеча, все как будто в порядке. Легкость в голове больше обычной, но в этом тоже ничего странного, я же только что валялся на полу в нокдауне.
Я старательно избегаю смотреть на березу, хотя это нелегко, потому что глазу трудно зацепиться за что-то другое, куда ни повернись, везде она, но я прищуриваюсь и, прижимаясь к стене дома, обхожу самые длинные ветки, одну приходится отогнуть, и еще одну, наконец выбираюсь на дорогу и – спиной к двору и березе – иду вниз по взгорку к реке и хижине Ларса, Лира скачет вприпрыжку впереди меня. У моста я сворачиваю на другую дорожку и иду вдоль реки, пока не замираю надолго в двух шагах от устья. Ноябрь. Мне хорошо видно скамейку, на которой я сидел вчера в раздуваемой ветром темноте, и двух пожухшего цвета лебедей на серой глади залива, и голые деревья на фоне блеклого утреннего солнца, и матово-зеленый ельник на другой стороне озера в молочном тумане. Непривычно тихо, так, как бывало в детстве воскресным утром или в Страстную пятницу. Щелчок пальцами гремит, как выстрел. Лира пыхтит у меня за спиной, белое солнце режет глаза, и тошнота вдруг одолевает меня снова, я стою на тропинке, нагнувшись вперед, меня рвет на прелую траву. Я закрываю глаза. Мне тошно, я болен, черт вас подери. Приоткрываю глаза. Лира стоит и смотрит на меня, потом подходит и обнюхивает то, что вышло из меня.
– Фу, нельзя, – говорю я непривычно строго, – отойди, – и она отбегает и уносится по дорожке вперед, но потом оглядывается и смотрит на меня, свесив язык.
– Ну да, ну да, – бормочу я. – Пойдем потихоньку.
И я снова тихонько колупаюсь дальше. Дурнота отступила вроде, если не спешить, то кружок вдоль озера я, пожалуй, одолею. Или нет? Во мне теперь нет уверенности. Я вытираю платком рот и промакиваю пот со лба, добредаю до камыша и усаживаюсь на скамейку. Ну вот, опять та же скамейка. Приплыл лебедь, ищет себе зимовку. Озеро скоро покроется льдом.
Закрываю глаза, и вдруг всплывает ночной сон. Странно, я не помнил его, когда проснулся, а теперь он ясно ожил в памяти. Я был в спальне с моей первой женой, не в нашей спальне, и был сильно моложе сорока, это я почувствовал телом. Мы только что имели соитие, я старался изо всех сил, а мне и обычно удавалось быть на высоте, так я, во всяком случае, считал. Она лежала в постели, а я стоял у комода и видел в зеркале всего себя, только без головы, и во сне я отлично выглядел, лучше, чем в жизни. Она откинула одеяло и осталась голая, и она тоже выглядела очень хорошо, настоящая красавица, почти незнакомая женщина и вряд ли та, с которой я только что был близок. Она посмотрела на меня взглядом, которого я всегда боялся, и сказала:
– Ты всего лишь один из многих. – Она приподнялась и села в кровати, она была знакомо голая и тяжелая, какой она бывала в моих руках, и вызвала во мне отвращение до рвотных позывов, поднимавшихся высоко в горле, но одновременно и ужас, и я закричал:
– Это не моя жизнь! – и заплакал, потому что всегда знал, что этот день однажды настанет, и я понял, что больше всего на свете я боюсь стать мужчиной с картины Магритта, тем самым, который смотрится в зеркало и упирается взглядом в собственный затылок, опять и опять.
II
10
Мы с Францем сидели в кухне его небольшого домика на утесе у реки. Совершенно белое солнце светило в окно и на стол с нашими белыми тарелками и белыми кружками с золотисто-коричневым кофе из отдраенного до блеска кофейника с печки, которая топилась и зимой, и летом, всегда, но летом – при открытых окнах. Кухня была окрашена в голубой цвет, как все кухни в деревне, потому что считалось, и, возможно, обоснованно, что он помогает от мух, а всю мебель Франц сделал своими руками. У него тут было хорошо. Я подлил себе молока из кувшина, кофе стал матовым, в тон к свету, и не таким крепким, я прищурился и уставился на реку, подражая пристроившемуся точно под окном голубю. Река искрилась и переливалась, как россыпь звезд, как Млечный Путь осенью, когда он иногда вспенится бурным потоком и опояшет ночь бесконечной лентой, а ты лежишь у фьорда в этой огромной темноте, чувствуя, как вгрызается в спину скала, и до боли таращишь глаза, а Вселенная всем своим весом давит тебе на грудь, так что ни вздохнуть, ни выдохнуть, или наоборот – она затягивает тебя в трубу вселенского пылесоса, и ты, катышек человеческой плоти, навсегда исчезаешь в ней. И начинаешь исчезать уже при одной мысли об этом.
Я оглянулся и посмотрел на красную звезду у Франца на руке. Она горела на солнце и вздыбливалась всякий раз, как он шевелил пальцами или сжимал кулак. А это он делал нередко. Видимо, он был коммунистом. Среди лесорубов вообще много коммунистов, оно и понятно, говорил отец.
Франц рассказал мне вот что.
Дело было в 1942 году. Отец пришел лесом с севера в поисках места, где бы он мог укрываться с бумагами и фотопленками, чтобы потом по заданию Сопротивления переправлять их через границу в Швецию, а выполнив задание и уничтожив следы, сюда же и возвращаться, это место он собирался использовать много раз. Ему не надо было где угодно скорей-скорей приткнуться, за ним никто не гнался, во всяком случае, так казалось. Он не таился, не прятался, а был со всеми открыт и дружелюбен. И говорил, что ему нужно место, где бы он мог думать, и все отчего-то верили ему на слово. Он пришел оттуда, от них. Ты был у них? – спрашивали здесь у односельчанина, съездившего вдруг в столицу. Там люди совсем не такие. Это всем известно. Так что нечего удивляться. Человек ищет место, специально чтобы думать. Хотя многие думают там же, где ходят и стоят. Но что толку об этом говорить? Там все не так.
Только Франц был в курсе, для чего отцу нужен домик. Они знали друг о друге, хотя не виделись до того дня, как отец взошел на его крыльцо, постучал и произнес условленные слова: «Ты с нами? Пора уводить коней!»
Я вскинул глаза на Франца и спросил:
– Что, ты сказал, он сказал?
– Он сказал: пора уводить коней! Понятия не имею, кто это сочинил. Может, отец твой. Не я, во всяком случае. Но я знал пароль. Получил с автобусом из Иннбюгды.
– У-у, – сказал я.
– Я полюбил его с первого взгляда, – сказал Франц, – правда.
А кто его не любил? Он нравился и мужчинам, и женщинам, я не знал никого, кто относился бы к нему плохо, за исключением отца Юна, но там было что-то иное, и я про себя думал, что на самом деле они ничего друг против друга не имеют и, в сущности, при иных обстоятельствах легко могли бы дружить. Поразительно, что с отцом все было устроено не так, как я многажды видел потом в жизни: тот, у кого со всеми хорошие отношения, зачастую просто милый бесхребетник, который без слова любому уступает дорогу. С отцом все было иначе. Он действительно много смеялся и улыбался, но исключительно повинуясь своему веселому нраву и вовсе не стараясь подладиться под окружающих и удовлетворить чью-то потребность видеть вокруг себя мир и благодать. Во всяком случае, под меня он не подстраивался, а я очень его любил, несмотря на то что он иногда вгонял меня в краску, в основном, наверно, потому, что я не знал его так, как мальчик должен знать своего отца. Он подолгу отсутствовал, а когда пришли немцы, то мы и вовсе не виделись месяцами, если же он вдруг оказывался дома и ходил по улицам как простой человек, то чем-то неуловимо отличался ото всех. К тому же от раза до раза он немного менялся, и мне приходилось прилагать все силы, чтобы успевать привыкать.
Тем не менее я никогда не сомневался, что занимаю в его сердце особое место, я и моя сестра, я, наверно, даже большее, потому что я мальчик и мужчина, я был уверен, что он часто и подолгу вспоминает меня, если мы врозь, другое мне даже в голову не приходило. Так я думал и когда он приехал в эту деревню в сорок втором, а я оставался в Осло, в нашем доме у фьорда, и каждый день ходил в школу и строил планы, куда мы поедем вместе с отцом, когда немцев разобьют наголову и вытурят из страны, а он в это время искал место для спокойных раздумий, чтобы из этого укрытия совершать свои тайные рейды в Швецию с бумагами и фотопленками по заданию Сопротивления.
Сам же Франц и показал отцу сэтер, оставшийся ничейным после принудительного аукциона перед самой войной, в нем никто не жил четвертый год. В тот раз, понятно, вмешался Баркалд и купил все за смехотворные деньги, так что хозяином сэтера был он. Но сэтер был ему не нужен. Все постройки разваливались, хлев уже рухнул, хотя живности для него все равно не было; а отцу место понравилось сразу. Особенно тем, что оно помещалось на восточном берегу в двадцати минутах ходьбы от ближайшего моста, и тем, что за сэтером не было ни единой постройки, ближайшая избушка лесорубов была уже далеко за границей, на шведской стороне. Но, кроме всего прочего, отцу здесь просто нравилось, говорил Франц. Ему доставляло удовольствие обихаживать хутор, тем более что это было необходимо и для отвода глаз: скосить траву, разобрать и сжечь остатки хлева, собрать и сложить аккуратно листы шифера, почистить берег реки, починить крышу и подновить фронтон, вставить новые стекла вместо разбитых. Он замазал щели в печке. Прочистил трубу. Смастерил два новых стула. Он делал то, к чему у него всегда лежала душа, но на что не было ни времени, ни свободы в Осло, где мы снимали три комнаты с кухней с видом на Осло-фьорд и Бюнне-фьорд на втором этаже трехэтажного швейцарского шале на Нильсенбакке у станции Льян.
Он не собирался жить в деревне подолгу, не дольше, чем надо, чтобы народ привык видеть, как он на том берегу реки залезает на крышу, или возится на дворе, или сидит на камне у реки и думает, как он говорил, потому что ему нужна вода поблизости, когда он делает это. Тоже не сказать чтоб нормально, но что толку об этом говорить, и они притерпелись к тому, как он идет с обвисшим рюкзаком через плечо лугом Баркалда в магазин примерно в то время, когда приходит автобус из Эльверума и Иннебюгды и возвращается потом домой с покупками и прочим. Но каждый раз, когда он под покровом ночи возвращался из Швеции, передав что нужно кому следует, оказывалось, что, прежде чем уезжать в Осло, ему надо бы доделать еще кое-что тут. И выходило так, что он задерживался чуть дольше и снова косил траву или чинил трубу, потому что она треснула от крыши доверху и того гляди рассыплется, снесет черепицу и та свалится кому-нибудь на голову, и так он за пару лет сплел себе здесь альтернативную жизнь, о который мы в качестве его столичной семьи ничего не знали. Я не так формулировал себе все это, сидя у Франца на кухне и слушая его рассказы о том, что мой отец, оказывается, еще пять лет назад обосновался на этом заброшенном сэтере Баркалда, чтобы на втором году войны в Норвегии стать последним звеном в переправке через границу партизанской почты и беженцев и запустить то, что они в Сопротивлении называли «трафиком». Лишь много лет спустя до меня дошло, как это у него состроилось. В домике у реки он проводил столько же времени, сколько с нами в квартире у Бюнне-фьорда. Мы не знали и не должны были знать именно этого: что он уезжает все время в одно и то же место и где оно находится. Мы вообще понятия не имели, куда он отлучается. Он уезжал, потом приезжал. Через неделю или через месяц. И мы приучились жить без него, день за днем, неделю за неделей. Но я думал о нем непрестанно.
Все, что рассказал Франц, было для меня новостью. Но у меня не было причин сомневаться в его словах. С чего вдруг он решил рассказать мне о том, о чем ничего не рассказывал отец, – вот какой вопрос мучил меня, пока я слушал Франца, но я не мог решить, позволительно ли спросить его об этом и сумею ли я дальше жить с полученным ответом, потому что он наверняка считал, что я слышал все это много раз и теперь наслаждаюсь новой версией хорошо мне известных событий. У меня не умещалось в голове, что ни друг мой Юн, ни его мать, ни его отец, ни продавец в магазине, с которым мы часто болтали, ни, наконец, Баркалд или кто угодно другой не сказал мне, черт подери, что всего четыре года назад мой отец так много времени проводил в этой деревне, что считался за местного, хотя сэтер и лежит на той стороне реки. Я не задал Францу этого вопроса.
В деревне был постоянный немецкий пост, он расположился на одном из ближайших к магазину и церкви хуторов. Немцы без церемоний заняли основной дом и выселили хозяев в бывшую батрацкую избушку, где и так было не повернуться. У моста поставили патруль. У него был автомат через плечо и сигарета во рту – когда поблизости не видно было никого из своих. Иногда он вообще опускался на камень, клал автомат на землю перед собой, снимал каску и долго, остервенело драл ногтями прилипшие к голове волосы, закуривал сигарету и глядел промеж расставленных коленей на начищенные сапоги, пока сигарета не догорала до кончиков пальцев, но и тогда не вдруг мог подняться снова на ноги. У него за спиной река скатывалась с порогов с неизменным монотонным звуком, по крайней мере, насколько он мог различать, здесь была скука, ничего не происходило, война шла где-то в других местах. Но лучше так, чем Восточный фронт.
Если отец выбирал этот путь: через мост, мимо дома Франца и по узкой тропке с той стороны реки, – он неизменно останавливался поболтать с немецким патрулем, потому что у отца был отличный немецкий, тогда многие хорошо говорили на нем, вплоть до середины семидесятых немецкий хочешь не хочешь учили в школе. Патрульные менялись, но все были на одно лицо, мало кто из жителей отличал их друг от друга, а тем более давал себе труд подумать об этом, глаза их не видели никакого патруля, а немецкие слова сами выветривались из памяти. Но отец быстро выяснил, кто где живет в Германии, женат ли, и увлекается ли футболом, или плаванием, или же, скажем, бегом, и не скучает ли без мамы. Они были лет на десять – пятнадцать младше его, чуть не в разы, и в его голосе звучала забота, до которой не снисходил тут никто. Из своего окна Франц видел, как мой отец стоит рядом с человеком в зелено-мышиной униформе, мальчишкой скорее, и они предлагают друг другу сигарету, и тот, кому не удалось в этот раз угостить сигареткой, торопится дать огоньку и прикрывает огонь ладонью, хотя безветренно, и они доверительно склоняются к маленькому пламени, которое отбрасывает им на лица золотистую тень, если уже вечер, и они стоят среди тишины в недвижном воздухе и искуривают сигареты до куцых окурков, которые гаснут, растертые один норвежской подметкой, второй – немецкой, потом отец вскидывает руку и говорит: «Gute Nacht» – и слышит в ответ благодарное «gute Nacht». Улыбаясь про себя, отец пересекал мост и шел дальше к себе на сэтер с серым изгвазданным рюкзаком за плечами и тем, что лежало в рюкзаке. И отец отлично знал, что, если он вдруг сделает что-то неожиданное: резко обернется или припустит бегом, то этот милый немецкий мальчик немедленно сорвет с плеча автомат и заорет: «Halt!», а если отец не остановится, вслед ему раздастся очередь и, может, убьет его.
А в другие разы отец шел вдоль главной дороги, неся потуже набитый рюкзак, сворачивал напрямки через луг Баркалда и на лодке переправлялся на тот берег. Он приветственно махал всем, кому попадался на глаза, и немцам и норвежцам, и никто его не останавливал. Они знали, кто он такой – человек, нанятый Баркалдом привести в порядок сэтер, они перепроверили это у Баркалда, и он сказал то же самое, и каждый из них трижды заглянул на сэтер и видел там кучи инструмента и пару романов Гамсуна, «Пан» и «Голод», вполне приемлемое чтение, но ничего подозрительного они не заметили. Отец был известен как человек, время от времени надолго уезжающий из деревни, потому что у него есть подобные работы и в других местах и удостоверение жителя приграничной зоны и прочие бумаги в полном порядке.
Два года, зимой и летом, отец обеспечивал «трафик», и, если его не было в деревне, кто-нибудь из здешних проходил последний отрезок пути, через границу; несколько раз Франц и мама Юна, если ей удавалось вырваться, но это было далеко не безопасно, потому что в деревне все знали о каждом всё, включая его привычки и распорядок жизни, и любое отклонение замечалось и записывалось впрок в кондуит, который мы ведем друг на друга. Но потом отец возвращался, и те, кому не следовало знать о «трафике», оставались в своем неведении. Я, к примеру, и мои мама с сестрой. Иногда отец сам забирал «посылочку» прямо из автобуса или магазина, до открытия или после закрытия, иногда это делала мама Юна и прихватывала с собой на тот берег вместе с едой, которую она частенько готовила по уговору с Баркалдом, потому что надо же кормить работника, во всяком случае, это должно было выглядеть так, как будто именно с плитой отец не мог управиться сам, без женского догляда и участия. Мне казалось довольно странным, чтобы ему требовалась помощь для стряпни, когда он легко справлялся почти со всем на свете. На самом деле он готовил не хуже матери, я это знал, потому что несколько раз пробовал разносолы его приготовления, когда ему не удавалось отвертеться от этого дела, но он был малость ленив по части готовки, так что когда мы жили вдвоем, то переходили на «простой крестьянский стол», как это называлось у нас. Яичницу по преимуществу. Меня это устраивало. Мама готовила нам «полноценное питание», как она выражалась. По крайней мере, когда у нас были деньги, что случалось не всегда.
Но мама Юна переправлялась на сэтер на лодке раза два в неделю, с едой или без, с «посылочками» или нет, чтобы быть для отца поварихой, чтобы поддерживать в нем жизнь полноценным питанием и чтобы он не ослаб и не захирел от одной и той же примитивной пищи, на которую в основном пересаживаются живущие в одиночестве мужчины, что мешает им нормально выполнять работу, на которую их наняли. Во всяком случае, так излагал историю Баркалд, захаживая в магазин.
Отец Юна ни в чем участия не принимал. Он не был против, по крайней мере, он ни разу не сказал этого вслух, во всяком случае, Франц ничего такого не слышал, но отец Юна не желал иметь никаких дел с «трафиком». Чуть что заваривалось, он отворачивался и смотрел в сторону. И когда жена его с корзинкой в руке шла к реке, чтобы сесть в красную лодку и плыть к моему отцу, он тоже смотрел в другую сторону. И когда как-то в сумерках в полной тишине в его хлев препроводили явно городского мужчину в шляпе, двумя руками тащившего перевязанный чемодан, и оставили одного сидеть в его нелепой здесь одежде на колесе от телеги и ждать, пока сгустится тьма, а ночью переправили его на лодке вверх по реке, всё без единого звука: провели через двор, потом вниз к мосткам, где никто не сказал ни слова и не зажег огня, то отец Юна никак не высказался и про это, ни тогда, ни позже, хотя вслед за этим мужчиной последовали другие, потому что теперь через деревню в Швецию переправляли не только «посылочки».
Наступила поздняя осень, снег уже лег, но река еще не замерзла, по ней можно было идти на лодке. Что оказалось удачно, потому что на заре, раньше, чем петух оторвал зад от насеста, как сформулировал это Франц, на большой дороге высадили мужчину в костюме и он побрел в темноте по заснеженной дорожке с рюкзаком за спиной на хутор, где Жил Юн и его семья. На мужчине были ботиночки на тонкой подошве, он мерз отчаянно и неприкрыто в своих парусиновых штанах, ноги дрожали так, что штанины заворачивались и ходили волной от бедер до ботиночек, так показалось маме Юна, когда она вышла на крыльцо в накинутой на плечи шали и с пледом под мышкой. Зрелище было то еще, рассказывала она Францу по возвращении из Швеции в мае сорок пятого, – как цирковой номер почти. Она протянула мужчине плед и проводила в сарай, где ему надо было зарыться в сено ждать весь день, часов двенадцать примерно, потому что темнело в пять и пять примерно и было, когда он появился на дороге к дому. Но мужчина не дотерпел, сломался раньше. Он сошел с ума, объясняла мама Юна, в два часа пополудни он съехал с глузду и взбесился. Принялся выкрикивать какие-то странные вещи, схватил железный прут и принялся крушить все вокруг, так что с опорных балок брызнули щепки, а несколько спиц сенной телеги, стоявшей там же, лопнули. Его было хорошо слышно во дворе и, вероятно, от самой реки, потому что в стоячем воздухе звуки далеко разносятся над водой, наверняка и с дороги тоже, а по ней три-четыре раза в день проезжали немцы, и они всегда были настороже, старались, во всяком случае. И животные в хлеву рядом с сараем напугались. Брамина била копытом, коровы мычали в своих стойлах, как будто на дворе весна и они рвутся из хлева наружу. Это буйство требовалось прекратить, и немедленно.
Мужчину надо было убрать из хлева. И отправить вверх по реке, не теряя ни секунды. Но был день, светло и видно далеко-далеко насквозь, потому что деревья стояли голые, а снег обрисовывал силуэты, к тому же отрезок реки от хутора к сэтеру просматривался с дороги. Но куда деваться? Юн еще не вернулся из школы, близнецы играли на кухне. Она слышала, как они возятся на полу и смеются. Она тихо надела теплую куртку, шапку, варежки, спустилась с крылечка и пошла через двор в сарай, тем временем проснулся на диване ее муж и сел, я понимаю, что перегибаю палку, я не могу знать, как там все было на самом деле, но я совершенно уверен, что призрак еще одного человека возник вдруг в гостиной, поднял отца Юна с дивана и выгнал в прихожую, где никогда не выключалась лампочка без абажура, чтобы идущие в темноте видели свет из окошка и не сбились с дороги, и где прямо над крюком висела в желтой крашеной раме фотография его отца с бородой, и вот он стоит там в одних носках, дверь распахнулась наружу, она, конечно же, распахивалась наружу, чтобы во время непогоды снег не наметало внутрь, и теперь он мог смотреть только в одном направлении – как она идет. Она спиной почувствовала, что он стоит в дверях, это было неожиданно и сулило нехорошее, но она не обернулась, вынула палку, на которую был заперт сарай, вошла внутрь и пропала там навсегда. Он стоял и смотрел. Наконец она вышла, ведя за собой незнакомого мужчину. На ней были теплые сапоги и куртка, на нем серый костюмчик и рюкзак за спиной. Она дала ему поддеть свитер под костюм, который из-за этого топорщился и сбивался колбасками, простившись с элегантностью. Оружие у него отняли, и она почти тащила его, сейчас он был покорная, безвольная размазня, к тому же обессилевшая после такого неожиданного для него самого приступа. На полдороге к мосткам, проходя мимо дома, она вдруг оглянулась. На снегу отчетливо виднелись их следы. Его от дороги до дома, и ее от дома к сараю, и, наконец, две пары следов от сарая до того места, где они стояли. Отпечатки летних городских ботиночек кололи глаза, здесь в такое время года ничего подобного не увидишь, она задумалась и закусила губу, горожанин тут же стал дергать и тянуть ее за рукав.
– Идем, – нудел он тихим тонким голосом, – ну идем же, – точно маленький избалованный ребенок.
Она посмотрела на мужа, по-прежнему стоявшего в дверях. Он был здоровый мужик, он заполнял собой весь проем, даже свет не пробивался. Она сказала:
– Ты должен пройти по его следам. У тебя нет выбора.
Когда она так сказала, что-то застыло в его лице, но она этого не заметила, потому что человек в костюме потерял терпение, отпустил ее руку и был уже почти у мостков, и она заспешила следом за ним, они свернули за дом и пропали из виду.
Он стоял в прихожей и смотрел на двор. В тишине он услышал, как они сели в лодку, вложили весла в уключины, тихий всплеск, когда весла легли в воду, и ритмичный скрип железа о дерево, когда его жена налегла на весла и стала грести своими сильными руками, которые он так хорошо знал по объятиям, помнил по ночам прожитых вместе лет. Она в который раз спешила на сэтер, к этому пришлому из Осло. Если что-то было не так, она спешила к нему, если что-то намечалось, она спешила к нему, а теперь вот еще с дрожащим придурком из того же города, и все это средь бела дня в жестком от снега свете, и он последний раз взглянул на двор и принял решение о котором еще пожалеет, закрыл дверь, вернулся в гостиную и сел на диван. Близнецы по-прежнему играли в кухне, он хорошо слышал их через стену. Играли, как будто бы жизнь оставалась прежней.








