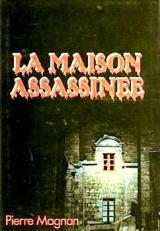
Текст книги "Дом убийств"
Автор книги: Пьер Маньян
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Он не отводил глаз от портика, где постепенно меркнул свет. Внезапно светлый прямоугольник пересекла какая-то темная масса: ведшие сюда четыре ступени за прошедшие годы полностью обрушились, и взобраться на площадку можно было, только подтянувшись на руках, как сделал он сам.
Новоприбывший медленно выпрямился и шагнул вперед. Путешественник смотрел, как он приближается, глядя на него лишенными выражения глазами, которые, однако, казалось, пронизывали его насквозь. Эта атлетическая фигура двигалась на удивление легко и бесшумно, сливаясь с приземистой колонной, из тени которой она возникла и служила как бы ее продолжением – будто человек нес колонну на своих плечах.
Подойдя вплотную, он протянул мужчине в трауре записку.
– Это вы написали?
– Да.
– Меня зовут Серафен Монж.
– Знаю. Когда я увидел вас впервые, вы лежали в колыбели и надрывались от плача, потому что были голодны… – Человек в трауре понизил голос. – Я был там… в день, когда совершилось преступление.
– Вы там были?
– Да. Сейчас я вам все расскажу. Постарайтесь выслушать, не прерывая. Судить меня будете потом.
– Я не судья, чтобы судить.
– Нет, вы имеете на это право… как потомок. Так вот, я был там. Я распахнул дверь – помнится, даже не постучавшись, настолько был уверен, что меня примут с распростертыми объятиями, – и сразу же понял, что явился некстати. Ваш отец нахмурился, как будто хотел сказать: «Тебя только здесь не хватало!» Вид у него был какой-то затравленный, он нервно расхаживал взад-вперед. Ваша мать поспешно спрятала грудь – думаю, она как раз собиралась вас покормить. Было ясно, что я – отнюдь не желанный гость. Но что вы хотите: я отшагал больше ста километров под дождем, поливавшим меня от самого Марселя. И потом, в ту пору мне было двадцать лет – юноша, опьяненный свободой и открывавшимся перед ним будущим! Другие казались мне тусклыми фигурами на гобелене, среди которых только я один живой. – Человек в трауре вздохнул. – Вы, должно быть, удивляетесь про себя, зачем я вас сюда вызвал?
– Нет, – сказал Серафен. – Говорите. Итак, вы были в кухне. Моя мать собиралась дать мне грудь. Мой отец расхаживал взад-вперед…
– Да. Остановившись, он схватил меня за руку и поднял крышку люка. Господи, как только после всего, что произошло, я могу произносить это слово без содрогания! Он проводил меня по крутой лестнице вниз, туда, где размещались старые конюшни. Потом принес каравай домашнего хлеба, колбасу и сыр – все это, не говоря ни слова, ни о чем меня не спросив. Посреди лба у него залегла глубокая морщина, которая не разглаживалась.
Серафен слушал, не отрывая жадного взгляда от губ незнакомца. Старый Бюрль рассказывал о мертвых. Этот же говорил о живых. Его слова рисовали Серафену живого отца, спускающегося по крутой лестнице с хлебом в руках; живую мать, смущенную нежданным вторжением чужака, стыдливо прикрывающую грудь.
– Он устроил меня на мешках с почтой, – продолжал между тем человек в трауре. – Как сейчас помню: пахло сургучом, с джутовых мешков свисали большие красные печати. Было довольно жестко, зато тепло, а главное – сухо. Я устроился поудобнее и принялся за еду. Должно быть, я уснул – как был, с последним недожеванным куском во рту. Однако сон мой оказался недолгим. Меня разбудил какой-то глухой шум, тяжелый удар, сотрясший балки. От неожиданности я вскочил. Мне хотелось пить: ваш отец забыл оставить мне воды. На маленьком столике стоял фонарь. Я взял его и осветил ведра, из которых поили лошадей. Мне нередко случалось довольствоваться таким источником, однако ведра были пусты. Тогда я сказал себе: «Раз уж тебе приспичило напиться, ничего не поделаешь, придется побеспокоить хозяев».
Он помолчал и повторил:
– Придется побеспокоить хозяев… В темноте я подошел к лестнице. Лошади вели себя беспокойно: фыркали, вздыхали, вытягивали шеи к своим корытам. Но… в двадцать лет на такие мелочи не обращаешь внимания.
Человек в трауре вздохнул, потом возобновил рассказ.
– Наверх вели двадцать две ступеньки. О, впоследствии я не раз пересчитывал их в своих воспоминаниях! Помню еще, моя рука приподняла крышку и оставалась в таком положении минуту, может, больше… До меня не сразу дошло, что происходит. То есть, чтобы это увидеть, понадобилось всего несколько секунд, а вот осознать…
Он тяжело опустился на усыпанную обломками ступеньку алтаря, как будто у него вдруг подкосились ноги от того, что еще только предстояло сказать.
– Не сразу… – повторил он. – Я увидел что-то вроде красного шпагата, который, раскручиваясь, катился прямо ко мне, медленно, не собирая пыли, словно увлекаемый собственным весом. Как вам сказать… Он катился, попадая в трещины между плитами, пока не достиг края люка – и тут он будто взорвался, хлынул вниз, так что у меня оказались забрызганными штаны и башмаки. Машинально я пощупал капли – они были теплыми… Однако, прежде чем я успел задуматься, меньше чем в метре от меня я увидел широкую юбку и корсаж, массу спутанных волос… Боже праведный! Все это ползло, издавая жуткий звук, наподобие продырявленных кузнечных мехов, а впереди была рука с растопыренными пальцами, и эта рука тянулась к колыбели, где были вы; она почти дотянулась, но упала и замерла, так и не успев коснуться колыбели…
– Мама, – тихо проговорил Серафен.
– Потом я увидел еще, как в тумане – понимаете, лампа опрокинулась, и единственное освещение давал огонь в очаге – двоих схватившихся мужчин. Одним из них был ваш отец. В руке он держал что-то блестящее и красное, у второго тоже было оружие, и они старались перерезать друг другу горло, молча, без единого звука. Ваш отец как будто начал одерживать верх. Ему удалось оттолкнуть противника, тот отлетел к очагу, потерял равновесие и опрокинулся на спину, однако, падая, ухватился за вертел, который сорвал со стены. Он сжимал его в ту минуту, когда ваш отец бросился на него и напоролся на острие. С вертелом, торчавшим в теле, ваш отец сделал еще шаг, два шага… Он уперся обеими руками в камни очага – и тогда тот, второй…
– Второй? – задыхаясь, спросил Серафен. – Вы уверены, что там был только один человек?
– Да. Уверен. Один человек, сжимавший в руке что-то блестящее. Он подскочил к вашему отцу, запрокинул ему голову и полоснул по горлу…
– Один человек… – повторил Серафен.
– Да. Впрочем, в комнате был еще кто-то. Кажется, старик. Он сидел в кресле перед очагом, уронив руки на подлокотники и уставясь в потолок. Старик с большой красной бородой…
– А того человека, – перебил Серафен, – вы хорошо его рассмотрели?
– Нет. Помню черный силуэт. Блестящий глаз. Пару ног, руки – немного похожие на ваши… Еще видел плечи, спину… Я же сказал вам: лампа опрокинулась и погасла. И потом – я до смерти перепугался! Это сейчас я рассказываю долго, а тогда сразу же захлопнул крышку люка. Она чмокнула, соприкоснувшись с ручейком застывающей крови, – никогда мне не забыть этого звука. Я говорил себе: если тот человек его услыхал, мне конец. Мне было жутко, понимаете – жутко! Я обезумел от страха. Вам случалось такое испытывать?
Серафен поднял глаза к верхушкам колонн, теперь совершенно невидимым в темноте нефа.
– О да! – прошептал он.
– Тогда вы должны понять. Страх отнял у меня способность соображать. Он мучил меня на протяжении многих месяцев, даже лет. Я скатился по лестнице и забился в свой угол. И там я понял, что когда тот человек, наверху, уйдет, я останусь наедине с трупами, перепачканный их кровью, которая, стекая в люк, обрызгала мою обувь и одежду. Мой рассказ о неизвестном человеке, которого я толком и не рассмотрел, кого, возможно, никогда не найдут – кто бы в него поверил? А мои бумаги? Они вполне могли быть поддельными. В те дни по Франции бродило немало таких парней, как я – веселых, шумных, перекати-поле. Жандармы и власти их недолюбливали, смотрели искоса. Что было, если б за меня взялись жандармы?
Серафен почувствовал, что при этом воспоминании его собеседника еще и сегодня пробирает дрожь.
– Ужас, который я испытал при этой мысли, превосходил даже страх, охвативший меня, когда я поднял крышку люка. Теперь я был одержим страхом – перед людьми, перед эшафотом. Потому что кто бы мне поверил?
Человек сделал паузу.
– Тогда, – продолжал он после минутного молчания, – я схватил свою трость, шляпу и дорожный мешок, в который сунул остатки хлеба – потом он мне очень пригодился, я съел все, до последней крошки. Как мог, поправил мешки, на которых лежал, и выскочил через воротца конюшни. Я бежал, как безумный. Я и был безумен. Помню, я увидел колодец, а перед ним… стоял человек. Он был повернут ко мне спиной, но мне показалось, он услышал мои шаги и сейчас обернется. Я отпрянул назад и спрятался за тележкой. Между тем человек наклонился, поискал что-то на земле, потом размахнулся и бросил это в колодец. Что-то тяжелое… Я услышал: «плюх!»
– Один человек… – пробормотал Серафен.
– Да. Всего один. И я его не разглядел. Шляпа отбрасывала тень на его лицо. Помню только, что был он безбородый. Он ступал тяжело, ссутулясь. Не могу поклясться, но в какой-то момент мне показалось, что у него вздрагивают плечи – как будто он плакал…
– И это был тот самый человек, который у вас на глазах проткнул вертелом моего отца?
– Да, это совершенно точно.
– И не было никого другого?
– Никого.
– И он бросил что-то в колодец?
– Да. И потом побрел, понурясь, в сторону железнодорожной насыпи. А я пустился наутек. Не разбирая дороги, через лес, через холмы. Я бежал прямо на север. Вместо компаса мне служил запах гор. Так я очутился возле этой церкви. Не знаю ее названия…
– Церковь святого Доната, – машинально уронил Серафен.
– Я молился, – продолжал человек в трауре, – и получил совет: беги! Что я и сделал.
– Один человек… – прошептал Серафен. – И вы не знаете, как он выглядел?
– Двадцать пять лет, – сказал незнакомец. – С тех пор прошла целая жизнь. Я только что потерял жену… Нет, я не знаю. Но даже если бы смог вам его описать, что бы это дало? Как он выглядит теперь, четверть века спустя? А война? Возможно, его давно нет в живых.
– Если б он умер, – проговорил Серафен, – я почувствовал бы это здесь, – рукой он указал себе на грудь. Человек в трауре смотрел на него. Серафен не шевелился, он продолжал стоять, прислонившись спиной к колонне, как будто врос в нее.
– Четверть века… – устало повторил путешественник. – Вы слишком молоды, чтобы знать, что это такое…
Он умолк, озадаченный. В полутьме ему показалось, что Серафен смеется. Внезапно Серафен повернулся и зашагал в направлении слабого света, который брезжил над портиком.
Человек в трауре последовал за ним.
– Не могу ли я, – спросил он неуверенно, – что-нибудь сделать для вас? Знаете… Как бы это сказать… Словом, я богат и…
Тут он прикусил язык, вспомнив о коробке из-под сахара, полной золотых луидоров.
– А я, – сказал Серафен, – еще беднее, чем вы думаете. Я был отнят от материнской груди трех недель от роду. Всю мою жизнь я не знал, что такое мать. Единственное, что от нее осталось… это страшный сон, который командует мною. Вот вы говорите, двадцать пять лет… По-вашему, это много? А она ничуть не переменилась, у нее все так же перерезано горло и… – он едва не добавил: «на сосках последние капли молока, которые предназначались мне», однако сдержался. – Я знаю, она не простила, – продолжал он. – И я не прощаю. А вы, с вашей исповедью, пришли слишком поздно… Слишком поздно…
И он ушел, не бросив ни кивка, ни взгляда, ни слова признательности этому подавленному человеку, который был богачом.
Сухие листья с печальным шелестом устилали землю вокруг церкви. Настала ночь.
«Я должен был догадаться, – говорил впоследствии мсье Англес, – в первый и последний раз он попросил у меня день отпуска. Если не ошибаюсь, это был понедельник…»
Серафен спал неспокойно, урывками, преследуемый бессвязными мыслями. Один человек. Колодец. Он бросил что-то в колодец. И вся эта бойня – дело рук его одного. А как же тогда двое других? Выходит, он ошибался, хотел убить двоих невиновных… Или одного невиновного и одного виноватого? Правду знал теперь только один человек: тот, кто остался в живых, люрский булочник Селеста Дормэр. Значит, это он убрал тех двоих… Но почему? Колодец… Человек, которого видел незнакомец, бросил что-то в колодец. Что-то, с помощью чего его можно было уличить. В тот самый колодец, к которому Серафен не смел приблизиться, преследуемый призраком своей матери. Кстати, есть ли там внутри вода? И сколько? Метр, два? Что-то ему мешало, он не мог заставить себя заглянуть в колодец. Как отыскать лежащую на дне улику? Что с ней сталось по прошествии четверти века?
Серафен был у себя дома, в объятом ночью Пейрюи, и, заложив руки за голову, вслушивался в плеск фонтана. Он подумал о Мари Дормэр. Говорят, бедняжка не на шутку больна. Это скверно. Она так любила жизнь, была такой импульсивной. Серафен сказал себе, что должен с ней повидаться. Возможно, девушке полегчает, если она узнает, что он тревожится о ее здоровье. В любом случае, это его ни к чему не обязывает. Разве он не сказал ей, что не может любить никого?
Внезапно он сел на своей постели. Образ Мари, сидящей на краю колодца, когда он едва не столкнул ее вниз, пробудил в его душе какое-то тревожное воспоминание. Однажды он слышал, как мсье Англес разговаривал с коллегой-геодезистом. Серафен тогда запомнил его слова, а сказал он вот что: «Здешние колодцы почти все высохли. Когда компания, разрабатывавшая рудники в Сигонсе, в 1910 году расширила свою деятельность, проложенные ею новые галереи нарушили водоносные пласты и, особенно, сифоны. Так что вода ушла почти изо всех колодцев».
На следующее утро Серафен попросил у мсье Англеса отпуск и отправился на велосипеде по дороге в Форкалькье. Там он купил на рынке бухту каната, пеньковый трос и ацетиленовую лампу. Рабочие, садившиеся в грузовик, увидев его, не могли удержаться от шуток.
– Эй, Серафен! – кричали они. – Да ты, никак, вешаться собрался?
– Возможно, – буркнул он в ответ.
К полудню он был в Ля Бюрльер. Триканот, которая, по обыкновению, пасла своих коз под дубами, рассказывала потом, что тоже подумала, уж не решил ли он удавиться. По ее словам, он четверть часа просидел под одним из кипарисов, не шевелясь и уставясь на колодец. Триканот охватило любопытство, и она больше не сводила с него глаз. Старуха спряталась за большим кустом розмарина и оттуда принялась следить за Серафеном.
«Он уселся, – рассказывала козья пастушка, – на скамью под кипарисом, размотал свою веревку и через равные промежутки – примерно в полметра – начал вязать на ней узлы. Ох и долго же провозился! А потом встал и ушел. Пошел он в сторону дороги и пропадал там добрых десять минут. Велосипед и веревка лежали под деревом, а на скамье стояла карбидная лампа. А когда он вернулся, то нес на плече железнодорожную шпалу, которую, должно быть, нашел брошенной у путей. И тут… как вам сказать? Я видела, как он идет с этой шпалой. Мне-то, конечно, нипочем не поднять, но для такого силача – груз небольшой. И все же… Ну, сколько там было от кипариса до колодца? Метров пятьдесят. Так вот, он останавливался через каждые три метра. Из моего укрытия я хорошо видела его лицо. Он двигался осторожно, будто выслеживающий добычу охотник. То застынет на месте – даже ногу на землю не поставит, то опять – вперед. Когда он подошел достаточно близко, я заметила, какой странный был у него взгляд. Причем смотрел он не на колодец, а на бассейн, где раньше стирали белье. Знаете, этот бассейн, который сейчас завален сухими листьями? Бог ты мой! Он так на него уставился, будто ждал, что оттуда явится сам Антихрист! Похоже, парень чего-то здорово боялся. Наконец он добрался до края бассейна и положил шпалу на облицовку, выждал еще немного – с таким видом, будто готов в любую секунду отскочить назад, а потом поднял свой брус – словно это была сухая ветка – и пристроил поперек колодца. Я смотрела на него, а он – на бассейн. Лицо у него стало какое-то удивленное. Он подошел к бассейну, зарылся руками в листья и начал их перемешивать. Зачем? Да кто ж его знает? Быть может, что-то искал… Во всяком случае, копался он так минуты с три…»
Нет, в этот раз, несмотря на все его опасения, Жирарда не появилась из своей полной сухих листьев гробницы, чтобы напомнить сыну о его долге; словно из этого мрачного места был наконец изгнан поселившийся здесь злой дух, и дорога расчищена от обломков – остается только идти вперед к цели.
Серафен положил шпалу поперек колодца, так, чтобы концы выходили за его края. Он обвязал вокруг нее канат, а конец спустил вниз. Потом зажег ацетиленовую лампу, укрепленную на пеньковом тросе, отрегулировал ее и, наклонившись, метр за метром, стал осторожно опускать в колодец. Белое пламя освещало круг желтоватого известняка, ажурные веточки заразихи или бледную зелень папоротника, растущего без доступа солнца. Серафен все медленнее пропускал веревку между пальцами, внимательно вглядываясь в темноту под лампой. Вскоре ею была освещена вся внутренность колодца, прямо под кружком света Серафен увидел дно. Он продолжал пропускать трос между пальцами, сантиметр за сантиметром, пока не почувствовал, что натяжение ослабло – лампа коснулась дна. Она не погасла: пламя по-прежнему было высоким и ярким.
Серафен привязал верхний конец троса к одному из прутьев венчавшей колодец арки, перешагнул через край, ухватился за лежавшую поперек шпалу и потом – за свисавший вниз канат. Медленно, не торопясь, минуя узел за узлом, он спустился в колодец. По подсчетам Серафена, его глубина должна была составлять около десяти метров. Он обнаружил на стенках концентрические круги, которые в свое время оставила вода. Расположенные на разной высоте, они знаменовали благоприятные или неблагоприятные годы, когда воды было в изобилии, либо, напротив, не хватало.
Когда Серафен поставил ногу на твердый белый камень, первым, что бросилось ему в глаза, был освещенный ацетиленовым пламенем череп, который глядел на него пустыми глазницами, скаля в ухмылке нетронутые кариесом зубы. Скелет застыл в позе глубокой задумчивости, застрявши под сводом, уходившим, точно грот, на два-три метра в глубь искрящейся известковой скалы, служившей основанием колодца. Под согнутыми ногами скелета тоненьким ручейком бежала вода, с бормотанием исчезая в жерле подземной воронки.
Скелет был совершенно целым, потому что окаменел, благодаря отложениям кальция, намертво спаявшим его кости. Судя по состоянию зубов, останки принадлежали человеку сравнительно молодому. На костях перекрещивались ремни портупей, тоже обызвесткованные, к широкому, с пряжкой, поясу крепилось что-то вроде патронной сумки. Серафен разглядывал скелет с отрешенным спокойствием человека, который настолько часто сталкивался со смертью, что привык смотреть ей в лицо. Но его заинтересовала одна вещь – какая-то закованная в известковые отложения бугорчатая лента вилась по дну колодца до огромного круглого голыша. Присмотревшись повнимательней, Серафен обнаружил, что это кнут, другой конец которого обернут вокруг превратившихся в окаменевшую магму ног мертвеца, и понял, что человека, чьи останки он видит перед собой, сбросили в колодец со связанными за спиной руками и камнем у ног в роли балласта. Вот только был ли он тогда уже мертв?
Серафен запрокинул голову и увидел вверху черную дыру неба с тускло мерцавшими звездами. Ля Бюрльер, родовое гнездо Монжей. Когда-то один из его предков столкнул этого человека в колодец, а даже если не приложил к тому рук сам, должен был знать о преступлении… Меч Правосудия, который Серафен держал занесенным с тех пор, как обнаружил долговые обязательства, внезапно сломался у него в руке. Потомок убийц или пособников убийства, по какому праву он взялся карать других за их провинности? Им вдруг овладело болезненное любопытство. Он сорвал с пояса окаменевшую сумку, и от резкого движения скелет обрушился на него, точно сломанная ветром сухая ветвь. Кости рассыпались, череп откатился до горловины воронки, где, журча, исчезал ручеек. Зажав в руке сумку, Серафен вынул из кармана перочинный нож и принялся счищать с пряжки известковую скорлупу. Внутри было пусто, если не считать бесформенной полужидкой массы, еще мягкой и клейкой, пахнущей сургучом. Серафен ковырнул ее ножом. Лезвие скользнуло по металлу – это была потемневшая от времени монета. Позабыв, что искал совсем другую вещь, Серафен поскреб ее и поднес к лампе, осветив лицевую сторону с грушевидным профилем короля-буржуа. Монета была идентична тем, которые заполняли коробку из-под сахара, хранившуюся в тайнике кухни Ля Бюрльер. Выходит, с момента преступления прошло больше семидесяти лет, над Францией прокатились две войны. Его отец, который еще не родился в царствование Луи-Филиппа, не мог совершить этого убийства, даже если воспользовался его плодами. И Жирарда, его мать, не принадлежала к разбойничьему семейству, но ей перерезали горло, и он должен отомстить.
Все еще стоя на коленях, Серафен повернулся, забыв про скелет. Под свернувшимся кольцами канатом он обнаружил два каких-то плоских предмета, тоже соединенных кожаным ремнем, но еще не покрытых известковыми отложениями. Кожа была вытертой, но сохранила упругость. Серафен разрезал ремень с помощью перочинного ножа. Он подобрал упавшие на землю предметы, внимательно осмотрел при свете лампы, завернул в носовой платок и сунул в карман. Потом он выпрямился, отряхнул колени и начал медленно, узел за узлом, подниматься на поверхность.
«Я видела, как он выбрался из колодца, – рассказывала Триканот. – При этом он не выглядел более взволнованным или растерянным, чем когда спускался. Он оставил у сруба свернутый канат, пеньковый трос и зажженную лампу – несмотря на ярко светившее солнце, а потом сел на свой велосипед и уехал – шлеп-шлеп. Но теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, он знал, куда направляется…»
Да, он знал, куда едет. Разбитая повозками дорога вилась среди оливковых деревьев, и стоящий на отшибе дом показался не сразу. Здесь редко ходили – ведущая к нему тропинка поросла пастушьей сумкой, пыреем и перекати-полем. Она обрывалась прямо у порога.
Дом был большой, квадратный, в два этажа, под четырехскатной крышей. Ставни на окнах – плотно закрыты и, судя по всему, уже давно. Слева от дома, из зарослей юкки, поднимался одинокий кипарис, такой же старый, как кипарисы Ля Бюрльер. Его вершина, раскачиваясь под ветром, мелкими черточками прочерчивала вечернее небо.
Жилым казался только нижний этаж с незапертыми ставнями на трех больших окнах. Фронтон над распахнутой дверью украшал высеченный в камне листок аканта. Тут же лежал старый велосипед с багажником, небрежно прислоненный к стене, как будто хозяин бросил его второпях.
Серафен оставил свой велосипед у кипариса. Какое-то время он стоял неподвижно, разглядывая фасад. Дверь была завешена мешковиной, которую колебал сквозняк. Укрывшись за ней, можно было, самому оставаясь невидимым, следить за всем, что происходило на дороге. Зато для незваного гостя этот занавес был непроницаем, словно уста оракула.
Серафен подошел к дому и приподнял край мешковины. За ней оказалась вторая, внутренняя створка, которую никогда не закрывали, потому что в углу у наличника росло несколько одуванчиков. Расположенная против входа темная лестница вела на второй этаж, откуда сочился запах сырости и плесени. Слева, в стене, была закрытая на задвижку дверь. Серафен отодвинул засов и толкнул ее – дверь со скрипом повернулась на проржавевших петлях, скребя плиточный пол.
В просторной комнате, куда свет проникал через три фасадных окна, были свалены в беспорядке различные предметы, необходимые в повседневном быту. На одном из окон была задернута тяжелая штора, не позволявшая как следует рассмотреть то, что находилось в глубине комнаты. На мраморной полке украшенного гербом камина Серафен увидел – и это было первым, что бросилось ему в глаза, – картину в раме, завешенную черной вуалью.
Серафен медленно обвел взглядом эту холодную комнату, из которой ушла жизнь. На полу вокруг письменного стола-бюро, покрытого пылью, громоздилось все, что падало с него в течение многих лет, сметаясь, чтобы освободить место. Груда свежего пепла в очаге свидетельствовала о том, что совсем недавно здесь был большой костер. Дальше, в полумраке, Серафен увидел кровать под изодранным зеленым пологом.
От этой угрюмой обстановки веяло давно укоренившимся несчастьем, холодом, прогнать который не под силу никакому огню. Тусклые солнечные лучи, проникая сквозь пыльные окна, таинственно ложились на красные плиты пола. На стенах под потолком висели потемневшие от времени картины, должно быть, религиозного содержания, на которых уже ничего толком нельзя было разобрать.
Серафен подошел к кровати и встал в изножье. Перед ним на постели был распростерт человек, по самый подбородок укрытый одеялом. Он молча смотрел на Серафена. Одного взгляда, брошенного на его лицо, было достаточно, чтобы понять – часы его сочтены. При мысли о том, что он может привлечь на суд своей матери только покойников или умирающих, Серафеном овладел глухой гнев. Единственными живыми существами, кого ему удалось покарать, оказались две собаки. Слишком поздно. Терзавшее его преступление поблекло, превратившись в историю, из числа тех, что люди рассказывают друг другу вечерами на посиделках, прежде чем расстаться за порогом, дрожа от возбуждающего страха. Серафен ощущал ужасную горечь и пустоту. Но он хотел знать.
Старые губы растянулись, будто шнурки кошелька, и умирающий заговорил, вполне отчетливо:
– Еще немного – и ты бы меня не застал. Я подцепил лихорадку в ту ночь, когда подстерег Дидона. Промок до костей – и вот…
Серафен вынул из кармана два предмета, которые достал со дна колодца, и бросил на постель, так, чтобы умирающий мог до них дотянуться.
– А. З., – спросил он, – это вы?
– Да, я – Александр Зорм. Теперь я в довольно жалком состоянии, но в свое время это имя на многих наводило трепет.
Он вздохнул, и в груди у него захрипело, забулькало – словно заиграла волынка. Его рука нащупала предметы, которые Серафен швырнул на одеяло. Умирающий ухватил один из них и стиснул его пальцами.
– Это мой, – сказал он, – мне и смотреть не надо, достаточно прикоснуться, хотя вода и ржавчина сделали свое дело. Мой резак… Я так и не купил другого. Что за блажь – везде выжигать свои инициалы, словно боялись, будто нас обворуют! – Он усмехнулся и потряс головой. – Без этого, – он кивнул на резак, – мы с тобой оба были бы мертвы. И никто никогда не узнал…
Из горла умирающего вырвался странный хлюпающий звук, по временам его сотрясала сильная икота. Не отрывая от Серафена черных горящих глаз, он машинально поглаживал костяную ручку резака, четверть века назад брошенного на дно колодца.
– Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу его снова. А еще меньше – что мне принесешь его ты.
– Я должен знать, – сказал Серафен.
– О да! Когда я увидел тебя с папашей Бюрлем, понял, что ты непременно узнаешь. – Умирающий издал хриплый смешок. – Старый болтун не мог прихватить эту тайну в рай…
– Я узнал не от него.
– И теперь ты уверен, что знаешь? Так вот, ни черта ты не знаешь! Думаешь, почему я швырнул в колодец оба резака? Ты видел инициалы на втором?
– Ф. М., – сказал Серафен.
– Именно, Ф. М., – повторил Зорм. – Фелисьен Монж. Когда я вошел, он только что перерезал горло твоей матери. Она… еще шевелилась… Ползла с перерезанным горлом, и я слышал, как толчками вытекала кровь, точно из горлышка бутылки. Она ползла к тебе: хотела помешать Монжу, который уже схватил тебя за головку и собирался зарезать. Вот этим! – он нащупал второй резак, лезвие которого тоже было изъедено ржавчиной, как у его собственного, и потряс им перед лицом Серафена. – Тогда я бросился к нему и ударил, но промахнулся. Мы схватились. В какой-то момент ему удалось оттолкнуть меня к стене и, не окажись у меня под рукой вертела, мне бы нипочем не управиться с Монжем. Нипочем! В тот вечер он был словно кусок раскаленного железа. И даже когда я проткнул его вертелом, при последнем издыхании, Монж продолжал осыпать меня оскорблениями. Жизнь упорно не хотела уходить из его тела. Я ждал, что его черная душа вылетит, чтобы плюнуть мне в лицо, вцепится мне в горло своими призрачными руками, отравит ядом своих брызжущих ненавистью слов… А все потому…
– Почему? – спросил Серафен.
– Почему, почему! Все вы вечно спрашиваете, почему. Откуда мне знать? Должно быть, из страха. Видишь ли, одни наводят страх на других. После этого удара четверть века я сам не знал покоя.
– Почему?
Глаза Зорма убегали от взгляда Серафена, как шарик в ватерпасе, который пытаются установить вертикально.
– Монж меня не выносил, – буркнул он. – Считал, что приношу несчастье.
– Но почему моя мать? Мои братья? Почему я, раз вы говорите…
Зорм кивнул.
– Я вырвал тебя у него. Его резак был в каких-нибудь трех сантиметрах от твоей шейки. Он бы просто снес тебе голову.
– Но почему?!
Зорм ответил не сразу. Внезапно он насторожился, скосил глаза и прислушался. Серафену показалось, будто снаружи доносится гул мотора.
– Здесь на меня не рассчитывай, – проговорил Зорм. – Скажу только, что у меня было достаточно причин поскорее унести оттуда ноги. Кто бы мне поверил? Одному, в окружении пяти мертвецов, при моей дурной славе да еще с вертелом и резаком, помеченным моими инициалами. Нужно было быть сумасшедшим, чтобы на это надеяться! Меня бы тотчас поволокли на эшафот под радостное улюлюканье толпы!..
Хрипы в его груди усилились, заглушая слова. Он продолжал после паузы:
– Тогда я выбрался из дома, пошел к колодцу и бросил туда оба резака. Я мог бы оставить резак Монжа. Не знаю, почему я швырнул его на дно.
– Мне сказали, что вы плакали, – прошептал Серафен.
– Кто это тебе сказал? – Зорм подскочил, словно его подбросило пружиной, и сел, привалившись к подушке. – Кто тебе сказал? – повторил он, в голосе его послышалась угроза.
– Какое это имеет значение? – пробормотал Серафен. – Я спустился на дно колодца. Я нашел то, что осталось от двух резаков. Но какое все это имеет значение?..
На этот раз Зорм не пытался уклониться от его взгляда, и Серафен увидел, что руки умирающего сжались в кулаки.
– Ты ошибаешься, – сказал он глухо. – Я не знаю, что такое слезы. Я боялся – а это совсем другое.
– Но кого вы могли бояться?
Зорм с трудом проглотил вязкую слюну. Его глаза опять избегали глаз Серафена.
– Ладно, – проговорил он, – я тебе все расскажу. А ты расскажешь жандармам. Так вот, той ночью, когда я шел к колодцу, я увидел троих мужчин, прятавшихся за грудой разбитых повозок. О, им казалось, они в надежном укрытии! Однако их резаки блестели в лунном свете, будто змеиная кожа в траве. Правда, лиц их я не разглядел, потому что они натянули сетки пасечников. Зато они должны были отлично рассмотреть мое. Не может быть, чтобы они меня не узнали. И я бежал, как жалкий трус. Я забился в эту дыру, затаился, с минуты на минуту ожидая появления жандармов. К счастью… к счастью, мне повезло и…








