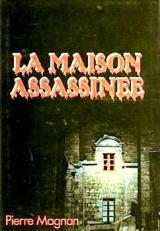
Текст книги "Дом убийств"
Автор книги: Пьер Маньян
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Пьер Маньян
Дом убийств

Монж был настороже. Стояла одна из тех ночей, когда какое-то неясное чувство подсказывает нам держаться начеку, если мы хотим избежать неприятных неожиданностей; ночь, когда человек непроизвольно затаивает дыхание, когда все может случиться в этих диких краях.
Монж только что кончил обтирать соломой мокрых от пота, стоявших в конюшне сменных лошадей почтового дилижанса из Гапа. Нужно подняться в три часа, чтобы задать им корм, потому что уже на рассвете они будут запряжены как коренники в ломовые дроги возчиков из Амбрена, которые занимались доставкой грузов.
Незнакомец как раз достал из сумки краюху домашнего хлеба и кольцо колбасы и теперь с аппетитом их поглощал, устроившись прямо посреди упряжи, на куче мешков с почтой. Он явился совершенно некстати, когда уже смеркалось, с тростью, обвитой лентами, весь разодетый, словно новобрачный, хоть и порядком промокший – даже шляпа блестела от воды, и крикнул с порога: «Привет честной компании!» – людям, которые таращили глаза, вглядываясь в полутьму. Монж с неохотой отвел его в конюшню, где путник сбросил грубый шерстяной плащ, и окинул гостя подозрительным взглядом, которым с недавних пор смотрел на окружающий мир.
Висячую лампу еще не зажигали: для привычных действий вполне хватало света очага. В стоявшей на полу колыбели запищал младенец. Жирарда поднялась, пристроила стопу сложенных простыней в углу квашни для хлеба, потом взяла плачущего ребенка своими покрасневшими от работы руками и уселась с ним по другую сторону очага, напротив Папаши.
Стоило зашуршать расстегиваемому корсажу, как младенец умолк. Он обеими ручонками вцепился в высвободившуюся материнскую грудь, и в наступившей тишине не было слышно ничего, кроме жадного причмокивания его нетерпеливых губок да потрескивания огня под котелком, где булькал вечерний суп.
Папаша, похотливо разинув беззубый рот, бесстыдно созерцал это вечно новое для него зрелище. Он наслаждался, глядя на эту, едва зародившуюся жизнь, в которую, как он считал, проскользнуло и кое-что от него самого, чтобы продолжиться в будущем. Вдруг он поднял голову и, уставившись на зеленые пятна селитры, местами покрывавшие штукатурку, не оборачиваясь, почти беззвучно окликнул зятя:
– Эй, Монж! Ты ничего не слышишь?
– А что такое я должен слышать? – буркнул Монж.
Папаша дернул головой и, как мог, навострил уши с торчащими пучками редких седых волос, пытаясь усвоить природу встревожившего его звука.
– Эй, Монж! – завопил опять Папаша. – Ты, что, и вправду ничего не слышишь?
Монж не ответил – лишь рассеянно покачал головой. Однако снял висевшее у очага плохонькое ружьецо и машинально проверил затвор.
В тот вечер он был настолько растерян и подавлен смертной тоской, в которой беспомощно барахтался, что едва не отправился просить совета у Зорма. Зорм был человек необычный. Безмолвный, точно ворон, он вдруг вырастал слева от вас, вы оборачивались – он оказывался за вашей спиной. В его присутствии людям стоило немалого труда сохранять самообладание, их преследовало чувство незримой опасности. И то, что его боятся, заставляло Зорма хмуриться.
Он жил, ничего не делая, и при том не бедствовал. Дорога, ведущая к его дому, заросла густой травой. Он мог спокойно оставить ключ в двери, бумажник на столе, тушеное мясо на огне и початую бутыль вина. Рунические кресты, нацарапанные на некоторых камнях, тайные цыганские тропы, которые образовывали звезду между замком Пейрюи и Кающимися из Мэ, надежно защищали подступы к его жилищу, тогда как кружной путь уводил в сторону на целый километр.
Никто не мог ответить, на чем, собственно, основывался страх перед этим человеком, но если его имя случайно срывалось с чьих-нибудь уст, произнесший охотно поймал бы его на лету, словно бабочку, чтобы вернуть обратно. Когда ребенок за столом задавал какой-нибудь невинный вопрос относительно Зорма, его тотчас одергивали и наказывали молча есть свой суп. Даже чиновник в мэрии, когда Зорму потребовалась копия свидетельства о рождении, нервно сглотнул слюну, прежде чем вывести своим каллиграфическим почерком буквы этого зловещего имени.
Таков был человек, который в тот день под проливным дождем в четыре часа пополудни явился в Ля Бюрльер – просто так, безо всякого повода – и сидел, по обыкновению молча, выжидая, пока заговорят другие.
В его присутствии Монж невольно поджимал хвост. Весь этот день, пока лил дождь, он чувствовал, что Зорм кружит вокруг него, обнюхивает, дышит в затылок.
Наконец Монж увидел, что тот уходит, прикрывшись большим красным зонтом. Он наблюдал, как Зорм взобрался по свежей насыпи, обогнул дрезину, которую разглядывал в течение нескольких минут, затем спустился по другую сторону, к мутному потоку, который несся почти вровень с берегом, потрогал воду рукой, зачерпнул ладонью и следил, как она убегает сквозь пальцы. После этого он долго всматривался в обложенный горизонт, откуда возникал поток – словно спонтанное порождение низко нависших туч, насыщенных водой.
И тогда Монж увидел, как Зорм заговорил, будто обращался к кому-то невидимому с вопросом. Даже с такого расстояния было видно, что его шишковатый лоб под зонтом и сдвинутой на затылок шляпой прорезала складка беспокойства.
Вспоминая теперь странное поведение Зорма, Монж заметил, что инстинктивно прижал к стеклу ладони с растопыренными пальцами, чтобы избавиться от образа Жирарды и прильнувшего к ее груди младенца.
Он резко обернулся, встретившись взглядом с косящим глазом Жирарды. Женщина выпрямилась, положила ребенка обратно в колыбель и вернулась на свое место, уперев ладони в бедра. Папаша продолжал сидеть со склоненной набок головой, он явно не оставил попыток расслышать еще что-то, кроме хихиканья двух старших Монжей, возившихся под столом.
Между тем дом содрогался под натиском ураганного ветра, хлеставшего его стены. Было слышно, как в глубине конюшен брыкаются обезумевшие от страха лошади.
Однако Папаша был прав. Несмотря на грохот, производимый разбушевавшейся стихией, в котором слились воедино усилия реки и неба, сквозь завывания ветра просачивался еще какой-то, почти неуловимый звук, свидетельствующий о присутствии поблизости человека.
Монж вернулся к очагу. Его руки снова потянулись к деревянной солонке, как будто хотели ее снять, но тут же опустились. Тяжело ступая, он подошел к столу и опять выдвинул ящик, только на сей раз бесшумно. Дети перестали смеяться.
Усадьба Ля Бюрльер, залитая потоками серебрящегося под луной дождя, снаружи представляла просторный деревенский дом с прямыми стенами, сложенными из галечника Дюранс, в которых были пробиты редкие окна, и стоящих чуть поодаль конюшен. Две пары ворот – те, через которые въезжали телеги и подводы, и вторые, ведущие на сеновал, служили исключительно для удобства лошадей и повозок, но никак не людей.
Если смотреть на усадьбу в подобную ночь, ее глухая, без окон, стена, протянувшаяся до самого поворота дороги, острые грани и вообще вся узкая стройность здания придавали Ля Бюрльер зловещее сходство с большим гробом. Это впечатление еще усиливалось, благодаря посаженным невесть когда по углам вымощенного плитами двора четырем итальянским кипарисам, похожим на огромные свечи.
Именно такими казались они трем мужчинам, притаившимся в тени между сараем с упряжью и хаотическим нагромождением повозок со сломанными оглоблями и покореженными колесами, останками жертв крушений на горных дорогах, сваленных догнивать в этом углу.
Сквозь фантастическую баррикаду трое мужчин, тесно прижавшись друг к другу, следили за единственным фасадным окном, в котором еще теплилось немного света.
– Похоже, сегодня они не собираются спать!
– Ничего, рано или поздно улягутся.
– А как нам развязать ему язык?
– Сперва поболтаем, как добрые приятели, ну, может, малость поджарим ему пятки…
– Тсс! Да замолчите вы оба!
– Что там еще?
– Вы ничего не слышите?
– А что мы должны слышать?
Здесь, под открытым небом, на уровне земли, лишенный защиты стен, человек был весь во власти тоскливого болезненного чувства, от которого выворачивало желудок. О силе урагана можно было догадаться только по виду деревьев, которые вдруг разом вытягивали свои ветви к луне, точно простертые руки.
– Можете мне не верить, но я-таки слышал какой-то звук!
В следующее мгновение трое мужчин ощутили, как холодок пробежал у них между лопатками. Откуда-то из мрака вынырнул черный силуэт и по выщербленным плитам подворья зашагал к дому, сражаясь с порывами ветра, который трепал его штаны и раздувал куртку, придавая фигуре незнакомца совершенно нереальный вид. Впрочем, можно было разглядеть, что человек этот довольно высокого роста, и пальцы его полусогнутых рук растопырены, как если бы он примерялся к противнику, собираясь схватить его в охапку.
Между тем человек был уже возле самого входа. Он поднял сжатую в кулак руку, собираясь заколотить в дверь, но потом передумал и резко дернул за шнур щеколды. Створка со скрипом повернулась на петлях и снова захлопнулась под очередным порывом ветра.
Взгляды троих сообщников, прятавшихся за грудой сломанных повозок, были прикованы к окну – только так они могли судить о том, что происходит внутри дома. Иногда на фоне освещенного прямоугольника мелькала тень руки или головы, реже, на мгновение, возникал целый силуэт. Мужчины в засаде ждали. Больше они не проронили ни слова.
Внезапно дверь распахнулась – на сей раз настежь, и человек, за которым они наблюдали, шагнул в проем. Несколько минут спустя он появился опять, как будто его выталкивали изнутри, стараясь вышвырнуть за порог дома, но тут же ухватился за створку и на какой-то миг очутился в полосе яркого лунного света. Однако с такого расстояния невозможно было разглядеть его лицо.
Ветер, сила которого упорно не желала идти на убыль, снова трепал штаны и куртку незнакомца, направившегося теперь в сторону колодца. Человек с трудом продвигался вперед, растопырив руки со стиснутыми кулаками, и это придавало ему сходство с пугалом, готовым вот-вот рухнуть на землю. Трое мужчин увидели, как он медленно огибает желоб, из которого поили лошадей, и, цепляясь руками за сруб колодца, склоняется над его отверстием. Казалось, сейчас он бросится вниз, и они крепко схватили друг друга за руки, на случай, если кто-то захочет ему помешать. Однако мужчина выпрямился, разжал пальцы и, когда туча закрыла луну, прошел так близко от сидевших в укрытии, что они почувствовали запах его остывшего табака и узнали его.
Ветер валил его с ног, шатаясь, он побрел по колеям, выбитым в плитах подворья за предыдущие столетия, пересек дорогу, вскарабкался на насыпь и, уцепившись за край дрезины, взобрался на платформу. С трудом начал приводить в действие рукоять насоса, а его раздуваемая ветром одежда хлопала, будто парус. В следующее мгновение дрезина пришла в движение, и он, точно призрак, исчез за поворотом дороги, где белело в отдалении здание недавно построенного Люрского вокзала.
И тогда на фоне адского грохота, поднятого разбушевавшимся потоком, раздался новый звук. Перекрывая рев бури, выворачивавшей с корнем сосны и каменные дубы, колокол обители на плато Ганагоби зазвонил к заутрене. Этот простой и в то же время величественный звук, сумевший возобладать над разгулявшейся стихией, напомнил троим мужчинам, что им следует поторопиться. Прижавшись друг к другу, как будто слитые в единое тело, они бросились к дому. Скрывавшие их лица сетки, какими пользуются при сборе меда пчеловоды, придавали их головам гротескное сходство с недоразвитыми головами эмбрионов. В лунном свете они казались одним многоголовым и многоруким существом, вооруженным тремя сверкающими ножами.
В доме над очагом трепетало умирающее пламя.
Мсье Беллаффер, нотариус из Пейрюи, во все глаза смотрел на стоящего перед ним молодого человека с обликом библейского архангела, чья могучая грудная клетка распирала вылинявшую от многократных стирок футболку, заменявшую ему рубашку. При этом нотариус изумлялся, как за четыре года, проведенных в траншеях, в такую широкую грудь не попало ни единой пули. Да разве на войне такое возможно?
Со своей стороны, Серафен Монж разглядывал нотариуса, как смотрит ребенок, выросший на попечении общественной благотворительности. Он вступил в жизнь безо всякой веры в гуманность рода людского, ибо сестры из Дома призрения не научили его этой вере. Привыкшие трепетать – перед монсеньором епископом, господином экономом, благотворителями и попечителями, – они жили в позе униженного смирения, простертые ниц перед этими могущественными существами, и приучали к тому же Серафена. Что касается Господа Бога, они боялись Его наравне с людьми и не рассчитывали на Его милость. Им удалось сделать Его весьма заслуживающим веры в глазах Серафена, представив мальчику грозным и не ведающим жалости.
По завершении такого образования, четыре года войны не улучшили его мировосприятия, главной чертой которого была перспектива ежечасной смерти.
Впрочем, это недоверие к ближнему не стало оружием в руках Серафена. Хоть он и видел людей насквозь, не умел, однако, защищаться от их действий, а потому сейчас с простодушной улыбкой слушал нотариуса, который все больше запутывал его в паутине юридических тонкостей.
– Нам следовало представить вам отчет раньше… – нотариус испустил легкий вздох, – но, к сожалению, произошла небольшая задержка… К тому же мы не могли созвать семейный совет, поскольку у вас не было больше никаких родственников. Надо было изыскать средства на самое неотложное: нанять для вас кормилицу, обеспечить уход и заботу, а потом – образование… Черт возьми! Что бы там ни говорили, это недешево обходится – я имею в виду услуги сестер из Дома призрения. Если у вас есть кое-какие блага под солнцем… – Водрузив на нос очки и послюнив палец, он принялся шумно перелистывать лежащие перед ним бумаги. – Земли, конечно, были проданы, а вот дом… – тут он принял сокрушенный вид. – Дом нам, увы, продать не удалось.
– Почему? – машинально спросил Серафен.
– Почему? Да потому… Ну, вы же знаете!
– Нет, – в полном недоумении ответил Серафен.
– Как?! Вы не знаете? Но… вы ведь читали свое свидетельство о рождении?
– Мне известно только, что я сирота, – проговорил Серафен тихо, как будто стыдился этого факта.
Нотариус поторопился переменить тему.
– Короче, у вас остается 1250 франков 50 сантимов от продажи земель, а также живого и неодушевленного инвентаря… И плюс дом. А вот – ключ!
Серафен внимательно его разглядел. Он был большой, с погнутой головкой, но изношенному металлу, словно проказа, расползались рыжие пятна ржавчины.
Нотариус встал и вышел из-за стола. Он засунул банкноты и монеты в приготовленный для этой цели конверт, после чего, вместе с ключом, протянул Серафену.
– Вот! – сказал он. – Проверьте свои счета! И если вдруг, случайно, вы обнаружите там какую-нибудь ошибку, не премините мне об этом сказать.
– О, я уверен, что там все в порядке, – машинально проговорил Серафен. Молодой человек медлил и продолжал стоять, загромождая собой комнату.
– Вас что-то беспокоит? – осведомился мсье Беллаффер.
– Скажите, господин нотариус… Я хотел у вас спросить… Когда я был на фронте, я получал посылки отсюда… Почти каждый месяц… Вы не знаете, кто бы это мог быть?
– Посылки? Нет… – ответил нотариус, но тут же спохватился. – Должно быть, это мой бедный отец… Он был таким добрым человеком!
Серафен покачал головой.
– Ваш отец? Но, как я слышал, он умер в шестнадцатом.
– Да, да… – пробормотал мсье Беллаффер.
– В таком случае это не мог быть он. Я продолжал получать посылки до самой демобилизации.
– Вот как? А имени отправителя на них не было?
– Нет, никогда.
– Значит, это делала какая-нибудь добрая душа… Вот увидите – мир полон хороших людей!
Желая поскорее выпроводить Серафена, нотариус положил руку ему на плечо, однако молодой человек был слишком высок ростом, и покровительственного жеста не получилось.
– Кстати, вы хорошо устроились? – поинтересовался мсье Беллаффер.
– Я получил место дорожного рабочего…
– Дорожного рабочего! Это как раз то, что нужно! В Управлении мостов и дорог вы всегда сможете найти работу. И потом – у вас будет право на пенсию!
Когда за Серафеном наконец закрылась дверь, мсье Беллаффер, заложив руки за спину, еще долго смотрел вслед удалявшемуся сироте сквозь фестоны занавесок своего большого, забранного прочной решеткой окна. На него произвела сильное впечатление эта спокойная человеческая масса, передвигавшаяся так грациозно и бесшумно, что даже дыхания не было слышно.
Старый Бюрль, который только что отправил в рот кусок жевательного табака и прикусил его своими последними зубами, бросил оценивающий взгляд на Серафена, могучими движениями поднимавшего и опускавшего трамбовку. Они приводили в порядок дорогу у поворота на мост через канал, где колеса тяжелых грузовиков разбивали булыжник.
Был самый разгар лета, но в этот вечер небо над Дюранс словно припорошило мельчайшей черной пылью, не скрадывавшей пока очертаний облаков. Дымка была легкой и почти незаметной, но при более внимательном взгляде обнаруживалось, что она уже успела вытеснить вечернюю синеву и неуклонно надвигалась на солнце.
– Ну, парень, сейчас как грохнет! – заметил старый Бюрль. – Неплохо бы нам подобраться поближе к какому-нибудь жилью.
Серафен положил трамбовку и повернулся к нему.
– А если придет господин Англес? Он ведь сказал, что этот ремонт – дело срочное…
– Ох! Господин Англес, господин Англес!.. Коли посыпется град, то уж не ему на спину! А много ли будет проку дороге, как после этой грозы я две недели не смогу разогнуться? – Старик с остервенением воткнул свою лопату в груду щебенки у откоса, поплевал на руки табачным соком и снова окинул подозрительным взглядом горизонт. – Видишь, парень, когда небо над Мэ делается такого цвета, это значит, что оно на землю рухнет. Сам скоро убедишься. Ох, и грохнет же!
Он не успел закончить фразу, когда над карликовыми ивами Искля полыхнула маленькая молния. И тотчас до них донесся странный шум – будто над их головами кто-то опрокинул тачку со щебнем.
– Живо, Серафен! Пора уносить ноги!
Бюрль швырнул свою лопату на кучу щебня и пустился наутек. Серафен помчался следом за стариком.
– Эй, куда же вы? Подождите меня!
Но Бюрль карабкался вверх по склону со всем проворством, на какое были способны его короткие ноги. Казалось, гром подталкивает его в спину. Бюрль был уже наверху, перед двумя кипарисами, служившими ему ориентиром, и в следующую минуту ступил на вспученные плиты двора, где когда-то останавливались ломовые извозчики. Однако теперь каретные сараи, чьи расколотые трещинами стены постепенно рушились, погребая остовы телег и сельскохозяйственных машин, не могли служить убежищем. Наконец Бюрль обнаружил глухую стену с массивной дубовой дверью, которая даже не дрогнула под ударами его ноги.
– Эй, Серафен! Ты где там застрял? Давай живей, чтоб им всем пусто было…
Серафен вынырнул из-за ливневой завесы, его белокурые волосы прилипли к черепу, как у утопленника, но и под этим шквалом его шаг оставался размеренным и твердым.
В это мгновение молния полыхнула так близко, что последовавший за ней раскат грома почти оглушил обоих мужчин, и в озарившей небо яростной вспышке лицо Серафена вдруг предстало Бюрлю совершенно иным, нежели при обычном дневном свете.
– Матерь Божья! – выдохнул старик.
Но когда в течение пяти минут человеку набивают в глотку целую тачку града, когда кусочки льда через ворот сорочки просыпаются пониже пояса до самых подштанников, где скапливаются, устроив ледяное гнездышко, тут уж не до того, чтобы углубляться во всякие там мысли.
– Ну что ты там копаешься? – завопил Бюрль. – Помоги лучше высадить эту чертову дверь!
Серафен стоял, выпрямившись во весь рост, и не отрываясь смотрел на дверь с двумя старыми печатями из почерневшего воска, скрепленными хорошо сохранившимся, несмотря на прошедшее время, конопляным шнуром. Но прежде всего в глаза Бюрлю бросился массивный ключ – старый, погнутый, сработавшийся. Он схватил его и быстро повернул в замке. Печати уступили с глухим треском.
Старик шагнул через порог и оглянулся. Серафен по-прежнему не двигался с места, несмотря на хлеставшие его по лицу градины.
– Ну, в чем дело? Что с тобой приключилось? – нетерпеливо окликнул его Бюрль. – Насмерть хочешь простудиться? Давай, заходи!
– Нет! – глухо выдавил Серафен.
Раздосадованный Бюрль подскочил к нему и втолкнул в дом, награждая пинками и тумаками. К его удивлению, Серафен не сопротивлялся, позволяя вертеть собой, точно большим расхлябанным паяцем. Застоявшийся запах соли, холодного очага и кованого железа щекотал ему ноздри, близкий и знакомый, словно запах вновь обретенного родного жилища. В воздухе еще плавал едва уловимый аромат чабреца.
– Меня зовут Серафен Монж… – вдруг прошептал Серафен.
– Ну и что с того? – проворчал Бюрль, вытирая лицо носовым платком. – Думаешь, это помешает тебе сдохнуть от простуды? Так что скидывай-ка куртку, рубаху, раздевайся догола! А я поищу, не осталось ли где дров… Погоди, посмотрю, не промокли ли спички. На счастье, кисет у меня резиновый… Вот, держи! Положи эту охапку сухих веток на кучу пепла, думаю, они все-таки загорятся.
Он, кряхтя, стащил с себя одежду и остался в одних подштанниках – кривоногий, с грудью, заросшей седым волосом, и тощими, почти лишенными мускулов руками, – когда в очаге наконец начал потрескивать огонек, старик, ворча, подставил спину теплу.
Между тем гроза снаружи бушевала вовсю, иногда градины рикошетом залетали в дымоход. Отогревшийся Бюрль сунул за щеку новую порцию жевательного табака.
– Постой, постой, ты сказал, что тебя зовут Серафен Монж? – спросил он неожиданно.
– Да.
– Выходит, это тебя унесли отсюда в трехнедельном возрасте и передали сестрам из Дома призрения? – Старик хлопнул себя ладонью по ляжке. – Ну, сынок, было дело, доложу я тебе! Начать с того, что никак не удавалось сыскать кормилицу. Сколько их пришлось перепробовать! Они говорили, будто грудь у них леденела, стоило тебе взять в рот сосок. Не могли себя побороть – и все тут, прямо визжали от страха! Ну, и вырывали у тебя грудь, а ты начинал кричать… Да уж, история! В конце концов нашли одну женщину из Гийестера, она еще хворала зобом. Только кюре пришлось долгонько ее уламывать, поминая страсти Христовы… Так, значит, ты – Серафен Монж? Ну и ну! А тебе на пользу пошло!
В это мгновение прямо во дворе ударила молния, и старик инстинктивно пригнулся. Вспышка была такой силы, что, несмотря на закрытую дверь и ставень на слуховом окне, пламя в очаге потускнело.
– Вот чертова смерть! Она-таки нас достанет. Стоило пережить войну и испанку, чтобы тебя убило молнией! – И Бюрль ткнул пальцем за окно, где гроза бесновалась над вздувшейся рекой.
Между тем Серафен, успевший сбросить одежду и устроиться возле очага, казалось, не замечал ни грома, ни молний. Его внимательный взгляд обследовал дом. С хлебного ларя он перешел к шкафу с почерневшими от копоти дверцами, потом отыскал стенные часы, висевшие в самом темном углу. Их стекло покрывал слой грязи, такой густой, что за ним не было видно маятника, но циферблат остался чистым. Стрелки показывали 10 часов 40 минут – время, когда кончился завод механизма, и опустились гири.
Оттуда взгляд Серафена соскользнул на вереницу пыльных бутылей, мойку, обложенную красной плиткой, кухонную утварь, косо висящий календарь и, наконец, обеденный стол, окруженный скамьями и стульями. Лежащая на нем клеенка была покрыта темными пятнами, посередине чернела большая дыра.
Между столом и буфетом, рядом с приспособлениями для отжимания масла, прямо на полу стояла качающаяся деревянная люлька, ее прутья отбрасывали длинные косые тени, перечеркивая пламя очага. Несмотря на густую пыль, покрывавшую резьбу, еще можно было различить лепестки розеток, украшавших стенки колыбели. Серафен глядел на нее, не в силах оторваться.
– Они просто убрали трупы, – сказал Бюрль, – и унесли тебя. А так, кроме этого слоя пыли в три пальца, – он описал рукой широкий круг, – все здесь по-прежнему, как в тот день, когда я был тут в последний раз, двадцать три года назад, аккурат столько, сколько тебе сейчас… Но тогда здесь чистота стояла – у Жирарды все так и сверкало. Женщина была, доложу я вам, во! – Он вытянул руку со сжатым кулаком и поднятым кверху большим пальцем.
– Жирарда? – переспросил Серафен.
– Ну да, твоя мать!
– Моя мать? Моя мать… – Ноги у него подкосились, и он осел прямо на плиты перед очагом, так что подошедший Бюрль смог без труда положить руку ему на плечо.
– Неужто никто так и не отважился тебе рассказать?
– Нет. – Серафен покачал головой. – Никто.
– Я тогда работал на дороге, – сказал Брюль, – как на протяжении всех этих сорока лет. И вдруг примчались возчики из Амбрена! По пути они поднимали все бригады, укладывавшие рельсы, так что перед этой самой дверью нас собралось без малого пятьдесят человек. Мы все так и застыли на месте, будто язык проглотили… В то утро в этой комнате слышалось только два звука: тиканье часов, в которых еще не вышел завод, да плач ребенка, оравшего во всю глотку, – это был ты… Остальные… Ох, парень, как вспомню этот запах! С тех пор я в жизни больше не мог помочь кому-нибудь заколоть свинью. Запах крови… теплой крови. Словно прошел кровавый дождь, как в Гравелине… Ты не можешь себе представить!
– Ох, – выдохнул Серафен, – могу! Я – могу…
Бюрль в замешательстве уставился на него.
– Ах, да… – пробормотал он, – ты и вправду должен знать этот запах. Но я-то не воевал, я даже вообразить не мог, как выглядит кровь, когда ее столько. А она была повсюду! Целые лужи на полу, где топтались чьи-то ноги. Кровью был забрызган столб, подпиравший кровлю, дверцы буфета… И на стенных часах… Вот, смотри! Если ты смахнешь пыль со стекла, то увидишь, что оно покрыто черными пятнами. И потом… – Внезапно Бюрль сорвался с кресла, окинув его подозрительным взглядом. – Здесь! – он ткнул пальцем в место, с которого только что поднялся. – Здесь, где я сидел, нашли Папашу – это был отец твоей матери. Глаза у него были выпучены, а кровь застыла на фартуке, точно густая красная борода. Будто ему повязали вокруг шеи большую красную салфетку перед тем, как накормить супом… – Бюрль махнул рукой перед своим лицом, словно очерчивал эту бороду, и судорожно сглотнул – что-то застряло у него в глотке. – А там, – продолжал он тише, – рядом со стариком, под стеной, зарывшись пальцами в золу, лежал Мунже Юилляу – Монж-Молния – так его прозвали, потому что был он быстрым, словно молния. Маленький, худой, сухощавый… Хитрая бестия! Пройдоха, каких свет не видывал! Если такого подбросить в воздух, сумеет прилепиться к потолку – до того были у него загребущие пальцы. А уж жалости не знал… – добавил Бюрль и умолк.
– Мунже Юилляу… – повторил Серафен.
– Твой отец, – проворчал Бюрль. Он повернулся и указал на место возле очага. – А его руки… Его руки! Они оставили кровавые следы вокруг деревянной солонки. Смотри, их видно до сих пор! Эти черные пятна! – Он снова повернулся к Серафену. – Никто так и не узнал, каким чудом ему удалось туда дотянуться, потому что… – Он быстро подошел к столу. – Убийца тут оплошал. У этого горло тоже было перерезано, как у свиньи, но не до конца. Он, должно быть, защищался так яростно, словно у него вырывали мешок с золотом… Гляди! – Старик указал рукой на прореху в клеенке. – Посмотри хорошенько на этот стол: он из орехового дерева. Во времена твоего отца ему было уже больше ста лет, а орех с годами делается все тверже… Так вот, видишь эту дыру? И черные пятна, будто от пролитого вина? Здесь тоже кровь твоего отца. Убийца проткнул его вертелом, который висел там, наверху. И твой отец, твой отец… насаженный на этот вертел, он еще сумел дотащиться до солонки… – В течение нескольких секунд палец Бюрля был вытянут по направлению к этому предмету, словно обличающий перст. – Так никогда и не дознались, как это ему удалось! – закончил старик. При этом Бюрль держал руки скрюченными возле груди, словно сжимая рукоятку невидимого вертела. Внезапно он услышал за спиной треск ломающегося дерева – это Серафен в изнеможении рухнул на стул. – Ты хочешь… чтобы я перестал? – спросил Бюрль.
– Нет, – выдавил Серафен.
Тогда Бюрль подошел к массивному шкафу в глубине комнаты, распахнул дверцу настежь и ткнул в глубину скрюченным пальцем.
– Там лежали вповалку твои два брата… Тоже с перерезанным горлом… как Папаша и твой отец. Один Бог знает, почему их туда затащили. Следы вели прямо от стола к шкафу.
Казалось, старик колеблется, не зная, продолжать ли дальше. Он остановился посреди комнаты, уронив руки вдоль тела, уставясь взглядом в серую пыль, саваном покрывавшую плиты.
– Вот здесь, – сказал он хрипло, – да, думаю, это было именно здесь… На этом вот самом месте лежала Жирарда, вытянувшись во весь рост, с задранными на голову юбками…
Старик услышал, как под Серафеном снова затрещал стул.
– Нет, нет… Успокойся, ее не насиловали! – проговорил он быстро.
– Моя мать… – бесцветным голосом произнес Серафен.
– Да, твоя мать, – подтвердил Бюрль. – Горло у нее тоже было перерезано от уха до уха, но только заметь – глаза у нее были закрыты! А все остальные так и продолжали смотреть на нас… – Он посмотрел на Серафена, который отвернулся и сделал вид, будто подбрасывает в огонь полено, чтобы скрыть свое лицо. – Должно быть, убийцы тебя не заметили, потому что сверху была навалена стопка простынь, сложенных твоей матерью. Между прочим, они тоже были забрызганы кровью! Да, тебя не заметили, хотя… Ты ведь наверняка кричал… Но если они тебя все-таки видели… Кто знает? Возможно, они пожалели ребенка… Достоверно известно одно: ты – единственный из всей семьи, кто остался в живых!
Серафен неловко поднялся со стула и, подавляя своим ростом, навис над стариком.
– А… – начал он.
– Сядь, сядь! – замахал руками Бюрль. – У меня и так в глазах рябит! Переверни лучше штаны и рубахи – пусть подсохнут и с другой стороны. Вот так, хорошо! Я знаю, о чем ты хотел спросить. Да, в конце концов их схватили, этих подлых убийц! Они оказались из числа рабочих, занятых на строительстве железной дороги, которую тогда дотянули как раз до наших мест. Рассказывали, будто их нашли мертвецки пьяными, а рядом валялись четыре початых бутылки водки из запасов твоего отца. Явились они на заработки невесть откуда, я и страны-то такой не знаю – Герцеговина… По-французски двух слов связать не могли, а найти для них переводчика – еще та задачка! Однако башмаки их были в крови, и отпечатки на полу в Ля Бюрльер точнехонько подходили к их обуви. Кровь на подошвах, и штанины кровью заляпаны – какие уж тут могли быть сомнения! – Старик сплюнул жвачку прямо в огонь. – Их гильотинировали, – продолжал Бюрль, – 12 марта в шесть часов утра перед воротами тюрьмы в Дине. Не знаю уж, как народ о том дознался, но людей набралось сотни две – кто из Люра, кто из Пейрюи или Mo. Рассчитывали поглазеть, а не увидели ровным счетом ничего! Метель была такая, что не слыхать, как и нож упал. Они, правда, что-то кричали – мол, неповинны и все такое, но кричали-то на своем тарабарском наречии… Так что сам понимаешь, это мало кого обеспокоило. Тем более что полицейские говорили, будто все так кричат. Вроде бы им тогда кажется, что они и впрямь невиновны… – Бюрль поднялся и принялся натягивать штаны, которые счел уже достаточно сухими. – Вот, – повторил он, – что произошло здесь через три недели после твоего рождения. Теперь ты понимаешь, почему все тут осталось нетронутым. Почему за двадцать три года никто не осмелился взять и щепотки соли из этой солонки. Почему властям так и не удалось продать Ля Бюрльер. Вовсе не потому, что они не пытались! Пять раз! И за все пять раз не нашлось ни единого покупателя! Ты понимаешь, что на этом доме лежит печать не только преступления, но еще и плахи? Да если бы Бюрльер задаром отдавали, ее б и тогда никто не захотел!








