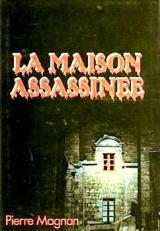
Текст книги "Дом убийств"
Автор книги: Пьер Маньян
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
И тогда от стены отделился тот, кто следил за ним через слуховое оконце под потоками воды, которую извергали мельничные желоба. Он быстро поднялся по выбитым в земле ступеням и в полной темноте прошел вдоль бьефа так же уверенно, как сделал бы это среди бела дня. Навстречу ему с рокотом бежал Лозон, гулко стуча о брюхо мартельеры, словно ударяя в гигантский барабан. Расставив ноги, человек крепко уперся ими в стенки бьефа и, схватившись за рукоятки мартельеры, стремительным рывком поднял ее на воздух. Удерживая ее одной рукой, другой он отыскал на ощупь штифт, который вонзил в узкий проход, – и жирная вода потока устремилась в прочищенные канавки, словно стальная змея.
Дидон услышал шум. Этот звук просачивался сквозь все другие – гул потока, дробный перестук дождя, шорох листьев, осыпающихся под порывами ветра, – вплетая свою ноту в общую симфонию. Упругая, стиснутая со всех сторон вода ворвалась в пазы, затопляя водосборные колодцы, ударяясь в лопасти зубчатых реек, заставляя щелкать кастаньеты противовесов; бесконечно малыми вибрациями она толкала большое колесо, которое медленно – плица за плицей – поворачивалось, передавая мощь Лозона оси из лиственницы – квадратного сечения и широкой, словно торс человека, к которой были прикреплены жернова, каждый – весом в тонну. Сидя между ними на корточках, Дидон произвел два лишних действия: прочистил тростинку, которой собирался пользоваться в будущем сезоне, и заткнул пробкой бутылку с маслом. Но так он поступал из года в год вот уже больше двадцати пяти лет. Почему на сей раз он должен был изменить своим привычкам и сначала выбраться из чана?
Однако потраченные на это секунды оказались роковыми. В следующее мгновение Дидон увидел, как по другую сторону резервуара дрогнул в своем пазу рычаг сцепления, один из жерновов отрезал ему путь к отступлению, а второй, децентрированный, толкнул в спину. От удара он потерял равновесие, и тело его брызнуло во все стороны под массой жернова с чавкающим звуком раздавленного насекомого.
Дробно стучал дождь, превращая Лозон из жалкого ручейка в могучий водопад, шум которого был слышен за километр, а теперь к этим звукам присоединился еще грохот работающего пресса. Мельница и жилой дом, разделенные каретными сараями, конюшнями и ригами, были связаны общим фундаментом, и рокотание вращающихся жерновов передавалось от одного здания к другому.
Этот шум пробудил Роз Сепюлькр, на мгновение вырвав из объятий сна, согретого мечтами о любви. Знакомый с детства звук, такой же привычный, как лошадь, мирно жующая овес в конюшне, не сулил ничего плохого, и Роз повернулась на другой бок, чтобы вновь погрузиться в сон. Но тут рядом заворочалась сестра, бормоча что-то себе под нос, и это заставило Роз окончательно проснуться.
– Как это? – спросила она удивленно. – Сейчас ведь еще не канун дня св. Екатерины?
– Что там такое? – буркнула Марсель.
Роз схватила сестру за руку.
– Ты слышишь?
– А что я должна слышать?
– Жернова!
– Ну и что?
– Какое сегодня число?
– Понятия не имею. И вообще, оставь меня в покое!
Но Роз тряхнула ее за плечи.
– Разве ты не слышишь?
– Ну, слышу, – пробормотала Марсель. – Это жернова – должно быть, па проверяет, как работает пресс…
– Чушь! – отрезала Роз. – Его никогда не запускают вхолостую: от этого механизм портится.
– Да ладно тебе… – вяло отмахнулась Марсель и опять уткнулась носом в подушку.
Но Роз соскочила на коврик у постели, рывком стащила с сестры одеяло и принялась ее тормошить.
– Эй, проснись! Говорю тебе: творится что-то неладное!
Она быстро всунула ноги в туфли, набросила на плечи халатик, а другой швырнула Марсель.
– Ой! Ты что, спятила? Ну, что там может твориться?
Однако Роз силой поволокла ее к двери, вытолкнула в коридор, а оттуда – на лестницу. Дождь на мгновение задержал их на пороге дома. Напротив, сквозь щели в ставнях и грязные оконные стекла, просачивался слабый свет над маслянистым паром, поднимавшимся изо рвов. Под холодным дождем Марсель окончательно проснулась. Сестры бегом пересекли двор и совместными усилиями распахнули тяжелую дверь мельницы.
Они не сразу поняли, что за багровая каша чавкает под вращающимися жерновами, обрызгивая их красным в скупом свете электрических лампочек. Из оцепенения девушек вывел глухой стук. Правая рука Дидона оказалась на краю чана, вне пределов досягаемости жерновов. Перемолов мышцы и кости, они, в конце концов, полностью отделили ее от тела на высоте локтя, и она упала под собственным весом, шлепнувшись о плиты пола. Сестры разом издали вопль, покрывший все шумы – включая канонаду дождя и рев водопада, и он ворвался в тяжелый сон Терезы, которая вылетела в коридор, на бегу натягивая халат. Вопль повторился. Он несся со стороны мельницы. Бросившись туда, Тереза увидела распахнутую дверь и Марсель, которая вцепилась в рычаг сцепления и что было сил тянула его на себя.
– Ma! Не входи! Не надо тебе заходить!
Дочери оттаскивали ее от двери, выталкивая под дождь, мокрые растрепанные волосы делали их похожими на утопленниц. Тереза отбивалась, вслепую нанося удары, отдирала руки девушек, вцепившихся в ее одежду, и, наконец, прорвалась внутрь.
Жернова остановились. Рука Дидона с растопыренными пальцами скрючилась на полу в последнем отчаянном жесте утопающего. Издав пронзительный звериный вопль, Тереза выскочила с мельницы. Скользя и спотыкаясь, она взбежала по земляным ступеням на мост и принялась звать на помощь. Обезумев, она кричала, повертываясь во все стороны, с отчаянной силой вонзая ногти в ладони. Дочери подхватили ее вопль и, цепляясь за материн подол, словно были четырехлетними девочками, бежали следом по раскисшей от дождя дороге. Вокруг царил мрак, нигде ни огонька – кроме тусклого, маслянистого света на мельнице, куда никак нельзя оборачиваться.
Три женщины, покинутые Богом, мчались по Люрской равнине между Сигонс и Планье; три одиноких женщины, повергнутые в ужас, вопили, будто почуявшие смерть животные. Ветер швырял им в лицо охапки палых листьев, Лозон ревел, извиваясь в теснине своего песчаного русла, и падал с неба дождь.
Три женщины, оскользаясь и падая, вскарабкались по крутому склону к деревушке. Не переставая вопить, они принялись стучать большим бронзовым молотком в дверь семинарии, но из-за толстых, метровых стен не доносилось ни звука.
Тогда, спотыкаясь в своих мокрых шлепанцах, они потащились вверх по извилистой деревенской улочке, на свет единственного фонаря, бросавшего на мокрую мостовую жирную желтую полосу.
Селеста Дормэр как раз обмакнул в желток кисточку и смазывал ею свежеиспеченные хлебы, когда сквозь шум дождя услышал этот вопль, крик, бормотанье, агонию истощившей себя скорби, которая затихала, как отступающий гром. Охваченный суеверным страхом, булочник разом припомнил все местные предания и легенды, вообразив чудовищного монстра невиданных форм и размеров, кого не могла вместить эта тихая деревенская улочка. Он бросился к ружью, заметался между печью и сваленными грудой мешками, наконец застыл, поворотившись лицом к водяной завесе перед распахнутой дверью.
Но то, что он увидел, было во сто крат ужаснее безымянного чудища.
Да женщины ли это? Эти три распухших лица, с разинутыми в крике ртами, которые извергали дождь и ужас, с вытаращенными глазами, казалось, не вмещавшими зрачок… Их размытые ливнем тела как будто слились воедино, спаянные общим несчастьем.
Прошло не менее трех минут, прежде чем он узнал их, и все это время рты их не закрывались, хотя не издали больше ни звука. Все, что они смогли, это начертить в воздухе дрожащими руками движение вращающегося колеса.
Серафен шел за гробом Дидона Сепюлькра, в котором покоилось то, что удалось собрать с помощью куска холстины, лопаты и ведра.
Он начинал сомневаться в здравости своего рассудка. Вот уже в третий раз кто-то проделывал вместо него его работу, причем настолько ужасным способом, что он задавался вопросом, а хватило ли бы на такое его самого? Кто? Все эти вечера, бродя вокруг мельницы и обдумывая, как достичь своей цели, Серафен ощущал чье-то незримое присутствие. Кто-то был здесь рядом, в тумане или ночной темноте, неуловимый, быстрый и осторожный, точно взбегающая по ветке белка. Но почему? У кого еще, кроме него, Серафена, могли быть такие счеты с мельником, чтобы столкнуть его под жернова? И кто одновременно мог быть также заинтересован в смерти Гаспара Дюпена и Шармен?
Серафен смотрел, как медленно продвигается вперед катафалк, возвышающийся над процессией, потому что дорога от мельницы до церкви и люрского кладбища шла в гору и была настолько крута, что для подмоги в оглобли пришлось запрячь еще одну лошадь. За гробом шагал Патрис, обнимая одетую в глубокий траур Роз, которую прикрывал своим зонтом. С приходом ноября над Люром зарядили дожди.
Жандармы плотной шеренгой стискивали толпу, среди которой, возможно, затаился убийца, в эту самую минуту, где-нибудь в хвосте кортежа, рассказывающий своим приятелям о совершенном злодеянии. Как знать? Мартельеру ведь обнаружили в поднятом состоянии, закрепленной с помощью вставленного в гнездо штыря. Но дождь уничтожил все следы. Между тем в эти долгие безлунные ночи любой из жителей деревушки мог незаметно выскользнуть из дома, пробраться под покровом темноты по хорошо знакомой дороге и поднять шлюзовый затвор, пока Дидон проверял сцепления. Так же, как любой мог намазать мылом край бассейна в поместье Гаспара Дюпена. Но отнюдь не любой – отпереть дверцу паддока, чтобы выпустить на волю свирепых собак, рискуя сам быть растерзанным в клочья.
Серафен пробирался сквозь укрывающуюся под зонтиками толпу, и дождь поливал его непокрытую голову. Люди расступались, давая ему дорогу, вокруг неизменно образовывалась пустота. Все старались отодвинуться подальше, никто не хотел оказаться в его тени.
Несколько раз он боролся с искушением раздвинуть толпу и крикнуть жандармам: «Арестуйте меня! Я не убийца, но желал смерти этим троим. Отведите меня к судье. Он умнее, чем вы или я, и, возможно, поймет».
Однако Серафен молча дошагал до церкви и кладбища, где помог добровольцам опустить в могилу легкий гроб.
Унылый дождь хлестал Люрскую долину, и Дюранс ревела, словно скорбя о бренности человеческой жизни.
Мари слегла. В бреду она размахивала руками, словно отбивалась от чего-то, и без конца твердила: «Я должна им сказать… должна сказать…»
– Доктор говорит, надо ждать, чтобы болезнь проявилась. Он не знает, что это такое.
– Она ест?
– Где там – в рот ничего не берет! И все время бредит.
– Вот как? Что же она говорит?
– Ох, да всякие глупости!
– Какие?
– Ну, вроде она что-то позабыла… Видела что-то или кого-то и теперь должна об этом рассказать…
Клоринда повалилась на прилавок, утирая слезы растрепанными волосами. «Зеница ее очей»…
– Надо напоить ее отваром зверобоя с козьим молоком, чтобы отогнать болезнь.
– Чего уж я только ей не давала! Иссоп и белену, семечки сарсапарели, пальчатку, таволгу, заячью капусту… – Клоринда зарыдала пуще прежнего. – Бедняжка ничего не ест и не пьет! Даже воду приходится вливать ей кофейной ложечкой сквозь зубы. Конечно, мать и сестра помогают мне по дому, да только я вся извелась. А ты хочешь, чтобы я думала о том, как правильно отсчитать сдачу!
По дороге к кладбищу кортеж с останками Дидона Сепюлькра должен был пройти мимо окон Мари. Катафалк подпрыгивал на ухабах, разлаженно дребезжали колеса, тревожно ржали лошади, шаркали шаги и люди перешептывались, склоняясь друг к другу понурыми головами. Правда, кюре и мальчика из хора попросили прервать литанию, пока процессия не минует дом больной, но Мари вдруг перестала стонать, широко раскрыла воспаленные от лихорадки глаза и села на постели.
– Кого это хоронят?
– Никого. Так, одного старика. Лежи спокойно, не то лихорадка усилится.
– Но я должна пойти и сказать им…
Она отбросила одеяло, спустила ноги на пол, хотела встать, но пошатнулась и упала обратно на подушки.
– Бедная моя девочка, куда тебе идти – ты ведь на ногах не стоишь! Вот когда поправишься, тогда все и расскажешь…
– Но тогда будет слишком поздно! – воскликнула Мари, беспомощно перекатывая голову по подушке с отчаянием человека, которого никто не понимает.
Клоринда и ее сестра на цыпочках вышли из нарядной спаленки с безделушками саксонского фарфора, кокетливым секретером маркетри, изящным столиком для рукоделья.
– Бедняжка! Она все ощупывает пустое место на пальце, где было кольцо, и спрашивает, где ее аквамарин… Надо бы съездить в Экс – купить другое. Да как оставить лавку и больную Мари? Ума не приложу, что делать!
Заглянула Триканот, узнать, какие новости. Она трижды обошла комнату, и ее шаги гулко отдавались на плиточном полу. Она сморщила нос и фыркнула. Затем переменила освященный букс, который усыхал в розовой вазочке саксонского фарфора, украшенной изображением пухлого ангелочка, походившего скорее на античного амура, чем одного из воителей крылатой рати Предвечного Отца. Наконец Триканот изрекла:
– Лихорадка, как же! Я-то знаю, что у нее… Господь, сохрани! – И поджала свои тонкие губы.
Несчастье снова нависло над Люром.
А тем временем человек, державший в своих руках ключи от тайны, ехал по направлению к Люру, побуждаемый каким-то болезненным желанием еще раз увидеть эти места. Он был грустен и в трауре – тулью его шляпы опоясывал широкий черный креп. Человек этот только что схоронил горячо любимую жену. Откинувшись на подушки лимузина, с глазами, покрасневшими от слез, проделал он путь из Сен-Шели-д’Апше в Оверни, где за четыре военных года нажил состояние на армейских поставках.
Его трое детей, которым не терпелось опробовать собственные крылья, убедили отца воспользоваться этими печальными обстоятельствами, чтобы немного передохнуть, и он направлялся в Марсель, чтобы потом отплыть на Антильские острова, где у него были кое-какие дела.
Он мог бы путешествовать прямо долиной Роны, по хорошему шоссе, однако в Лионе сказал шоферу: «Поезжайте дальше на Гренобль, мы проедем через Альпы».
Этот крюк он сделал в память о покойной жене, единственной поверенной его прошлого, которая на смертном одре взяла с него слово заехать в эти края.
Вот почему этот богатый и печальный господин трясся в своей роскошной машине по скверной дороге между Ле Монестье-де-Клермон и Крестовым перевалом, по обе стороны которой, на протяжении тридцати километров, полыхали клены в осеннем убранстве.
Ноябрь выдался мягким. Грустный взгляд путешественника задумчиво провожал холмы, одетые лесом далекие горы, деревушки с серыми колокольнями, дожидавшимися Рождества, чтобы раскинуть над снегом гостеприимные огни. Он созерцал этот край, шепотом говоривший о своем мирном счастье у каждого дорожного поворота; бедный край, у которого не было нужды быть богатым; край, которого он никогда не видел.
Да, он не видел его – и однако четверть века назад перемерил пешком, подгоняемый страхом. Он помнил только дождь, ночь и неуют заброшенных риг на опушках леса, где единственными его товарищами были страх да голод. Четверть века назад, 29 сентября 1896 года, он спасался бегством по этим дорогам. Заслышав позвякивание колокольчиков на почтовом фургоне, он стремглав бросался в придорожный ров. Проносилась мимо энергичная рысь лошадей, женский смех под опущенным верхом экипажа, шутки мужчин, аромат духов, запах кожи и сигарного дыма, а он убегал, как затравленный зверь, преследуемый стуком ножа гильотины, который непременно опустится на его хрупкие двадцатилетние плечи, если он даст себя схватить.
Потому что кто бы ему поверил? Кто дал бы себе труд выслушать его объяснения? Он твердил это и сейчас, откинувшись на подушки своего автомобиля, глядя, как проносятся мимо одетые в пурпур клены и мирные дымки над фермами, как с каждой минутой приближается Крестовый перевал с частоколом высоких сосен, тот самый, где, поставив ногу на склон, все еще под проливным дождем, он впервые сказал себе, что, возможно, выкарабкается…
В полдень он добрался до Систерона, где велел шоферу остановиться на улице Сонери, чтобы купить в табачной лавочке газету. В глаза ему бросился растянувшийся над тремя черными колонками заголовок: «Новое преступление в департаменте Нижние Альпы! Мельник раздавлен собственными жерновами. Безусловно, это убийство». Тут же была помещена довольно скверная фотография, на которой все же можно было различить мельничные жернова. Путешественник окаменел на сиденье своего автомобиля. Ему почудилось, будто время повернуло вспять, и он, весь дрожа, опять спасается бегством под проливным дождем. Напрасно он говорил себе, что в наши дни преступление не такая уж редкость – то, что он вот уже во второй раз попадает в этот край под знаком пролитой крови, казалось ему зловещим предзнаменованием. Подавленный страх ожил в нем с новой силой, и он едва не приказал шоферу повернуть назад, однако обещание, данное умирающей жене и, пожалуй, в не меньшей степени любопытство побуждали ехать дальше. Словно какая-то злая сила, против воли, втягивала его в орбиту несчастья…
В Систероне он задержался, чтобы дать шоферу перекусить, тогда как сам, едва притронувшись к еде, отправился побродить по улицам. За прошедшую четверть века городок почти не изменился. Путешественника охватили смятение и растерянность – словно и не было всех этих лет спокойной жизни. Он вспомнил, как старался тогда ночью избегать редких уличных фонарей, как снял башмаки, чтобы заглушить шум своих шагов…
Уезжая из Систерона, он забился в глубь автомобиля, как будто боялся быть узнанным. Бонз-Анфан, Пейпэн, Шато-Арну, Пейрюи… После Пейрюи он велел шоферу сбавить скорость, опасаясь проскочить мимо нужного места. Вот и памятная ферма в Пон-Бернаре с голубятней у края дороги. Он приказал остановить машину и вышел.
– Подождите меня здесь, – сказал он.
Владевшая им тревога рассеялась, он шагал по дороге, словно опять стал прежним юношей, опьяненным молодостью и свободой. Даже принялся насвистывать песенку, с которой когда-то прошел через всю Францию.
Он узнавал каждый утес, каждый пучок полевых маков, каждую ивовую рощицу. Вот у этого источника, вытекавшего прямо из-под земли, со странным углублением в камне, он останавливался тогда, чтобы напиться. Вечерело. Скоро он будет на месте. Ля Бюрльер. Ему сказали: «Постоялый двор Ля Бюрльер. Хозяина зовут Фелисьен Монж. Увидишь, он хорошо тебя примет…»
Путник узнавал все, кроме железнодорожной ветки – в те дни ее здесь еще не было. Внезапно – ему показалось, прошло минут пять, не больше, – он услышал вкрадчивый, баюкающий шум, это был ветер в кронах кипарисов. Этот звук он слышал и тогда. Дорога, которой ему никогда не забыть, свернула вправо. В потемках он то и дело спотыкался на выщербленных плитах, где оставили глубокие борозды тяжелые подводы нескольких поколений ломовых возчиков. Путник вновь ощутил свою тогдашнюю легкость, бесшабашную уверенность в себе. Чтобы иметь пристойный вид, он энергично отер башмаки пучком сорванной на откосе травы, залихватски сдвинул набок широкополую шляпу, расправил украшавшие трость праздничные ленты. Он распахнул ту дверь со словами: «Привет честной компании!»
Ту дверь… Но где она? Ветер продолжал раскачивать четыре одиноких кипариса, и они отвечали протяжной, берущей за душу жалобой. Человек ошеломленно смотрел на широкое пустое пространство, усыпанное измельченным щебнем, сквозь который кое-где уже пробивались первые редкие травинки. Он машинально ступил на этот белый четырехугольник, и едва коснулся ногой земли, как его пронзило мимолетное ощущение, будто он только что прошел сквозь стену. Навстречу ему хлынули запахи прошлого: сохнущих пеленок, грудного молока, горячего супа и сажи – словно лежащий под его ногами пустой кусок земли хранил их все эти годы, чтобы теперь воскресить для него.
Он снова увидел представшую ему тогда картину: женщина, молодая и хорошенькая, угрюмого вида рыжий мужчина, заложив руки за спину, меряет шагами кухню, старик в кресле перед очагом, под большим обеденным столом, хихикая, возятся двое мальчишек, в углу – высокие часы, а рядом, на полу – колыбель с плачущим младенцем…
Это было здесь, между четырьмя кипарисами, которые высоко над его головой шептали о дальнем странствии.
Он попятился за черту белого прямоугольника, как если бы по нечаянности ступил на чью-то могилу.
И тут он увидел колодец – белый под осенним солнцем, как тогда, в лунном свете. Мраморная облицовка блестела, словно была положена только вчера. Человек медленно приблизился к колодцу, продолжая видеть его таким, как ночью четверть века назад, когда молоденьким пареньком бежал отсюда, не разбирая дороги, а следом рокотало гневное дыхание Дюранс.
Внезапно порыв ветра взметнул перед ним столб сухих листьев. Они долго плясали в воздухе, образуя призрачный силуэт, потом осыпались на дно колодца. А в вышине кипарисы нашептывали какую-то позабытую историю…
Человек услышал треньканье колокольцев среди каменных дубов и направился туда. Под деревьями, немного выше по усыпанному желудями склону, старуха пасла нескольких коз. Она подняла голову и посмотрела в его сторону. Путник приблизился, снял шляпу.
– Скажите, когда-то здесь, кажется, был постоялый двор, Ля Бюрльер…
– Был, – подтвердила козья пастушка.
Она говорила, пришепетывая, как человек, у которого не хватает зубов.
– А вы не знаете… что с ним произошло? Тут был пожар?
– Нет, сударь. Преступление. Ужасное, омерзительное преступление, о котором местный люд помнит до сих пор. – Старуха прислонилась худой спиной к каменистому склону. – Пять человек, сударь! Здесь было зарезано пять человек!
Пять… Путешественник прикрыл глаза. Тогда, вне себя от ужаса, он не смог подсчитать, сколько мертвых тел было в комнате, только следил, не отрываясь, за ручейком, который бежал к нему, извиваясь, словно змея, перелился через край люка, с мягким, шлепающим звуком ударился о ступени, ведшие в подпол, обрызгал его башмаки и штаны… Кто поверил бы ему, с ног до головы измазанному этой кровью?
Тем временем пастушка рассказывала, как было обнаружено преступление, о погребении жертв, аресте виновных, судебном процессе – при переполненном зале, и, наконец, о гильотине, нож которой опускался трижды. А еще – о дрожи ужаса, преследующей суеверных жителей деревушки в ненастные вечера.
Он стиснул кулаки, защищаясь от этого потока слов, обрушивавшегося на него из черного беззубого рта. Десять раз он готов был перебить ее – и десять раз останавливался. Ему хотелось крикнуть: «Нет, вы ошибаетесь! Все было совсем не так! И эти трое преступников, казнью которых вы так гордитесь, – они были не виновны! Слышите: не виновны!»
Мысль об этих троих казненных, чьи кости, возможно, давным-давно истлели в общей могиле, потрясла его, привела в ужас: подумать только, ведь одного-единственного его слова было достаточно, чтоб их спасти! Но тогда это его голова скатилась бы под ножом гильотины. Потому что кто бы ему поверил?
– Вы, никак, побледнели, сударь? Да уж, историю, что я вам рассказала, приятной не назовешь. Но, к счастью, один все же уцелел – Господь, по доброте своей, сохранил ему жизнь. И, знаете, это все он сделал… – Концом своей клюки старуха ткнула в направлении пустыря между кипарисами. – Камня на камне не оставил, не хотел, чтоб ему напоминали!
Один уцелевший… Да как мог кто-то уцелеть во время этой бойни? Он помнит, как бежал тогда, оскользаясь в лужах крови, с вытаращенными от ужаса глазами, и видел только трупы. В памяти у него всплыла рука женщины, с растопыренными пальцами, которая все тянулась, тянулась – и бессильно упала. Один уцелевший…
– Да, – сказала старуха. – Это настоящее чудо! Может, они его не заметили. А может, отступились, считая, что смерть ангелочка накличет на них беду. Ему ведь было-то всего три недели от роду…
Три недели… Младенец, плакавший в колыбели под часами. Сегодня ему должно быть двадцать пять лет. Человек, которому он сможет наконец-то рассказать правду, облегчить свою душу…
– И он… жив сейчас? – спросил путешественник.
– Жив ли он? Черт возьми! Это здоровенный парень, ростом с каланчу. А уж красавчик! – Она хлопнула в ладоши и закатила глаза, будто призывая небо в свидетели правдивости своих слов.
– И… он живет в здешних краях?
Взгляд Триканот сделался подозрительным. Что-то внутри подсказывало ей не соваться в это дело. В Люре и так творится немало жутких вещей. А тут еще этот господин: черный костюм, черный галстук, креп на шляпе и лицо похоронное! Нередко, думала Триканот, беда возвещает о себе таким вот гонцом. Он напомнил ей черного человека, который во время войны в сопровождении двух жандармов разносил похоронки, крики за дверью – матерей, жен… Человек в трауре – дурная примета. Бедняга Серафен и так уже нахлебался, не стоит лишний раз бередить его раны!
– Сударыня, – после минутного колебания сказал незнакомец, – я чувствую, что вы знаете, где он, и не решаетесь мне сказать. Если этот человек разрушил свой дом, значит, его до сих пор терзает преступление, отнявшее у него всех близких. Быть может, его преследуют сомнения… Так вот: я могу открыть ему долю правды, и, думаю, ему станет легче, если он это узнает.
– Правды? – Триканот поперхнулась и со свистом втянула воздух. – Но правда уже известна!
– Нет, – тихо проговорил незнакомец.
Окаменевшая от изумления, Триканот добрую минуту не могла раскрыть рта.
– Он живет в Пейрюи, – сказала она наконец, – на площади у фонтана, где высечены такие мерзопакостные рожи… Узкий дом с пристройкой, подниметесь по лестнице…
Незнакомец поблагодарил ее, поклонился, надел шляпу и зашагал прочь. Триканот слушала, как замирают его шаги, и ветер перешептывается с кипарисами, пока две козы не ткнулись мордами ей в руку, напоминая, что пора возвращаться домой. Тогда, пронзительно свистнув, старуха созвала своих коз и, подобрав юбки, потная и задыхающаяся, поспешила в деревню. Она уже представляла, как крикнет сейчас: «Эй, Клоринда! Выглянь-ка на минутку! Помнишь историю с Ля Бюрльер? Так вот, ты не знаешь…», но внезапно замедлила шаг. Нет. Придется держать это про себя. Бедняжка Клоринда! Ей собственного горя хватает, чтоб еще выслушивать о чужих несчастьях!
Незнакомец быстро отыскал дом Серафена Монжа, и шофер, ворча и ругаясь, с трудом припарковал лимузин на крошечной площади, где невозможно было толком развернуться.
Человек выбрался из машины, поднялся по трем ступенькам и трижды постучал в узкую дверь. Никакого ответа. Он потянул за ручку и обнаружил, что дверь не заперта. Поколебавшись минуту, незнакомец вошел и поднялся по лестнице, которая вела прямо в кухню.
Здесь он какое-то время стоял перед скромным домашним очагом, ощущая себя незваным гостем. Он увидел блиставший чистотой пол, холодную плиту, выстроившуюся у края мойки посуду. Стол был сдвинут по отношению к стульям. Незнакомец прошел в альков, где помещалась аккуратно застеленная кровать с очень чистыми простынями и единственной тоненькой подушкой. В этом бедном жилище царил педантичный порядок человека, который не желает, чтобы посторонние могли судить о нем по внешнему виду его дома. Все здесь было безликим, за исключением, быть может, слабого, едва уловимого запаха бергамота: ни газеты, ни книги, вообще ничего позволяющего составить хоть какое-то представление о характере и привычках хозяина.
Человеку в трауре пришлось вырвать листок из своего блокнота, чтобы набросать несколько строчек для единственного уцелевшего из Ля Бюрльер. Покончив с этим, он принялся искать какой-нибудь предмет, чтобы придавить им оставленную посреди стола записку.
Ничего! Хотя, нет. Внезапно его внимание привлекла стоявшая на этажерке рядом со сковородкой коробка из-под сахара – как раз то, что нужно. Незнакомец потянулся к ней и нашел странно тяжелой, но в первый момент не придал этому значения. Он подсунул записку под край коробки, и только теперь его заинтриговал ее вес. Уступая любопытству, он откинул крышку, не разворачивая, приподнял сложенные листки бумаги, заглянул вовнутрь – покачал головой, захлопнул коробку и вышел.
Сердце его дрогнуло от жалости к обитавшему здесь человеку, ибо тот, кто оставляет незапертой дверь комнаты, где хранятся четыре килограмма золотых монет, в душе должен быть глубоко несчастен.
Когда лимузин выехал на дорогу, поднимавшуюся к Мальфугасс, вечернее солнце бросало косые лучи на заросли каменных дубов на склонах Сен-Дона, превращая их в океанские волны. Неподвижная зыбь этих лесов, густых, словно овечье руно, обрамляла возведенную на холме старинную церковь, издали похожую на груду камней.
Построенная почти десять веков назад, она упорно противилась разрушению. За прошедшие годы церковь разграбили, ободрали, сбили водосточные желоба и узорчатые канители изящных колонок, украшенных сценами из жизни святого, – и все равно она упрямо вздымала над зеленью лесов свой шпиль, увенчанный усеченным крестом с короткими – чтобы противостоять эрозии – горизонтальными перекладинами. Эта серая громада стояла на отшибе, вдалеке от обитаемых мест, одинокая, массивная, отмеченная печатью безмолвной тайны и смутной угрозы, присущей всем твердыням веры.
Кто построил ее? Что за люди, вытянувшись нескончаемой цепью, передавали из рук в руки камни, нестройными песнопениями славя святого? Теперь ее обступили, стиснули со всех сторон вечнозеленые каменные дубы, приподнимая над собой вздыбленными узлами корней.
Церковь не изменилась, хотя вот уже четверть века прошло с памятного вечера, когда она явилась взгляду юного путника в последних пробившихся сквозь облака лунных лучах, за несколько мгновений до того, как все погрузилось во тьму и вновь зарядил дождь. Она и тогда была разрушена, как сейчас, и такие же хилые растеньица напрасно пытались укорениться на обрушенной кровле.
Человек приказал шоферу подождать его у подножия холма, а сам принялся взбираться к развалинам церкви. Ему казалось, он ступает по следам того стройного, ловкого юноши, которому страх и опасность будто придали крылья. Он поддался тогда искушению укрыться от дождя под этим черным портиком, нависшим над огромным пустым нефом с плотно утоптанным земляным полом. И здесь же, обретя немного здравого смысла, он сказал себе, что единственный шанс на спасение для человека, невольно оказавшегося свидетелем такого жуткого преступления, – бегство…
Человек взглянул на часы. Придет ли Серафен? Не зря ли он назначил ему свидание здесь, вместо того чтобы просто подождать у него дома? Поддавшись желанию сделать эту церковь свидетельницей своей исповеди, он рисковал теперь провозгласить ее в пустоте…








