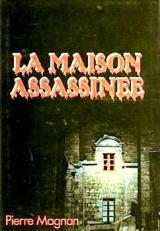
Текст книги "Дом убийств"
Автор книги: Пьер Маньян
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
Он запнулся, подбирая слова.
– Гильотинировали трех невиновных, – докончил Серафен.
– Глупцы! Должно быть, они забрели в усадьбу на рассвете. Скорее всего, уже основательно под хмельком. Они увидели открытую дверь, что-то стащили – яйца, ветчину… У раковины как раз стояла бутылка водки: Монж держал ее наготове, чтобы наливать возчикам… Конечно, они не могли не заметить трупы! Но водка… бутылка подействовала на них, как приманка. Что с них возьмешь – дикари! Подбираясь к выпивке, они должны были перешагивать через трупы… Тебя они даже не заметили! Что ты хочешь…
Он проворчал какое-то ругательство по адресу казненных герцеговинцев. Серафен смотрел на его искаженное судорогой землисто-серое лицо. Слова, слетавшие с этих бескровных губ, казалось, не имели ничего общего с преследовавшей его, Серафена, жуткой картиной.
– Я сказал – к счастью, – продолжал Зорм, – но кто знает? Уж лучше эшафот, чем столько лет постоянного страха. Тогда я не разглядел, кто эти трое. Мало ли что… Случайная женщина, попойка, когда море по колено и весело мочатся на крапиву… «Помните историю с Ля Бюрльер? Так вот, я знаю, что там произошло. И было все не так, как вы думаете…» Это ведь так легко, сорвется с языка – и пиши пропало… К счастью, здешний люд обходит меня стороной, даже смотреть избегают. Никогда, – сказал Зорм, – никогда и никто не смотрел на меня так, как ты…
Он умолк и снова прислушался. В наступившей тишине листва кипариса перешептывалась с ветром. Зорм откинулся на подушку.
– Уже поздно, – пробормотал Серафен.
– Ах, да! – сказал Зорм. – Ты ведь пришел, чтобы узнать. Думаешь, у меня будет время все тебе рассказать? Когда я увидел, как ты молотишь кулаками по камням, я понял, что ты не отступишься, перевернешь все плиты, чтобы докопаться до скрытой под ними тайны. С тех пор я ходил за тобой по пятам. Я ведь был в лавровой роще в тот день, когда ты говорил… говорил с дочкой Селеста Дормэра. И вечером, когда за тобой приходил брат Каликст. И тогда я понял, что все цепляется одно за другое, увлекая тебя к ложной истине.
– Так это вы звали меня той ночью?
– Да. И я пошел за тобой к источнику Сиубер, видел, как ты проводил рукой по тому месту, где точили резаки и косы. Я понял: ты что-то узнал… Дни и ночи следил я за тем, как ты разрушаешь Ля Бюрльер. Я бродил среди развалин, после того как ты разобрал дымовую трубу, и увидел тайник, который ты обнаружил. Мне нужно было узнать, что ты нашел.
– Значит, ваше присутствие я почуял в моей кухне?
– Я сказал себе: «Когда он схватит их за глотку, они станут выкрикивать мое имя и поднимут визг, точно свиньи под ножом мясника. Они будут твердить это, пока он не услышит. И он придет. И тогда…»
– Я пришел, – сказал Серафен.
– Слишком поздно. Я умираю, а ты теперь знаешь правду. Но я не мог рисковать, что не успею тебе всего рассказать. И потом, ты мог мне не поверить…
– Еще могу.
– Подожди, если хочешь, чтобы я закончил. Так вот, я не мог рисковать. Я не знал, когда и как ты возьмешься за них. Когда я увидел, что ты направляешься в Понтрадье, я поехал следом. Гаспар был первым. Во всяком случае, он это заслужил. Если эти трое не убили Монжа в ту ночь, то лишь потому, что я их опередил. Я оказал им славную услугу…
Зорм умолк. Его взгляд был прикован к одному из окон, занавеска на котором колебалась от сквозняка.
– Кто еще здесь? – проворчал он. – Я не ждал никого, кроме тебя.
– Это ветер, – сказал Серафен.
– Знаешь, это ты меня надоумил. Я видел, как ты поглаживал край бассейна, как будто находил его недостаточно гладким… И я видел также, как в тумане ты остановился перед мартельерой бьефа на мельнице Сепюлькра, а потом вернулся и заглянул в слуховое окно.
– Это, правда, все так… – прошептал Серафен.
– Да, – сказал Зорм, – но остальное-то сделал я.
– А Шармен? Вы забыли о Шармен. Потому что это ведь вы выпустили из вольера собак?
– Животные – не люди, – вздохнул Зорм. – Природа для меня – открытая книга. Я мог разговаривать с совами, барсуками… Представляешь, с барсуками! Они часами слушали меня, сидя на задних лапках. И уж тем более я умел говорить с собаками…
– Но Шармен ничего вам не сделала.
– Она меня видела. Правда, какую-то долю секунды… Ночью, в парке, она приняла меня за тебя и окликнула: «Серафен!»
Серафен почувствовал, как сердце замерло у него в груди и провалилось куда-то в пятки, потому что Зорм произнес его имя голосом Шармен.
– Впоследствии она могла об этом вспомнить, – продолжал Зорм, – узнать меня при встрече… Я не мог рисковать. – Он усмехнулся. – Надо же, столько натворить, чтобы избежать смерти, и вот тебе…
Серафен отвел взгляд и, отвернувшись, отошел от постели. Ошеломленный, бродил он по огромной комнате. Так вот какова правда, принесшая столько зла! Человек в припадке безумия истребляет свою семью. У другого человека нет иного выхода, кроме как убить первого, чтобы спасти его, Серафена, лежащего в колыбели…
Он остановился перед занимавшим угол комнаты большим столом. Он говорил себе, что сам, будучи сыном убийцы и потомком преступников, не имеет права судить поступки других. Скелет, обнаруженный на дне колодца, давил ему на плечи, как будто он выволок наверх труп и таскал его теперь за собой.
Серафен стоял, тупо уставясь на этот огромный стол, где в диком беспорядке были свалены самые разнообразные вещи. Вероятно, они накапливались здесь не один десяток лет, иногда чистые, иногда покрытые пылью, отжившие свой век: посудины с песком для просушки чернил, часы с выпуклыми крышками, исцарапанными от небрежного обращения, гравюры, изображавшие религиозные сюжеты, при одном взгляде на которые делалось не по себе, выцветшие фотографии надменных женщин и хитрых, сластолюбивых стариков, перочинные ножи, пуговицы от воротничков, потертые обручальные кольца, дамские зеркальца, пряди волос в медальонах, митенки, монокли – как будто десятки людей вытряхнули на этот стол содержимое своих карманов, прежде чем отойти ко сну. Весь этот невообразимый вещный хаос венчала роза ветров, выгравированная на фаянсовой плитке, и секстант, привинченный некогда в корабельной каюте.
И, словно по контрасту с этим беспорядком, перед просевшим, набитым соломой креслом оставался довольно большой кусок свободного пространства. Здесь, на аккуратно вытертой поверхности были расставлены по высоте несколько причудливых флаконов, отливавших мутно-радужным туманом, а перед ними – предмет совершенно неуместный в доме одинокого старого человека. Это была кукольная кроватка из орехового дерева, с высокими точеными ножками и блестящими шариками в изножье и изголовье – точная копия настоящей кровати – роскошная игрушка, изготовленная, наверно, более века назад. Она стояла на пластинке из какого-то матового металла, по-видимому, свинца.
На кровати лежала кукла – фигурка около тридцати сантиметров в длину, грубо вылепленная из горшечной глины, с нескладным туловищем, тонкими ногами и длинными, словно у обезьяны, руками. Две маленьких выпуклости на торсе изображали груди, а между ними, погруженные в глиняное тело, торчали собранные в пучок семь галстучных булавок с камнями разных цветов. Овальная голова, немного склоненная набок, только формой напоминала человеческую – ни глаз, ни носа, ни рта. Посреди лба была воткнута еще одна булавка с насаженным на нее кольцом, которое покоилось на кукольной головке, точно диадема, расплющивая ее своей тяжестью. Вставленный в кольцо аквамарин концентрировал лучи заливавшего комнату заходящего солнца и отбрасывал свет в синие глаза Серафена.
Он уже видел это кольцо. Но где, при каких обстоятельствах? Серафен не припоминал, чтобы когда-нибудь интересовался кольцами, и, однако, оно было ему знакомо. Шармен? Нет. Шармен не носила колец. И вдруг его осенило.
– Мари!
Серафен увидел ее, нарядную, свежую, будто майское утро, как она сидит, болтая ногами, на краю колодца, куда он хотел ее столкнуть. Тогда Мари держалась рукой за один из прутьев железной арки, а на пальце у нее было кольцо – то самое, которое искрится теперь на утыканной булавками кукле.
– Мари!
Серафену вспомнились боязливые перешептывания людей, с которыми он сталкивался в последние дни и еще сегодня утром на рынке в Форкалькье, эти слова предвещали беду: «Мари, дочь булочника из Люра… Говорят, у нее тиф… Ей кладут лед на голову… Ей сделали пункцию… Бедняжка долго не протянет… А жаль, такая красотка!»
– Мари! – прошептал Серафен.
Он сорвал кольцо с аквамарином и сунул себе в карман. Схватил глиняную куклу и раздавил в своих огромных ладонях. Иголки, которыми она была утыкана, вонзались ему в тело, но он не чувствовал боли – так же, как когда в него впивались клыки доберманов, потому что им вновь овладела разрушительная ярость. Бешенство захлестнуло Серафена. Он швырнул останки куклы на пол и топтал их ногами, потом бросился к умирающему, опрокинув по пути табурет. Но тут послышались чьи-то легкие шаги, и Роз Сепюлькр загородила ему дорогу.
– Нет! – крикнула она. – Только не ты! Ты не должен его убивать!
– Отойди!
Серафен хотел схватить ее за запястье и оттолкнуть в сторону, но девушка легко увернулась и отбежала к тому месту между стеной и опорой арки над очагом, где во всех деревенских домах – только руку протяни – хранятся ружья. Роз сорвала с гвоздя ружье, судя по тяжести, заряженное, и направила его в грудь Серафену. Она пятилась от него, шаг за шагом, а он, тяжело дыша, продолжал наступать.
– Остановись! – снова крикнула Роз. – Не делай этого, иначе будешь жалеть всю жизнь!
Он молча положил руку на ствол ружья.
– Выслушай хотя бы, Что я тебе скажу! А потом делай, как хочешь, я не стану вмешиваться. Но все, что он тут наговорил, неправда! Мы были под окном – я и Патрис – и слышали. А еще мы были у тебя дома и нашли бумаги. Теперь мы знаем… Но ты не знаешь! Все не так, как ты думаешь. Ты не должен его убивать!
Серафен остановился. Ствол ружья уперся ему в живот, но не это заставило его остановиться. Он подумал, что перед ним дочь Дидона Сепюлькра, раздавленного жерновами. Она все слышала, следовательно, знает теперь, кто убил ее отца. Если она потребует у Серафена ареста убийцы…
Между тем Роз вздохнула и опустила ружье.
– Ты хотел знать правду, – сказала она. – Ты так давно ее ищешь… Так слушай!
– Молчи! – крикнул Зорм.
Нечеловеческим усилием он сел на постели, отбросив простыни и одеяло; было видно, что смерть уже обглодала это тело, так что его можно сразу класть в гроб.
– Ну уж нет! – воскликнула Роз. – Сейчас он получит свою правду!
Она подбежала к камину и концом ствола приподняла черную вуаль, скрывавшую одинокий портрет на мраморной полке. С поблекшей фотографии смотрело лицо молодой женщины. У нее были печальные глаза, левый немного косил.
Это зрелище потрясло Серафена больше, чем; зияющее дуло, он попятился. Его охватила дрожь, огромное тело начало содрогаться, словно дерево под топором лесоруба. Он конвульсивно провел рукой по лицу, но портрет с чуть косящим взглядом светлых глаз был на прежнем месте – осязаемый, материальный. Его можно было взять в руки, повернуть, поцеловать в губы. Те самые губы, которые столько раз являлись ему в ночном кошмаре, желая сказать то, что Серафен упорно отказывался слышать, приоткрытый рот с мелкими зубками. Серафен услышал шорох мертвых листьев возле колодца.
– Моя мать… – прошептал он.
Роз взглянула на него с удивлением.
– Откуда ты знаешь? – спросила она. – Ведь ты ее никогда не видел!
Серафен покачал головой. Он ни с кем не мог разделить тайну, благодаря которой узнал лицо своей матери. Он начал догадываться, что именно она хотела ему сказать.
– Она была подругой моей матери, – заговорила Роз, – девушками они вместе ходили к первому причастию. Когда мама рассказывала о преступлении, она показала мне снимок, где они сфотографированы вдвоем – мама и Жирарда.
Серафен смотрел на креп, черным пятном выделявшийся на красных плитах перед камином.
– Моя мать… – повторил он.
– Теперь ты понимаешь? – мягко проговорила Роз.
Зорм упал на подушки. В его дыхании все явственнее прослушивался свист воздуха, выходящего из продырявленной волынки.
– Она любила меня до того, как сделаться его женой, – прошептал он. – И я тоже. Но когда она поняла, что тот – просто грубое животное, было слишком поздно. Один раз, всего один лишь раз были мы вместе. А после ее смерти я уже не смотрел на других женщин…
– Все здесь это знали, – сказала Роз.
– Я не хотел, чтобы она лишилась уважения в глазах окружающих…
– Все! – повторила с нажимом Роз. – Моя мать мне так и сказала: дитя любви. Акушерка проговорилась за пару часов до смерти. «Бедняжка Серафен, когда он родился, голова у него была точнехонько, как у Зорма. Ну, просто вылитый! Я не знала, как его держать, чтоб Юилляу не заметил…»
– Один-единственный раз! – прохрипел Зорм с тем звуком, с каким из бурдюка выходит последний воздух. – Я хотел сберечь ее доброе имя. Не хотел, чтоб о ней судачили. И потом, когда я увидел тебя… увидел тебя…
– Скажите же ему сейчас, когда вам уже нечего терять, почему вы убили моего отца и Гаспара Дюпена. Скажите ему правду, Зорм!
– Я не хотел, чтобы ты стал убийцей. Когда я нашел у тебя бумаги, которые ты обнаружил в тайнике, я понял, что ты собираешься делать… И тогда я сделал это вместо тебя. Я не мог открыть правду: твоя мать взяла с меня слово… Я хотел, чтобы в твоих глазах она осталась незапятнанной. И еще я хотел, чтобы хоть ты ускользнул от судьбы.
– Но Шармен…
– Нет. Она не узнала меня тем вечером в парке. Но я видел, как она приходила к тебе и взяла коробку из-под сахара. Таким образом, ты оказался в ее власти.
– А Мари? – прошептал Серафен.
– Забудь о ней.
– Нет! – воскликнул Серафен.
Он протянул к умирающему исколотые булавками, перепачканные кровью и глиной руки.
– Ей не повезло, – сказал Зорм. – На свою беду, она разглядела меня в тот день, когда я застал у тебя Шармен. Даже в бреду она не перестает повторять: «Я его видела… я должна рассказать…» И потом… я подумал, что вместо ее отца, который слишком осторожен… хватит и дочери… Что после разорения и траура, в который погрузятся три семьи, ты наконец успокоишься…
В последнем усилии он приподнялся на локтях и устремил на Серафена свой еще полный жизни, сверкающий взгляд.
– Теперь ты доволен, Ангел Мщения?
– Он заговаривается… – прошептала Роз.
– Слишком поздно… Мари умрет… У меня не хватит сил воротить сделанное…
Зорм упал на подушки, с губ его сорвалось какое-то бормотанье. Позже Роз клялась, что ей удалось разобрать слова: «Я мог бы еще… пальцы…»
– Отец! – Серафен отстранил девушку, попятившуюся на несколько шагов, и склонился над кроватью. Зорм лежал, вытянувшись, и плоть медленно опадала под чертами его лица, расплываясь по костяку проступавшего черепа. Невидящие глаза были широко раскрыты.
– Ты не создан, чтобы карать, – мягко сказала Роз.
Серафен отвернулся. Он чувствовал себя еще более разбитым и подавленным, чем когда вернулся с фронта, оставив позади столько смертей. Но имя Мари служило ему путеводной звездой.
Проходя мимо камина, он взглянул на портрет своей матери. Рука его поднялась, словно он хотел погладить это лицо, но жест остался незавершенным. Чары развеялись.
Когда Патрис увидел его выходящим из дома, черты Серафена хранили свою обычную неподвижность. Из деликатности Патрис его не окликнул. К тому же он не мог помешать себе быть счастливым. Он начинал видеть свое изувеченное лицо глазами Роз, ее любовь исцеляла его. А счастливые эгоистичны.
Что до Серафена, он смотрел на Патриса, не видя его. Он вскочил на свой велосипед и помчался что было духу, не оборачиваясь назад.
Вот уже неделю обитателям Люра приходилось есть плохо пропеченный хлеб. Селеста было не до работы. И люди его не осуждали. Они говорили: «Что вы хотите, когда его малышка в таком состоянии? – Ей хуже? – О, совсем плохо! Она попросила, чтоб ей принесли часы и колыбель. – Какие часы? И при чем тут колыбель? – Ах, нет смысла объяснять! Вы все равно не поймете…»
Когда Серафен вырос на пороге пекарни, загородив собой весь проем, держа под мышкой роковую коробку из-под сахара, Селеста сидел, навалившись на разделочный стол, уронив перед собой белые от муки руки. У него не было сил даже начать месить тесто. Он чувствовал, как в его жилах пульсирует лихорадка, сжигавшая тело Мари.
Когда он осознал, что кто-то стоит в дверях, закрывая доступ остаткам дневного света, он поднял голову и сделал слабое движение по направлению к ружью. Но рука его упала. К чему все это? Какой смысл спасать свою жизнь, если Мари должна умереть?
Серафену пришлось согнуться чуть ли не вдвое, чтобы пройти в узкую дверь.
– Не стоит, – сказал он, увидев нацеленное ему в живот ружье. – Я знаю, кто убийца моей матери.
– В самом деле? – пробормотал Дормэр.
Теперь эта давняя история казалась ему не имеющей никакого отношения к его жизни, словно приключилась с кем-то другим, будто ему ее рассказали, а он выслушал без особого внимания.
– Зорм умер, – сказал Серафен.
– А, хорошо…
Селеста немного повертел в мозгу эту новость, которая объявилась слишком поздно. Еще неделю назад он выбежал бы на улицу, пьяный от радости, с трудом подавляя желание закричать во всю глотку: «Зорм умер!», но теперь, на фоне обрушившегося на него несчастья, этот факт едва дошел до его сознания.
– Но тогда, если Зорм умер, быть может, я могу рассказать тебе правду?
Серафен кивнул.
– За этим я и пришел.
Селеста смотрел прямо перед собой на белый свод пекарни.
– У тебя не найдется сигареты? – спросил он. – Я оставил свои на прилавке в булочной.
Серафен молча свернул самокрутку. Смешанный запах табака, муки и сосновых веток, сваленных на антресолях, казалось, придал несчастному булочнику немного бодрости.
– Когда мы в ту ночь подошли к Ля Бюрльер с резаками в руках, – начал он, – Зорм как раз выходил оттуда. Лицо у него было жуткое и пальцы в крови. Он пошел к колодцу, а потом уехал на дрезине. Тогда мы заглянули в дом. Внутри все было залито кровью, как на бойне… Даже в воздухе стоял кровавый туман… Об остальном не спрашивай. Мы ушли через плато Ганагоби, каждый в свою сторону, и потом избегали друг друга. Если нам случалось столкнуться на улице, мы спешили свернуть в боковой переулок. С тех пор я не знал покоя. Думаю, те двое тоже, до самой смерти. Все боялись Зорма.
– Кстати, насчет мертвецов, – вставил Серафен, – это сделал Зорм. Он тоже вас боялся.
– Так, значит, это не ты?
– Нет. Я хотел. Но он меня опередил.
– Ах, мы боялись не только Зорма… Было еще правосудие. Даже когда гильотинировали тех троих, я продолжал чувствовать у себя на шее нож гильотины. Ночами я вскакивал, точно подброшенный пружиной, и слышал, как падает лезвие, со свистом рассекая воздух. – Он помолчал несколько минут. – Мой отец сказал мне перед смертью: «Селеста, запомни, сынок, если у тебя возникнет какая нужда, обратись к Фелисьену Монжу. Он не сможет тебе отказать. Слышишь? Не сможет…» Я понял, что это какая-то старая история, еще между нашими дедами. Не знаю, в чем там было дело…
– Я знаю, – сказал Серафен.
– А! Тогда я могу тебе рассказать. Я слышал об этом от одного старика из Вильнев, он умер почти в столетнем возрасте. Он рассказал мне, но тогда я не поверил.
– Спуститесь в колодец Ля Бюрльер, – сказал Серафен, – и убедитесь сами.
– А! Что ты хочешь? Так уж здесь повелось: если желаешь пробиться в жизни, нужно чуток подтолкнуть счастливый случай…
– А как же! – вздохнул Серафен.
– Так вот, – продолжал Селеста, – когда возникла нужда, Монж не сказал «нет». Ни мне, ни Дидону, ни Гаспару. Только каждый год мы, трое, встречались в день св. Михаила перед воротами усадьбы Ля Бюрльер. Двадцать три процента! В один прекрасный день мы взбунтовались, мы больше так не могли. Нам пришлось жениться на безобразных наследницах, чтобы получить хоть какие-то гроши. Но, – добавил он, качая головой, – как мы ни храбрились, оказалось, задуманное нам не под силу. Когда мы увидели всю эту кровь, нас чуть наизнанку не вывернуло, мы цеплялись друг за дружку, будто пьяные… Да еще ты кричал в колыбели!
– Вы знаете, что Монж не был моим отцом?
– Увы.
– Я не имею права даже на имя, которое ношу, – с горечью сказал Серафен.
Он протянул булочнику коробку из-под сахара, украшенную бретонским пейзажем с придорожным распятием.
– Здесь ваши расписки Монжу, можете их сжечь. А под ними – золотые монеты. Это для Мари. Отдадите ей, когда она поправится.
– Поправится… – пробормотал Селеста. – Поправится…
Внезапно он уронил голову на руки и разрыдался.
– Она умрет! – простонал он. – Доктор сказал, и недели не протянет!
Серафен поднялся и положил руку ему на плечо.
– Вы отдадите ей золотые, когда она поправится, – повторил он с нажимом. И добавил с грустью: – Чтобы она простила меня, если сможет, за то, что я вторгся в ее жизнь.
Удивленный булочник поднял голову. Он чувствовал рядом дыхание человека, которого так боялся, с чьим образом были связаны самые мрачные воспоминания в его жизни. Странно, но теперь рука Серафена на его плече ощущалась им как защита и покровительство. Селеста машинально открыл коробку. Вот она расписка, которая отравила ему жизнь, состарила раньше срока и едва не погубила, как двух других. Сейчас это просто ничего не значащая бумажка. Под сложенными долговыми обязательствами сонно поблескивали монеты, сияние их было мирным и теплым, как будто ничего не случилось.
– На них еще больше крови, чем на бумагах, – сказал Серафен.
– Но… А ты? – растерянно пробормотал Селеста.
– Я? На что они мне?
– Ну, ты мог бы… Так что ты собираешься делать?
– Я хочу увидеть Мари.
Серафен повернулся к булочнику спиной и, пригнувшись, вышел через низкую дверь на пустынную улицу. Была уже глубокая ночь. Откинув занавеску из шариков, заменявшую внутреннюю дверь в булочной, он увидел за прилавком плачущую Клоринду.
– Я пришел повидать Мари, – сказал Серафен и, не дожидаясь ответа, тяжело ступая, поднялся по узкой лестнице, в жилые комнаты. Из полуоткрытой двери, за которой горел ночник, на него пахнуло жаром, удушливым запахом болезни. Серафен толкнул створку.
«Я сидела подле Мари, – рассказывала потом Триканот. – Обернулась и увидела его. Он был – как бы это вам сказать? – весь окружен ореолом гнева. Я видела, что он дрожит, словно ивовая ветка. От него пахло камнем, чревом земли, опавшими листьями, потоком – чем угодно, только не человеком. Тогда я встала и тихонько вышла. Я оставила их одних, как молодых в брачную ночь».
Теперь Серафен был наедине с Мари.
Девушка лежала, стиснув кулаки, точно боролась с кем-то или чем-то. Даже сейчас чувствовалось, что где-то, в самой глубине ее существа, собрана в тугой комок огромная сила, не позволяющая окончательно вырвать жизнь из этого тела, не желающая поддаваться смерти, но готовая сражаться до последнего вздоха, в жестокой и отчаянной схватке.
За время болезни Мари страшно исхудала, под одеялом лишь смутно угадывались очертания ее иссохшего тела. Поредевшие волосы слиплись, обнажая выпуклый лоб и слегка оттопыренные уши. Глаза были открыты, беспокойные, настороженные, готовые в любую минуту закатиться. Дыхания почти не ощущалось, но при каждом слабом вздохе комнату наполняло невыносимое зловоние. Пальцы, скрюченные, будто у скупой старухи, судорожно скребли одеяло, быстрым движением прядущего паука.
Серафен огляделся. Он увидел безделушки саксонского фарфора, аккуратно расставленные на мраморной доске комода, и без особого удивления обнаружил в изножье кровати свою колыбель, а в ней – точно уродливого младенца – часовой механизм, который она когда-то вырвала у него в Ля Бюрльер, чтобы увезти с собой.
В изголовье больной стоял мягкий стул с обивкой в желтую и зеленую полоску – такие являются предметом роскоши у здешних небогатых людей. Серафен развернул стул перпендикулярно кровати и опустился на него, сдерживая дыхание. Он протянул руки к скрюченным костлявым пальцам и крепко сжал их в своих ладонях. Он почувствовал жар под холодной, шелушащейся кожей, что-то злобно противилось его усилию, будто острые кошачьи когти впивались ему в тело. Но вот напряжение спало, теперь это были просто бедные, покорные, измученные болезнью руки, и они говорили Серафену то, что не могли сказать губы Мари.
Он поднял глаза к распятию и вазочке с веточкой освященного букса, взгляд его был полон тревоги и немого вопроса.
Мир вокруг погружался в ночь, и Серафен наедине с умирающей Мари чувствовал себя жалкой соломинкой, сил в которой осталось не больше, чем у распростертого перед ним тела. Но он упрямо не выпускал ее рук. Теперь на ней сосредоточились все его мысли, сочувствие и сострадание, и постепенно Серафен начал улавливать слабое, еще бесконечно хрупкое дыхание, едва приподнимавшее одеяло, словно на груди у девушки лежала мраморная плита.
Окно спальни выходило на север, и сменявшие друг друга часы отмечались на черном небе движением Большой Медведицы, которая пятилась, отступая за горы. Но пока холмы и деревни, где мерцали редкие огоньки, лежали, объятые сном, и пройдет еще немало времени, прежде чем они пробудятся под улыбающимся солнцем.
Серафен не отводил глаз от распятия, расположенного на одной линии с окном. Он не позволял себе усомниться, но испытывал страх при мысли, что жалкий медиум не сумеет передать весь жар этой внутренней молитвы.
Ночь напролет боролся он со смертью тем единственным оружием, которое было в его распоряжении.
Иногда дыхание замирало на губах Мари, и, казалось, что девушка испустила последний вздох; пульс ее беспорядочно частил, будто жизнь пыталась ускользнуть, бежать навстречу настоятельному призыву. Тогда он крепче сжимал бесчувственные пальцы в теплом гнезде своих ладоней, всеми силами поддерживая битву Мари. Но вот возок Большой Медведицы перевалил через отроги Грайи, и голова Серафена опустилась на грудь; он продолжал держать руки Мари в своих, однако теперь ладони его раскрылись, словно чаша, – поверженный усталостью, он засыпал, забывался…
Его разбудило ощущение появления чего-то нового в этой комнате. Беспорядочный пульс сменился размеренным движением часового механизма, он бился глухо, но ровно, и паузы лишь подчеркивали его величественный ритм.
Серафен поднял взгляд к лицу Мари. Глаза у нее были открыты, и она улыбалась. Жизнь возвращалась к ней с каждой минутой. Заострившиеся черты разгладились, округлившиеся щеки покрыл легкий румянец.
Чтобы девушка не чувствовала запаха смерти, Серафен распахнул окно навстречу свежему утреннему ветерку, и Мари поблагодарила его долгим вздохом.
Вернувшись к ней, он достал из кармана кольцо с аквамарином и надел ей на палец.
Потом Серафен приложил палец к губам и вышел, пятясь, на цыпочках. Он спустился по лестнице. Клоринда сидела все в той же позе, уронив на руки растрепанную голову. Серафен тронул ее за плечо.
– Ступайте к дочери, – сказал он. – Она будет жить.
Он вышел на залитую солнцем улицу, не заметив Триканот и маркизы де Пескайре, двух старых женщин, которые пожирали его взглядом сквозь полуоткрытую дверь.
Он вывел свой велосипед и покатил вдоль улочки. Четыре кипариса жалобно гнулись под ветром по краям ровной и чистой площадки, где стоял исчезнувший дом, который не был его родным домом. Серафен бросил последний взгляд на колодец и бассейн для прачек. Никогда больше мать не придет навестить его. Чары развеялись, облетев, будто осенние листья.
Впереди лежала самая тяжелая из дорог – дорога повседневной жизни.
Серафен, не оборачиваясь, нажал на педали…
Я пересек Дюранс, которая не поет больше, перегороженная запрудами. Я вошел в деревушку, которая продолжает тихо стареть под скорлупой своих крыш, на затененных улочках, укрытых от солнца.
У первого встреченного старика спросил о Мари Дормэр. Теперь она носила другую фамилию, но, как старожил, он должен был знать, о ком речь.
– Ступайте мимо колокольни позади церкви. Первая улица направо. Там вы увидите дом с увитой зеленью беседкой и балконом. В это время Мари обычно выходит подышать воздухом.
Домик утопал в цветах, окруженный фуксиями, бегониями и геранью. Все это, заботливо ухоженное, говорило о мирной жизни и душевном спокойствии хозяйки. Мари с зеленой лейкой в руках как раз кончала поливку. Потом со складным стулом и вязаньем под мышкой она спустилась по ступенькам, тяжело переставляя опухшие ноги, и устроилась наполовину на солнце, наполовину в тени.
Теперь ей должно было быть около восьмидесяти двух лет, потому что в то ясное утро после ухода Серафена я оставил ее восемнадцати– или девятнадцатилетней. Я знал, что она вышла замуж за обычного человека, у которого, подобно ей, было счастливое детство. Они вырастили нескольких детей, разлетевшихся со временем, как это нынче модно, по свету. В итоге Мари доживала свой век одна, сидя перед дверью дома на складном стуле, и смотрела на спешивших мимо прохожих сквозь большие очки, какие носят люди, перенесшие операцию по поводу катаракты.
Прошлое, в котором она жила, погребено сейчас под спудом времени. Помнит ли она еще о нем? Как знать? Глаза, из которых удалили хрусталик, не могут больше выражать ни сожаления, ни меланхолии. Они остаются вечно смеющимися.
Мари что-то ловко вязала. Она поднялась мне навстречу, и я увидел, как блеснул аквамарин в кольце, которое шесть десятилетий назад Серафен надел ей на палец. Рука хранила следы прожитых лет, но камень и кольцо остались такими же, как в тот день, когда Селеста и Клоринда выбрали подарок к восемнадцатилетию своей малышки.
– Ах, так это вы хотели увидеть! – сказала Мари.
Она отложила вязанье и пошла впереди меня, чуть прихрамывая, но все же бодро. За дверью, затянутой сеткой от мух, была чистенькая деревянная лестница, по которой мы поднялись на второй этаж. Дом содержался в идеальном порядке. В комнатах пахло ореховой настойкой и мастикой для полов.
Мари проводила меня в столовую, обставленную массивной мебелью. И я сразу же увидел часы. Механизм поместили в красивый, светлого дерева, футляр, украшенный цветочной росписью. На циферблате изящной вязью была выведена фамилия мастера: Combassive, Abries-en-Queyras.
– Идут минута в минуту! – с гордостью сказала Мари. – И вот! – она указала рукой на колыбель, стоявшую между часами и тяжелым столом в стиле Генриха II. Под ней был красный коврик, а внутри – два вазона с роскошными аспидистрами. У изголовья блестела звезда Верхних Альп, покровительница и заступница, которая царит над этими суровыми долинами.
– Я уверен, Мари, что сердце ваше также никогда не ошибается и ясно, как этот аквамарин, который так вам к лицу. Так скажите мне: вы знаете, кем на самом деле был Серафен?








