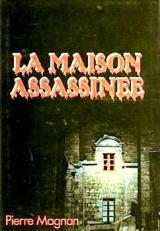
Текст книги "Дом убийств"
Автор книги: Пьер Маньян
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Дождавшись знакомых звуков, Мари тихонько приоткрыла дверь, на цыпочках спустилась по лестнице, прошла по коридору в пристройку, взяла велосипед и, стараясь не шуметь, выбралась из дома.
Девушка мчалась в Пейрюи, чтобы покончить с мучительной неизвестностью – этим бичом всех ревнивцев. Крутя педали, словно одержимая, она за четверть часа преодолела расстояние, отделявшее Пейрюи от Люра.
Вот и маленькая площадь с фонтаном, окруженная домами – богатыми и бедными вперемешку. Каждый день Мари останавливалась здесь, чтобы выгрузить хлеб для монастырской школы. Темные закоулки скрывали начала пустынных улиц, в сараях без дверей дремали тележки с задранными к небу оглоблями. Разнокалиберные окна светящимся пунктиром помечали фасады; сквозь зеленые жалюзи и черные от старости ставни с разболтанными петлями пробивался холодный блеск электричества или ровное мерцание керосиновых ламп, а то колеблющиеся огоньки каганцов отбрасывали тень в глубь пристроек, служивших убежищем для пары коз, и лачуг стариков.
Три платана несли стражу посреди площади, и фонарь у дома нотариуса загорался и гас в просветах между колеблющейся под ветром листвой. Желтая опаль пятнала землю, превращая в богато изукрашенный персидский ковер.
Мари дрожала от одиночества и униженности, высматривая свет в окне Серафена. Там, наверху, колыхались медлительные тени, проплывая между абажуром с подвесками и слюдой запыленных стекол. Но вот досада: со своего места Мари видела только потолок комнаты, тогда как ревнивое воображение буйно дорисовывало все остальное. Однако этого было недостаточно, она хотела иметь твердую уверенность. Мари огляделась, ища способ проникнуть непосредственно в занимавшую ее комнату. Вдруг за приоткрытой дверью соседней пристройки она заметила вырисовывавшиеся в полумраке небольшие козлы. Мари уже направилась в ту сторону, когда внезапное исчезновение света заставило ее повернуть голову. Занятая поисками лучшего наблюдательного пункта, девушка на несколько секунд выпустила из поля зрения подъезд Серафена, и за это время случилось то, что ее теперь насторожило.
Мари показалось, будто она различает под колышущимися ветвями, на границе между светом и тенью, смутный силуэт удаляющегося человека. Несомненно, он только что выскользнул из открытой на темную лестницу двери дома Серафена. Мари не видела непосредственно, как это произошло, но поскольку она держала под наблюдением всю площадь, маловероятно, чтобы он появился из другого места.
Сплетение ветвей, раскачивающихся перед единственным фонарем, рассекало силуэт незнакомца на четверти, обряжая его в костюм арлекина. Дойдя до фонтана, он внезапно канул во тьму, и почти тотчас по гравию мягко зашелестели шины.
Мари вздохнула с облегчением. Если человек, которого она только что видела, вышел от Серафена, это вполне объясняет подозрительное движение теней между окном и лампой.
Но тут, в темном закоулке, где мгновение назад исчез незнакомец, девушка разглядела очертания автомобиля. Черный и блестящий, на высоких колесах, он имел щегольской вид дамского авто. Мари инстинктивно подняла глаза к окну Серафена: тени все еще двигались. Тогда, не раздумывая больше, она бросилась к открытому сараю, схватила козлы и подтащила их к стволу одного из платанов, напрочь позабыв о том, что кто-нибудь может в эту самую минуту проходить через площадь и ее увидеть.
Ревность отважна и безрассудна: если она решилась – ничто ее не удержит. Впрочем, Мари сочла, что ей хватит пары минут, чтобы сориентироваться в обстановке. Но не успела она занять свой наблюдательный пункт, как из дома вылетела Шармен, бросилась к своей машине и, забравшись в нее, унеслась, точно вихрь.
После отъезда Шармен девушка еще в течение нескольких минут трясущимися руками цеплялась за козлы, затем спустилась на землю и привалилась к стволу платана, подождать, пока хоть немного уляжется охватившее ее возбуждение.
Но из подъезда выбежал Серафен, выкатил свой велосипед и, вскочив на него, помчался в том же направлении, что и Шармен, а до нее – прятавшийся в тени неизвестный.
Без долгих раздумий девушка тоже забралась в седло и последовала, на некотором расстоянии, за Серафеном, чтобы – как она себя убеждала – выяснить все до конца, на деле же потому, что попросту не гнала, куда деваться или «где повесить свой фонарь», как любила говаривать ее мать.
Шармен резко затормозила перед воротами гаража и вышла из машины. Когда умолк шум двигателя, Понтрадье показался ей охваченным какой-то странной тишиной. Она машинально подняла глаза. Планки жалюзи на окне у ее матери не были повернуты, и сквозь щели пробивался свет. Свет был также наверху, в круглом окошке мансарды, которую занимала гренадерша. Должно быть, обе женщины, каждая на свой лад, оплакивали покойника.
Шармен заколебалась. Подняться к себе в спальню? Она знала, что не уснет, и решила пройтись по аллее. Она тихо проскользнула мимо зарослей букса – его запах приносил ей утешение, воскрешая в памяти времена детства. Шармен сорвала несколько веточек и поднесла к лицу, вдыхая их аромат.
Дальше аллея поворачивала, и впереди проблескивала сонная гладь бассейна. Шармен направилась туда, как вдруг услышала за спиной вкрадчивый звук, словно дробный топот кавалькады, где копыта коней обернуты мягким войлоком. Она хотела обернуться, чтобы посмотреть, кто бродит здесь в такой неурочный час, но не успела. Огромная масса рухнула ей на плечи и с хрустом сокрушила шейные позвонки.
Приникнув к рулю, с искаженным, застывшим лицом, Серафен крутил педали, точно одержимый. Теперь, каковы бы ни были последствия, он сгорал от желания стиснуть Шармен в объятиях. Нетерпение гнало его вперед. Он хотел обнять ее всю, одним движением своей большой руки. В это мгновение ему казалось, нет ничего важнее, чем увидеть, как ее глаза поднимутся к его лицу, и он прочтет в них призыв, страсть и нежность.
Серафен спрыгнул с велосипеда, как обычно, у портала без решетки, перед большим тополем. Он наскоро спрятал машину в канаве и нырнул в соседнюю аллею. Кругом царило безмолвие. Луна была на исходе и едва освещала землю у подножия деревьев. Легкий бриз щекотал его ноздри влажным запахом букса. Сквозь поредевшую листву он видел очертания Понтрадье. На фасаде светились два окна. Было ли одно из них окном Шармен? Что она делает в этот час? Серафен представил, как войдет в ее комнату, обнимет сзади за плечи и скажет, почему не смог ответить на ее любовь…
Занятый своими мыслями, он не заметил, как очутился на пересечении двух обсаженных буксом аллей. Там, в игре светотени, созданной луной, усеявшей землю темными и светлыми пятнами, маячило что-то вроде холмика. Это что-то подрагивало и муарово переливалось, переходя из тьмы на свет, а над ним мерцали, вспыхивая, четыре тусклых огонька. В следующее мгновение Серафен услышал глухое ворчание и хруст костей, перемалываемых мощными челюстями. Звук ворвался в сознание Серафена с разрушительной силой циклона, но задуматься о его природе он не успел, потому что от бесформенной копошащейся массы вдруг отделился темный кусок и понесся на него, одним скачком покрывая несколько метров. Это была огромная собака.
Не раздумывая, Серафен рванулся навстречу. Прямо перед собой он увидел оскаленную пасть. Доберман подобрался для прыжка, но Серафен опередил его, и два тела – человека и зверя – с глухим шумом сшиблись в воздухе. Собака метила в горло, однако промахнулась, и ее зубы лязгнули у его груди. Оглушенное ударом, животное перекувыркнулось и рухнуло на землю. Воспользовавшись этим, Серафен навалился сверху, придавив собаку своим весом. Послышался треск ломающихся ребер. Но почти тотчас второй доберман, разинув клыкастую пасть, бросился на человека, норовя перегрызть ему глотку. Левой рукой Серафен прикрыл горло, а правую выбросил вперед. Его кулак угодил между клыков, не давая им сомкнуться на запястье, стесняя собаке дыхание. Тогда свободной рукой Серафен схватил добермана за морду и рванул кверху. Собака пыталась его повалить, упершись передними лапами ему в бедра, вспарывая когтями кожу, выдирая клочья мяса. На какое-то мгновение она ослабила хватку, чтобы набрать в легкие воздуха, Серафен почувствовал у себя на лице ее горячее дыхание и сквозь запах мяса и крови различил слабый аромат бергамота, перевернувший ему душу. Теперь обе его руки оказались в пасти собаки, ее клыки пронзали его плоть, втыкались в нее, словно гвозди. Серафен уперся ногами в землю, все мускулы его тела напряглись и вздулись. Вцепившись одной рукой в верхнюю, а другой – в нижнюю челюсть пса, собрав всю силу своей ненависти, он начал медленно разжимать ему пасть. Ему удалось зажать тело собаки между ногами, и он тянул, тянул – пока не послышался хруст, и собака, издав отчаянный хрип, прекратила борьбу, повиснув на руках Серафена. Ее клыки по-прежнему оставались вонзенными в его плоть, и ему пришлось выдирать их, точно рыболовные крючки. Отброшенное в сторону, животное завертелось на месте с разинутой пастью, которую не могло закрыть. Серафен схватил пса за задние лапы, несколько раз ударил о землю и остановился, только когда почувствовал, что ему тоже не хватает воздуха. Он рухнул на колени и почти на четвереньках прополз расстояние, отделявшее его от темного холмика.
– Шармен! – простонал Серафен.
Ему удалось кое-как стащить с себя изорванную в клочья рубашку и прикрыть ею то, что осталось от военной вдовы, но все равно, сквозь тяжелый запах растерзанного мяса и внутренностей, к сердцу Серафена, словно воспоминание, еще пробивался аромат великолепного тела, которым она была.
Он сложил свои искромсанные клыками, залитые кровью руки.
– Отче наш, иже еси на небесех… – сорвалось с его губ.
Он не произносил этих слов даже в годы войны – с тех самых пор, как сестры из сиротского приюта заставляли его твердить их на ночь – и теперь вместе с рыданиями выталкивал из горла, подобно сгусткам крови.
Внезапно его слуха коснулся знакомый звук – щелкнул затвор. Серафен поднял голову и сквозь туман, застилавший ему глаза, увидел прицелившуюся в него гренадершу. «Вот и конец!» – подумал он, но в то же мгновение что-то метнулось через кусты букса и сшибло гренадершу с ног, выбив у нее ружье, которое дважды выстрелило в воздух. Это была Мари. Она схватила ружье и ударила его о каменный бордюр, а обломки зашвырнула подальше в аллею. После этого девушка подбежала к Серафену и тоже опустилась на колени, по другую сторону от тела Шармен.
– Матерь Божья! – воскликнула она. – Твои руки…
Мари сорвала с шеи косынку и потянулась к Серафену.
– Нет! – сказал он.
А потом прибежали люди; они все подходили и подходили. И все избегали смотреть на тело Шармен и на Серафена. Его невозможно было заставить подняться, а тем более – разжать руки, чтобы обработать раны. Этого не смогли ни жандармы, ни арендатор со своим семейством, ни доктор, который бегал вокруг и кричал: «Но вы же заболеете бешенством! У вас будет столбняк! Вы умрете от гангрены!» На все уговоры Серафен отвечал: «Ну и пусть!» – и продолжал стискивать руки. Доктор извел на него три флакона арники, которую с грехом пополам вылил на раны.
И когда труп Шармен унесли, Серафен все еще стоял на коленях, со стиснутыми кулаками, перед тем местом, где она лежала…
Судья, который, согласился временно освободить Патриса из-под ареста, утром лично явился в Понтрадье. Он ознакомился с протоколами допросов, которые провели накануне жандармы. Прочел заключение врача. Наведался в прачечную, где лежали собранные на плетенку останки Шармен, и даже приподнял покрывавшую их простыню. Это зрелище заставило его попятиться и перекреститься.
Первым, кого он увидел, когда его проводили в гостиную, был Серафен Монж, с грудью, едва прикрытой клочьями окровавленной рубашки, которую ему вернули. Огромные кулаки дорожного рабочего, все в дырах от собачьих клыков и рваных ранах, тоже были покрыты запекшейся кровью, кое-где еще сочилась сукровица. Взглянув на него, судья почувствовал неясную тревогу. Потом жандармы посвятили его в историю Серафена, в трехнедельном возрасте чудом уцелевшего во время зверского истребления всей его семьи; они рассказали, как он, по камешку, разобрал свой родной дом, чтобы избавиться от преследовавшего его кошмара, а теперь снова оказался в центре двух, не менее загадочных, преступлений.
Судье показали место, где произошла трагедия, а также останки двух собак, вид которых заставил его задуматься. Одна была расплющена, словно по ней прошелся паровой каток, вторая – просто разодрана в клочья. А ведь каждая из этих тварей весила никак не меньше пятидесяти кило! Как мог человек, один и без оружия, сотворить с ними такое? Ему, правда, тоже здорово досталось, но все-таки… Угрюмый, избегающий любопытных взглядов… Герой, жертва… или, может быть, преступник? У судьи было сильное искушение заподозрить Серафена. Что, если он сам подстроил происшествие, во время которого якобы рисковал жизнью? Что там заявила эта девчонка с растрепавшимися косами, которая на допросе прямо-таки пожирала Монжа глазами? Жандармы должны были занести ее показания в протокол.
«Когда моя мать уснула, я выбралась из дома и отправилась в Пейрюи. – С какой целью? – Чтобы проследить за Серафеном. – Зачем? – Потому что до меня дошло, будто он встречается с веселой вдовой. – И вы видели его в обществе жертвы? – Да. – В этот момент она была еще жива? – О да! Даже очень! – В котором часу это было? – Моя мать легла около девяти часов, ну и учитывая время, которое понадобилось мне, чтобы добраться до Пейрюи… – А почему потом вы последовали за Монжем до самого Понтрадье? – Потому что я его люблю…»
Значит, Серафен находился на глазах у Мари примерно с девяти вечера, когда жертва, по словам девушки, была еще жива, до того момента, когда Шармен решила вернуться домой. «Почему вы расстались?» На этот вопрос подозреваемый не пожелал отвечать; впрочем, он не ответил и на другие – вместо него говорила белокурая девушка. Мадемуазель Дормэр утверждала, что после отъезда Шармен он тоже помчался в Понтрадье, а она, в свою очередь, последовала за ним. Таким образом, Серафен не мог добраться до места преступления раньше жертвы, чтобы открыть загородку, где содержались собаки, равно как и ревнивая Мари.
Семейство арендатора и экономка слышали, как подъехала машина Шармен, но не слышали ни криков, ни собачьего лая.
В конце концов судье пришлось сдаться. По всему выходило, что убийца Гаспара Дюпена и его дочери одно и то же лицо; Шармен устранили, потому что она мешала, а, может быть, была посвящена в тайну смерти отца, и могла заговорить. Однако тут дело запутывалось еще больше, поскольку – какая досада! – единственный человек, выигрывающий в результате обоих преступлений, находился в тюрьме. По крайней мере, в эту ночь, ибо сейчас должен быть на полпути к Понтрадье в своей красной спортивной машине. Черт возьми! Хорошенькое же его ожидало зрелище! Что до остальных присутствующих, если намылить край бассейна мог любой из них, то вряд ли кому-то удалось бы выпустить на волю собак, не разделив при этом участи Шармен. И тем не менее кто-то это сделал. Кто-то, ощущавший себя настолько в безопасности, что рискнул закрепить в открытом положении дверь паддока! Судья почувствовал, что от всего этого у него голова идет кругом. Он даже подумал, не обратиться ли к марсельским коллегам, чтобы они проверили алиби отца любовницы Дюпена, профессионального заводчика собак, единственного, кто знал этих тварей настолько хорошо, чтобы выпустить из загородки, не боясь быть растерзанным. Но какой у него мог быть мотив? В свое время им уже поинтересовались при расследовании убийства Гаспара Дюпена, и тогда его алиби оказалось стопроцентным. Да и с какой стати этому человеку убивать Шармен?
«Нужно найти мотив, – твердил себе судья, – а без этого…»
Между тем позвонили от бригадного комиссара: родители Мари подняли на ноги всю округу, и жители Люра прочесывают окрестные заросли в поисках девушки, а булочница в истерике, требует вернуть ей дочь, и деревне грозит остаться без хлеба. Уже начали обшаривать дно водоемов, даже перекрыли воду в канале…
«Нет, – сказал себе судья, – нужно положить этому конец!»
И тут, впервые за все время, заговорил Серафен.
– Я не буду подавать жалобу, – сказал он.
– То есть как? Ведь она собиралась вас убить и сама в этом созналась! А вы отказываетесь подавать жалобу…
– У меня нет такого права.
– Что за чушь? – изумился судья. – Правосудие вам это разрешает, и я не понимаю, почему вы колеблетесь.
В этот момент дверь распахнулась, и вбежали родные Мари. Мать закричала: «Мари!», схватила дочь в охапку и принялась покрывать слезами и поцелуями, причитая: «Бедная ты наша девочка!» И они потащили ее прочь. У отца на плече болталось ружье, он кричал: «Едем! Едем быстро!» На пару с матерью они втолкнули Мари в автомобиль, который наняли в Пейрюи. Та отбивалась от них и кричала. Она хотела остаться с Серафеном. Потребовалось немало упорства, чтобы затащить ее в машину… Мари кричала, что непременно должна рассказать что-то важное. Она вспомнила, что когда ехала ночью следом за Серафеном, то разминулась на дороге с велосипедом без фонаря и черными, бесшумно катящимися колесами. И после этого, в бреду, она все время повторяла: «Черные… бесшумные колеса!» Однако родители не позволили ей докончить, заметив, что у девушки начинается лихорадка. А через какое-то время Мари слегла, чтобы больше не подняться, и все последующие события происходили уже без нее.
На следующий день Серафен снова дробил булыжники, распухшими руками сжимая свою кувалду, в тщетной надежде забыться.
Народная молва быстро превратила убитых им собак в бешеных, так что теперь дети и проезжавшие мимо велосипедисты старались держаться подальше. В то же время все жадно ожидали проявления у дорожного рабочего первых признаков болезни, а местные силачи готовились, в случае необходимости, скрутить его и быстренько удушить между двумя матрацами.
Серафен не заболел бешенством, однако постепенно его охватывал все больший ужас. Кто-то угадал его намерения. Этот кто-то подкарауливал его, следил за каждым его шагом, убивал вместо него. «Но нет! – твердил себе Серафен. – Ни за что на свете я не убил бы Шармен! Пусть бы даже она на меня донесла! Я бы не смог причинить ей вред.»
Долгие часы проводил он без движения, рухнув на скамью и уставясь невидящим взглядом в стол, стоящий косо с того самого вечера, когда Шармен его оттолкнула. Он не мог отвести глаз от этого пустого стула, на который – он знал – никогда больше не осмелится сесть. Шармен все еще была в этой комнате, хранившей слабый запах бергамота.
Однажды вечером Серафен открыл железную коробку. Он вытряхнул оттуда бумаги, приподнял конфорку плиты и медленно поднес их к пламени, однако сжечь не решился – в последнюю минуту это показалось ему святотатством. Сложив, он убрал их назад в коробку.
– Больше никогда! – сказал он себе. Серафен дал слово впредь не желать никому смерти.
На какое-то время это решение как будто вернуло мир его душе. Он не жил больше, замкнувшись на своих внутренних ощущениях. Ему удалось уснуть и две ночи он проспал спокойно. Во сне его огромные кулаки, где новая плоть постепенно затягивала раны, разжались и ладони легли поверх стеганого одеяла. Серафен позволил себе расслабиться.
Кошмар обрушился на него внезапно, точно удар вилами в спину. На этот раз не было спасительного посвистывания мертвых листьев, которое обычно предупреждало его о надвигающейся опасности, помогая вырваться из оков сна, и жадная плоть была окутана не запахом холодной сажи, но едва уловимым ароматом бергамота. Жаждущее тело обвилось вокруг него, и в ухо просочились слова. Призрак продолжал сжимать его в тисках, пока Серафен не сдался. Он наслаждался, одновременно содрогаясь от ужаса. Очнувшись, он обнаружил, что сидит на постели, и волосы у него встали дыбом. Что она сказала? Что она хотела ему сказать? Каким голосом – голосом, которого он не слышал ни разу в жизни – отдавала она свои приказания? Она говорила долго, однако в его памяти запечатлелись лишь последние слова – те, что должны были в ней остаться. «Я послала тебя не для того, чтобы ты испытывал сострадание».
И с этой минуты совершилась странная вещь: по мере того как заживали его раны, не оставляя после себя рубцов, так и дух Серафена освобождался от сожалений о Шармен, Патрисе, Мари, он чувствовал себя нацеленным к новым жертвам, которых требовала мать и которые он должен был ей принести.
Со следующего вечера он принялся бродить по холмам вокруг мельницы Сен-Сепюлькр, где свил гнездо второй убийца.
Мельница Сен-Сепюлькр устроена под продолговатой скалой, с которой воды Лозона стекают в узкий проход, расширяющийся потом, словно чаша, открывая вид на округлые вершины гор, обступивших Люр; на первый взгляд, до них совсем близко, так что кажется, достаточно протянуть руку – и вы сможете их коснуться. У этой мельницы нет привычного колеса с лопастями – водам Лозона не хватило бы силы его вращать – его роль исполняет хитроумная система шлюзов, расположенных друг над другом резервуаров, люков, клапанов, пестов, деревянных зацеплений с шиповыми замками и пазами, всевозможных кронштейнов, зубчатых реек и противовесов. Когда все это приходит в движение, над мельницей стоит шум, напоминающий щелканье костей гигантского скелета; я сравнил бы ее с часами, вместо времени перемалывающими оливки.
За годы существования мельницы последовательно сменявшие друг друга поколения Сепюлькров вносили в ее устройство все новые усовершенствования, призванные компенсировать случающийся иногда недостаток воды, и в итоге система настолько усложнилась, что каждый год, прежде чем запустить пресс, приходилось осматривать и отлаживать весь механизм, начиная с бьефов – желобов, служащих для подачи воды.
В тот день Дидон Сепюлькр вышел из дома на рассвете, вооружившись лопатой и ведерком со смазкой. Стоял такой туман, что нельзя было разглядеть кончик собственной сигареты. Лозон, обезводевший за лето, местами обнажил покрытые мхом голыши, устилавшие его ложе, и только слабый шум напоминал человеку о его существовании.
Прежде чем подняться к водоподводящему желобу, Дидон Сепюлькр повертел головой и тщательно принюхался, на душе у него было неспокойно. На прошлой неделе, таким же туманным утром, ему померещилось, будто он различает на мостках силуэт человека, склонившегося над водопадом. Что он делал там, если туман был такой густой, что забивал ноздри и не позволял увидеть дальше вытянутой руки?
Трудно не быть подозрительным, когда сама обстановка благоприятствует замышляющим зло, думал Дидон Сепюлькр. Подобно тому, как Селеста Дормэр, отправляясь месить тесто, брал с собой ружье, он тоже избегал выходить безоружным. Конечно, не ахти какая защита – что проку от ружья при таком тумане? Да и как им воспользоваться, когда у тебя заняты руки, а сам ты скрючился над желобом так, что из-за края видны только голова и плечи? У нападающего куда больше возможностей: скажем, незаметно подкрасться сзади, бесшумно ступая в тумане по мягкому илу. А если ты положишь ружье поближе, всегда есть риск неосторожно задеть его лопатой – и глядишь, оно выстрелит само, угодив тебе прямо в живот. И все-таки Дидон предпочел захватить из дому оружие, это как-то успокаивало…
С такой экипировкой – лопата, ведерко смазки и ружье за спиной – он выглядел довольно смешно, если бы кто-нибудь мог его увидеть. Зато Тереза хохотала от души. Впрочем, знай она то, что знал он, ей было бы не до смеха. Пожалуй, тогда она сама зарядила бы ружье и проводила мужа до мельницы, не снимая пальца с курка. Но что он мог ей сказать? «Серафен Монж разрушил свой дом. Потом умер Гаспар Дюпен. И с тех пор меня преследует страх…» А как объяснить, чего и, главное, почему он боится?
Дидон вздохнул и принялся взбираться по ступеням к водоподводящему желобу. Через две недели день св. Екатерины, а мельница не готова. Жатва, вспашка, уборка винограда. И так – каждый год. Всякий раз он говорил себе: «Ну, уж в этом году меня врасплох не застанут. Я вычищу механизм заранее и приведу его в порядок, вот только…» Но у него всегда не хватало времени за другими делами – одним прессом ведь жив не будешь. Так и получалось, что мельница – последнее колесо в тележке. И вот через две недели – день св. Екатерины…
С такими мыслями Дидон Сепюлькр шагал к откосу водоподводящего желоба – лопата на плече, ружье за спиной, в руках ведерко смазки. Он ориентировался по рокоту Лозона, поскольку все вокруг окутывал туман до того густой, что ветви осин поникли под ним, словно отяжелевшие от дождя. Вообще погода – хуже не придумаешь. Даже листва на дубах начала жухнуть на три недели раньше срока, и скоро их позолота потускнеет перед зимним облысением.
Дидону было не по нутру это зыбкое месиво. Туман сыграл с ним злую шутку, и он едва не налетел на кронштейн, полагая, что до него еще, по меньшей мере, три метра.
Наконец он спустился в желоб, повесил ружье на кронштейн и, поплевав на руки, энергично взялся за работу. Дело спорилось. Набрав на лопату плотную илистую массу, он со звучным шлепком выбрасывал ее за край желоба на слежавшиеся запасы минувших лет, постепенно обнажая основание шлюза. Этот шлюзовый затвор относился, наверное, ко временам первых Сепюлькров, но прекрасно сохранился, несмотря на почтенный возраст, хотя утратил изначальный цвет, подобно фамильной мебели за стенами старого дома.
За дубовой дверью мельницы с ревом несся по голышам Лозон. Что за капризный поток! Дидон любовно оглаживал руками, полными смазки, направляющие затвора, чтобы обеспечить лучшее скольжение щита. Одновременно он прислушивался к рокоту Лозона, который словно перекатывал бутылки. В этот год вода будет высокой. Тут Дидон редко ошибался: когда, очищая шлюзовый затвор, он прикладывал ухо к щиту, шум, который он слышал, предупреждал его о том, как поведет себя своенравный поток с сегодняшнего дня и до праздника св. Екатерины.
Внезапно вдоль позвоночника у него пробежала холодная дрожь, словно чей-то взгляд уперся ему в спину. Дидон схватил ружье и резко обернулся, пытаясь проникнуть сквозь окутавший его кокон тумана. Он был один. Но один ли? Если кто-нибудь прячется здесь, на границе тумана, укрытый им, будто занавесом, Дидону его не разглядеть. Что делать? Выстрелить наугад, крикнув: «Берегись!», чтобы нагнать страху? А если вместо того, чего он опасался в течение последних двадцати пяти лет, и что теперь – после смерти Гаспара Дюпена он был в этом уверен – нависло над его головой, он столкнется с обыкновенным рыболовом-браконьером? Наконец, возможно, это кто-нибудь из соседей, кому не спится на рассвете, бродит под тополями. Нет. Стрелять – не выход.
Но Дидону было не по себе все последующие часы, до самого вечера, он старался быть начеку, то и дело косясь по сторонам, прерывая работу, чтобы обернуться и застать врасплох – что?
Переходя от желоба к желобу, от одного водосборного колодца к другому, он чувствовал, как давит ему на спину чей-то взгляд – и самое страшное заключалось в том, что он знал, чей именно. В какое-то мгновение Дидону даже показалось, будто он слышит приглушенный, быстро подавленный кашель, который он тоже узнал. Сжимая в руке ружье, он крикнул:
– Кто здесь?
В ответ послышался только шелест мокрых листьев на березах да похожий на позвякивание сталкивающихся бутылок рокот Лозона. Дидон вернулся на место, чувствуя, как с каждой секундой его охватывает все больший ужас. В его расстроенном сознании крепло ощущение чужого присутствия, которое преследовало его весь день. Напрасно он старался сжать его в комок, оттеснить в самый дальний закоулок памяти – застывшее, подобно статуе на городской площади, оно таило в себе еще большую угрозу.
Однако со временем, силой логических рассуждений, Дидон Сепюлькр сумел побороть навалившуюся было на него панику и теперь почти успокоился. Очистка подводящих воду желобов и шлюзовых затворов была закончена. Все приведено в надлежащий порядок: тростники во рвах выкошены, плотина укреплена, канавки прочищены, механизм смазан снаружи. Однако, желая убедиться, не забыл ли он все-таки чего-нибудь, Дидон решил еще повернуть механизм обратной стороной.
Ворча, он в течение нескольких секунд напрасно искал служивший для этой цели длинный шест с железной колодкой. В конце концов шест нашелся, но не на обычном месте, а за большой плитой, параллельной трубе, должно быть, забытый кем-то из поденщиков с прошлого сезона.
Вооружившись этим инструментом, Дидон перешагнул через край резервуара и подложил колодку шеста под один из жерновов. Навалившись всем телом на рычаг, он смог поколебать два круглых камня весом каждый в тонну, одновременно внимательно прислушиваясь к ходу шестерен – вплоть до самых малюсеньких. Механизм работал четко и слаженно – ни скрежета, ни визга – можно было спокойно начинать сезон. Дидон спрыгнул на землю и отнес шест на привычное место, где в следующий раз его будет легко найти.
Теперь оставалось еще влить литр масла в каменный вкладыш подшипника, где вращалась ось поворота жернова. Во время работы вся нагрузка приходилась на эту нижнюю опору, гасившую толчки. В качестве смазки здесь можно было использовать только оливковое масло – в противном случае, при каждом повороте, раздавался оглушительный визг, напоминающий вопли голодного младенца.
С полной бутылкой Дидон вернулся к чану для растирания и мгновение колебался, прежде чем снова перешагнуть через его край. Бросив взгляд на ушедший до половины в землю рычаг, который приводил в действие два гироскопа сцепления шестерен, он подумал о том, что теперь, когда все приведено в порядок, надо бы обездвижить механизм – на тот случай, если вдруг не выдержит мартельера. Дидон поступал так уже на протяжении тридцати лет и не собирался изменять своим привычкам. Впрочем, мартельера никогда не подводила, сдерживая поток, надежная и крепкая, будто прабабушкин шкаф. Правда, и Лозон редко вздувался так сильно, как в эту ночь. Но если задумываться обо всем…
Дидон спустился к жерновам и присел на корточки перед осью. Он достал из кармана полую тростинку, которую приставил к желобку в камне, наклонил бутылку и принялся медленно капать масло в паз. Это была утомительная и небезопасная работа в тени нависших жерновов, которые заставляли Дидона изворачиваться так и эдак, и неустойчивость его положения еще усугублялась наклоном резервуара. Весь сосредоточившись на своем занятии, от напряжения Дидон даже высунул кончик языка.








