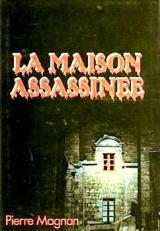
Текст книги "Дом убийств"
Автор книги: Пьер Маньян
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Молодые люди посмотрели друг на друга. Несмотря на изувеченные черты одного и ангельский лик другого, было видно, что они – ровесники, и обоим довелось нести один и тот же крест.
– По внешнему виду, – заметил Патрис, – ты удачно выпутался.
– Только по внешнему виду… – тихо сказал Серафен.
Они уселись на обломок колонны под кипарисом. Патрис приглашающим жестом раскрыл свой золотой портсигар.
– Спасибо. – Серафен покачал головой. – Я курю самокрутки. – Он вытащил свой кисет и рисовую бумагу.
– А ты думаешь о войне? – спросил неожиданно Патрис.
– Никогда.
– Ах да, у тебя ведь есть другой предмет для размышлений…
– В таком случае, вы – первый человек, который не спрашивает, почему я это делаю. – Серафен повернулся и обвел рукой двор, заваленный строительным мусором. Патрис пожал плечами.
– У каждого что-нибудь да исковеркано, – сказал он. – У тебя, вот, душа… Но почему ты говоришь мне «вы»? Ведь мы – земляки.
– Не могу, – признался Серафен. – Вы – сын господина Дюпена.
– Это верно, я сын господина Дюпена. В один прекрасный день я, возможно, буду сыном господина советника Дюпена. А ведь когда-то он был всего-навсего кузнецом из Мэ! Но в четырнадцатом году ему удалось получить подряд на поставку для армии подков, солдатских котелков и чего-то там еще. А потом еще гранат, артиллерийских снарядов. За первым подрядом последовал второй, затем третий… Он выпустил столько снарядов, что они дождем сыпались нам на головы. На этом деле он хапнул миллионов больше, чем кусочков, из которых скроили мне физиономию. Но когда он меня увидел, то готов был отдать их все, до единого. Честное слово! Вот только не знал, кому. – И он разразился смехом, черной вспышкой озарившим его исковерканное лицо. – Со временем он, конечно, пообвыкся. Смотри! В качестве компенсации я получил от него вот это! – Патрис указал на красный автомобиль у подножия лавровой рощи, вызывающе сверкавший своими хромированными деталями.
– Мне пора, – проговорил Серафен. – В моем распоряжении только воскресенье. Еще раз спасибо за помощь.
– Ах да, тебе ведь нужно наверх… – Патрис вытащил из портсигара новую сигарету. – Загляни как-нибудь ко мне, у меня нет друзей. Это там… – Он сделал неопределенный жест в сторону противоположного берега Дюранс. – По пути к Ле Пурсэль. Отец купил там особняк, называется он Понтрадье. Мой папочка величает его замком и вообще разыгрывает из себя дворянина. Просто умора, обхохочешься!
Резким движением он протянул руку, и Серафен в ответ подал свою. Эта огромная лапища, созданная, казалось, давить и крушить, при пожатии осталась вялой, словно крыло мертвого голубя.
«Он никогда не увидит во мне друга, – с грустью сказал себе Патрис. – Для него я навсегда останусь сыном господина Дюпена».
Он уселся в свой роскошный автомобиль. Стоя у подножия кипариса, Серафен какое-то время смотрел ему вслед, потом спокойным и размеренным шагом поднялся на стремянку.
Вскоре его навестил другой посетитель. Это случилось вечером. Серафен только что выковырял из стены округлый камень, по форме напоминавший глаз и весивший, должно быть, не меньше сорока килограммов, и собирался сбросить его вниз.
Выпрямляясь, он вдруг заметил у подножия кипариса монаха, который наблюдал за ним, уперев руки в бока. Серафен выпустил валун, и тот под пристальным взглядом монаха разлетелся на кучу обломков.
– Серафен! – крикнул пришелец. – Эй, Серафен! Спустись на минутку со своего чертова насеста – мне нужно тебе кое-что сказать!
– А это спешно? Потому что… – Серафен указал рукой на быстро темнеющее небо.
– Да! – крикнул монах. – Дело не терпит отлагательства!
Серафен минуту колебался. Потом окинул взглядом грубую изношенную рясу, посмотрел на худое, изможденное лицо с запавшими глазами и обтянутыми сухой кожей висками, и спустился вниз.
Но когда Серафен очутился рядом с монахом, тот показался ему куда менее заслуживающим жалости – вблизи он выглядел вполне упитанным и, пожалуй, даже жизнерадостным.
– Я – брат Каликст, – сказал монах. – Я спустился оттуда. – Движением подбородка он указал в сторону нависшего над усадьбой плато, где из темноты выступали белым пятном контуры приорства, и добавил: – Я обосновался там задолго до твоего рождения.
– Вы, кажется, хотели говорить со мной? – перебил Серафен.
– Не я. Брат Туан, наш приор. Он собирается в путь и должен сказать тебе что-то важное.
– Мне? – удивился Серафен.
С минуту брат Каликст молча его рассматривал.
– Ты ведь Серафен Монж? – спросил он наконец.
– Да.
– Ну, тогда все точно. А теперь – в дорогу! До приорства добрых два часа ходьбы. Мы и так доберемся только ночью.
Он повернулся и зашагал прочь, размеренно, точно идущий полем косарь. Серафен наклонил голову и какое-то время следил за его спокойными движениями. У него было сильное желание сказать «Нет!» и вернуться к прерванной работе.
– Кстати, – спросил он, – как далеко собрался ваш приор?
– К Господу нашему Иисусу, – ответил брат Каликст. Он на мгновение умолк, чтобы перешагнуть через оросительную канавку. – По крайней мере, мы все на это надеемся. А что ты хочешь – 95 лет! Он сказал мне: «Каликст, разыщи Серафена Монжа, чтобы перед смертью я мог облегчить свою душу».
Они миновали растущие слева от дороги бесхозные лавры Помграна. Жесткие листья, напоминающие формой наконечники копий, издавали под вечерним ветром сухой металлический шелест. Дальше путь лежал через ивняки Пон-Бернара и осиновые рощи, где нашли приют последние, задержавшиеся с отлетом, жаворонки.
Серафен старался не отставать от шагавшего впереди монаха. Вскоре они подошли к церкви. Брат Каликст, очутившись перед низкой потайной дверью, извлек из складок рясы ажурный железный ключ. В следующее мгновение Серафен услышал, как ключ поворачивается в замке с мелодичным звуком органа.
Над огороженным участком, куда они проникли, висел запах земли и свежего щебня.
– Осторожно, сынок! Не свались в яму! Хоть мы и не желали предвосхищать намерения Отца Нашего, но выкопали ее немножко загодя…
Достигнув конца чахлой аллеи карликовых буксов, брат Каликст вдруг круто повернулся и, ухватив Серафена за плечо, толкнул его в темноту стрельчатого свода.
– Если наш приор покажется тебе немного повредившимся в уме, – сказал он звучным шепотом, – помни, что хоть он и слуга Господень, но все же человек, бедный человек, готовящийся предстать перед Творцом… – Монах назидательно поднял палец. – И он раскаивается.
Брат Каликст твердой рукой увлек его в коридор, куда выходило несколько дверей; вдалеке мерцал столб лунного света, похожий на блок разрушенного свода.
– Теперь направо! – скомандовал монах. – И пригнись!
Серафен едва успел последовать его совету, задев макушкой о балку. Он очутился в комнате без окон, где под низким потолком осела ночь, с которой тщетно боролся тусклый огонек свечи. Уже с порога слышалось хриплое, затрудненное дыхание, похожее на шум кузнечных мехов. Его издавал невероятно дряхлый человек, распростертый на голой доске, зажатой между двумя каменными выступами в метре от пола.
– Это ты, Каликст? – прохрипел старец. – Ты привел Монжа?
– Он здесь, перед вами.
– Подойди, сын мой, потому что сил моих едва хватает, чтобы дышать.
Серафен подошел так близко, что почти коснулся доски, заменявшей собой ложе. Его глаза встретились с глазами старца, в которых сквозь предсмертную пелену проступал панический ужас. В следующее мгновение умирающий сделал отчаянную попытку подняться, Серафену даже показалось, что он хочет вскочить и бежать. Крик застрял у него в горле, растворившись в хрипе кузнечных мехов. Каликст бросился к старику, чтобы снова его уложить.
– Крылья! Я вижу крылья! – простонал приор.
– Ну, ну, брат Туан, перед вами всего лишь бедный грешник…
– Я – дорожный рабочий, – сказал Серафен.
Умирающий овладел собой, жизнь и сознание на какое-то время вернулись в его тело. Казалось, будто с его впалой груди снята огромная тяжесть, даже хрип кузнечных мехов постепенно сгладился, сделался тише. Брат Туан успокоился.
– В самом деле, ведь ты – дорожный рабочий… Рабочий из Люра… Но тебя точно зовут Серафен Монж? Это ты разрушил свой дом?
– Да, – ответил Серафен.
– Тогда слушай… я должен тебе кое-что рассказать…
Его глаза обшаривали лицо Серафена, словно искали решения не дающей ему покоя загадки. Они еще жили, тогда как на всем остальном уже легла печать надвигающейся смерти – запавший, беззубый рот, заострившийся нос… Только глаза да ясный спокойный лоб сумели противостоять разрушительному действию времени.
– Я расскажу о той ночи, когда ты потерял всю свою семью. Подойди ближе… Стань на колени возле моей доски – так тебе будет легче расслышать. Ах, я не уверен, что смогу добраться до конца…
Он положил на запястье Серафену иссохшую руку. Под сморщенной, пергаментной кожей уже сквозили очертания скелета, изящество, присущее смерти. Но последнее, отчаянное усилие еще взывало к жизни, к жалости; Серафен не мог противиться этому молящему призыву и тихонько сжал ладонь умирающего в своих.
Он заговорил очень быстро, так что слова следовали одно за другим, без интервалов, без пунктуации, сопровождаемые хрипом кузнечных мехов.
– Я шел из Откомба, через горы… Там, наверху, жирные монахи… А я хотел быть тощим. Мне претили праздность и сытое довольство, уж лучше жить на сквозняках, на холоде, среди руин… – Свободной рукой он дважды слабо постучал по неструганой доске. – Я хотел попасть сюда, но плохо знал дорогу. Я шел по звездам – когда они были, потому что тринадцать дней на меня лил дождь… И вот, однажды, я услышал шум – это катила свои воды Дюранс, и понял, что близок к цели. В тот вечер я промок до нитки, весь пропитался водой, точно ломтик хлеба в бульоне… Я миновал поворот Комб, возле Жиропэ… Дождь несколько минут как перестал… Надвигалась ночь. В том месте есть источник… Ты должен знать – источник, который струится бесшумно среди травы… Если ты не знаешь, можно не заметить и вступить в него, а вода в нем холодная…
– Знаю, – сказал Серафен.
– Я напился из источника и поднялся на несколько шагов по склону к зарослям ивняка… Хотел там немного передохнуть, перед заключительным отрезком пути… Да только и тогда, двадцать три года назад, мне было уже за семьдесят… Словом, я задремал. Не знаю, что меня разбудило – лунный свет или голоса? Во всяком случае, кто-то рядом сказал: «Что если нас схватят?», а другой ответил ему: «Не схватят! Но пусть даже так – мы, трое, покроем друг друга». Там был еще третий… Он все твердил о каких-то бумагах… Мол, надо их найти – не то, прощай, родимая сторонка… Они все время спорили… «А иначе никак нельзя?» – «Нет, мы об этом уже говорили!» Вот что я услышал… Но было уже слишком поздно, чтобы выдать свое присутствие, и я боялся шевельнуться… К счастью, меня скрывали заросли ивняка и тень от группы засохших ясеней, а они и источник были в ярком лунном свете…
– Они? – спросил Серафен.
– Да. Трое мужчин. И тогда… тогда… один из них сказал: «Я привел вас сюда, потому что быстро наточить ножи можно только на камне возле источника, и здесь нас никто не услышит. Поглядите, как сточен камень – еще мой дед затачивал тут свой резак!» – «Ты думаешь, они нам понадобятся?» – «Кто знает? Но уж если придется пустить в ход ножи, лучше, чтоб они были хорошо отточены!» Потом все трое склонились над валунами вокруг источника, и я не видел уже ничего, кроме движения их рук и еще – время от времени – блеск лезвий и искры… И я слышал шум… шум, словно стрекотанье сверчка… Это металл терся о камень…
Старик умолк и сделал беспокойное движение, будто все еще прислушивался к этому звуку.
– Когда они закончили точить резаки, – заговорил он снова, – все трое выпрямились… На них были шляпы, скрывавшие пол-лица, и еще что-то, вроде завернутой наверх черной вуали… Это были люди…
– Отсюда или нездешние? – спросил Серафен.
Брат Туан молчал.
– Местные… – проговорил он наконец. – Помню, один из них сказал: «Не стоит пробовать до полуночи – раньше всегда есть риск, что заявится какой-нибудь возчик, а то и двое… Сделаем лучше так: пройдем по дну канала. Башмаки снимем и повесим на шею.» И они ушли… Не по дороге. Они чуть не наступили на меня в моем укрытии… Я слышал, как они продираются сквозь кусты, как хрустит галька у них под ногами… Я будто окаменел…
Серафен почувствовал, как рука старика слабо шевельнулась под его ладонью.
– Я знаю, ты хочешь спросить, почему я не встал, не отправился в Пейрюи, не поднял тревогу… Но, подумай, ведь я только что проделал путь почти в четыреста километров, по горам, с котомкой за плечами… Я был весь в грязи, одет в лохмотья… Кто угодно – а особенно жандармы – счел бы меня просто помешанным бродягой. И потом – верно ли я понял? Точно ли эти трое замышляли убийство?
– Но… – сказал Серафен. – А на следующий день?
Брат Туан затряс головой, так что у него хрустнули шейные позвонки.
– Не было следующего дня… В горах я подхватил лихорадку… У меня не достало сил даже постучать в ворота обители… Когда монахи вышли, чтобы набрать воды, они нашли меня без сознания, привалившимся к стене…
– Чистая правда, – подтвердил брат Каликст, который до тех пор не раскрывал рта.
– Сорок дней оставался я…
– … между жизнью и смертью, – сказал брат Каликст, – и был скорее ближе не к жизни, а к смерти. Но его приходилось силой удерживать на ложе. Он все время порывался подняться, бормотал о ножах, которые кто-то острил… об убийцах… Почем мне было знать? Он больше сотни раз повторил слово «жандармы»…
– Но вы? – спросил Серафен, поворачиваясь к монаху. – Когда вы наконец узнали…
– Мы ничего не узнали. Во всяком случае сразу. Наша дверь закрыта для мира, так же, как наши души.
– Нет такой двери, – ясным голосом произнес приор, – через которую рано или поздно не пробился бы взывающий о преступлении. Те, кто ходил рубить лес, возделывал землю и выращивал овощи, кто встречал охотников – они-то знали! Но они скрывали от меня все.
– Вы были так слабы, – вмешался брат Каликст. – Прошло почти два года, прежде чем вы смогли оправиться. И тогда брат Лаврентий, который столь преданно бодрствовал подле вас в часы болезни, наконец решился вам рассказать. Совесть не позволила ему умолчать.
– Когда я узнал о страшной участи твоей семьи, – прошептал умирающий, – и о казни тех несчастных… я вспомнил ту ночь у источника и понял, что наказаны невиновные… Я один знал правду, а раз так… Горе мне, грешному! Совесть моя запятнана самым тяжким преступлением – по моей вине свершилась несправедливость.
– Что ж, – со вздохом заметил брат Каликст, – не вы один повинны в этом грехе.
– Но Господь, – продолжил свою исповедь приор, – отпустил мне достаточно времени. В конце концов я понял, что не смею дольше молчать. Я должен сказать тебе то, что знаю… У одного из этих троих было… было…
– Что? – в нетерпении воскликнул Серафен.
– Черное крыло… – с последним вздохом пробормотал умирающий.
Серафен почувствовал, как замерла рука, которую он сжимал в своих ладонях, точно птица со свернутой шейкой, чья головка безжизненно зарывается в перья. Он тихо разжал пальцы.
– Господь наш, – пробормотал между тем брат Каликст, – вовремя наложил печать на эти уста.
– Так вы считаете, что он бредил? – спросил Серафен.
Монах в эту минуту закрывал глаза усопшему и не сразу повернулся к Серафену.
– Даже если б сам Господь вздумал посетить нас, – сказал он, помедлив, – мы не сумели б его распознать. Так что… одним словом, забудь все, что он тебе сказал, и не придавай этому значения. Пусть карающие ангелы сводят счеты со Злом. Они об этом позаботятся, можешь не сомневаться. – И он поспешил выпроводить Серафена за ворота монастыря.
Ночь едва спустилась, и падавший искоса лунный свет отдавал золотистые поля на съедение тени, отбрасываемой рощами дубов. Серафен стоял с безвольно повисшими руками, в ушах у него еще звучал шум захлопнувшейся двери.
– Может статься, они еще живы, – сказал он себе громко. – Значит, тех других, из Герцеговины, послали на гильотину ни за что. Выходит, прав был старый Бюрль. Что-то тут нечисто… Но кто они? Как узнать? Никогда… никогда не буду я достаточно сильным, достаточно хитрым…
В конце аллеи он опустился на землю у подножия придорожного распятия, которое возвышалось над горизонтом, и обхватил голову руками. Серафену казалось, будто по ту сторону, из края смерти, он продолжает слышать шепчущий ему голос приора: «Поступай, как знаешь. Я же сказал тебе все, что мог. Но ты должен искать, стараться… Нельзя успокаиваться. Иначе на что тебе дана твоя сила? Ты несешь ответственность за свершенную несправедливость!»
– Серафен!
Серафен выпрямился и вскочил на ноги. Звук его имени эхом раскатывался в лесах Люра, и голос, который его произнес, повторил тем же властным, повелительным тоном:
– Серафен!
Этот голос, казалось, был пронизан какой-то могучей, вибрирующей энергией и в то же время полон отчаяния. Серафен понял, что он доносится из расположенной ниже на склоне рощи, однако не мог припомнить, слышал ли его когда-нибудь прежде.
Не отвечая, Серафен бесшумно подобрался к краю утеса. Уцепившись за низко нависшую ветку, он наклонился над пустотой, но не увидел ничего, кроме кудрявой зелени деревьев.
– Серафен! – кричал между тем голос. – Забудь все, что он тебе сказал! Ты слышишь меня, Серафен? Ты должен забыть! Если поверишь ему, ты погиб! Погиб! Погиб! Никогда тебе не знать покоя!
В дождь и метель Серафен продолжал выбивать из кладки камень за камнем, сбрасывать обломки вниз, во двор и отвозить тачкой к берегу Дюранс, где они образовали уже небольшую запруду между островками. И Патрис, человек с изуродованным шрамами лицом, невзирая на капризы погоды, приходил, чтобы поддержать его своим молчаливым присутствием. Иногда, понаблюдав за Серафеном, он говорил:
– Надо будет нам как-нибудь пообедать вместе. Когда я ем, это целое зрелище – есть на что полюбоваться. Вот только лучше выбрать день, когда моего отца не будет дома.
Он смотрел, как Серафен толкает перед собой тачку, доверху наполненную строительным мусором, под тяжестью которого скрежетало железное колесо.
– Ты не спрашиваешь меня, почему?
Серафен выпустил из рук оглобли.
– По правде сказать… – начал он.
– А знаешь, – продолжал между тем Патрис, – он тебя боится. Это точно.
В ответ Серафен только пожал плечами.
Он не оставил своего занятия даже на Рождество, несмотря на гневную проповедь кюре, который явился его увещевать.
В тот день стояла ясная погода, и Мари Дормэр и Роз Сепюлькр воспользовались ослабившейся бдительностью родителей, чтобы улизнуть из дома и привезти Серафену праздничные гостинцы. Девушки прикатили в Ля Бюрльер одновременно, наряженные в новые платья и пальто с лисьими воротниками.
Едва успев соскочить на землю – а прибыли они колесо в колесо, потому что в пути одна нагнала другую, – обе красотки затеяли перебранку, однако, памятуя о своих прическах, в этот раз обошлись без рукоприкладства.
Патрис, сидя на скамье, курил свою неизменную сигарету. Услышав шаги и голоса, он обернулся. При виде его лица Мари Дормэр замерла на месте и зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Зато Роз, как ни в чем не бывало, прошла мимо; она не отвела взгляда – напротив, мило улыбнулась и поздоровалась. Патрис поднялся, ответил на приветствие и впал в прежнюю неподвижность.
Этих секунд оказалось достаточно, чтобы соперница обогнала чересчур впечатлительную Мари и первой поставила ногу на стремянку. Мари бросилась следом за Роз, и они крикнули хором:
– Серафен! Эй, Серафен!
Он высился на гребне стены, словно титан: могучие руки потрясали кувалдой, ноги сталкивали камни и мусор в пустоту. Пыль, с незапамятных времен мирно дремавшая на потолках и стенах Ля Бюрльер, теперь густым облаком висела над разрушенной усадьбой.
Но девушки не обращали на это внимания. Стараясь оттеснить друг дружку, они протягивали Серафену свои подношения: мешочек с оливками и пакетик пирожных с кремом, красиво перевязанный зеленой ленточкой.
Однако у Серафена это вызвало приступ гнева.
– Эй, вы! Пошли отсюда! Вас сейчас раздавит! Говорил же, не нужны вы мне! Убирайтесь прочь!
Он выкрикивал и немало других обидных слов, ни на минуту не переставая орудовать кувалдой. Внезапно часть стены, над которой он трудился, рухнула прямо перед оцепеневшими девушками. Окутанные тучей известки, наполнившей воздух омерзительным запахом крысомора, они спрыгнули на землю и попятились назад, прикрывая глаза носовыми платками. Они не глянули на Патриса, продолжавшего неподвижно стоять на месте, и, лишь садясь на свои велосипеды, снова обрели энергию, чтобы обменяться очередными колкостями.
К вечеру этого дня Серафену удалось покончить с верхним этажом Ля Бюрльер. Он свернул самокрутку и долго любовался делом своих рук. Высокий дуб, росший прежде в тени этих стен, казалось, расправил ветви и радостно вдыхал свежий бриз своей трепещущей вечно зеленой листвой. И Серафен, следуя его примеру, тоже вздохнул полной грудью, ровно и глубоко. У него было такое чувство, будто терзавший его до сих пор кошмар начинает понемногу отступать и бледнеть. Серафен спустился с лестницы и подобрал оставленные девушками пакетики. Он глядел на них без улыбки, качая головой, потом обычным размеренным шагом направился к прислоненному у насыпи велосипеду.
И тут он увидел Патриса, неподвижного, словно межевой столб, и – неслыханное дело! – не курившего. Ночь, сгладив швы между лоскутьями, из которых было скроено его лицо, придала ему почти человеческие черты.
– Вы все еще здесь? – спросил удивленный Серафен.
– Ш-ш! – сказал Патрис. – Должно быть, я сплю. Не буди меня. Надо же – она посмотрела мне прямо в лицо и не опустила глаз! Она мне… Боюсь даже выговорить… Она мне… улыбнулась!
– Кто?
– Персиянка. Ну… та, которая похожа на персиянку…
– На персиянку? – переспросил ошарашенный Серафен. – Что вы хотите сказать?
– Ах! – воскликнул Патрис. – Это не важно! Главное… – последние слова он произнес почти шепотом и кивком головы указал нематериальный след, который он один мог различить вдали, на дороге.
Серафен услышал странный звук.
– Вы… плачете? – спросил он.
Патрис фыркнул, что должно было изобразить иронический смех.
– Держите! – сказал Серафен, протягивая ему пакетик с оливками. – Это она принесла. Возьмите!
– Я сохраню их под стеклянным колпаком.
– И вот еще пирожные с кремом – от второй.
– Но… А ты?
– Я? А что, по-вашему, мне с ними делать? Все это приготовлено, чтобы быть съеденным, когда ты счастлив… – докончил он тихо, забираясь на свой велосипед, в то время как Патрис еще долго оставался на месте, во власти промелькнувшего видения.
В один прекрасный день в Ля Бюрльер пришла весна. Разрушенная усадьба очертаниями все еще напоминала большой раскрытый гроб, но теперь она словно погружалась в землю, почти до фундамента, и кипарисы, устремленные в небо, будто гигантские свечи, казались вдвое выше.
В пасхальное утро Серафен открыл солнцу доступ в кухню Ля Бюрльер. Свободно вливаясь сквозь сорванный потолок, его лучи разогнали гнездившуюся прежде в закоулках темноту, ощупали чугунную решетку очага, нишу, где когда-то стоял – стенной шкаф, плиты цвета оливкового масла…
К одиннадцати часам прошел небольшой дождь, прозрачный и очищающий, тотчас высушенный ветром и выглянувшим снова солнцем.
И тут Серафен, который отдыхал, опершись на свою кирку, заметил, что пятна крови на стенах, до сих пор напоминавшие высохшее смазочное масло, внезапно обрели цвет – их оживляла игра чередующихся света и тени.
Серафен содрогнулся: ведь он разрушил усадьбу с единственной целью – вырвать из стен и пола эти неизгладимые следы, которые из ночи в ночь, каждый точно на своем месте, неизменно пятнали его память. И вот каприз света опять наделил их жизнью, подобно тому, как лишайники после многолетней засухи снова оживают под дождем. Казалось, они взывают к Серафену, подают ему знак.
Преследуемый страхом найти их еще более осязаемыми, Серафен решил уничтожить пятна прежде, чем наступят сумерки, и – в первую очередь – кровавые отпечатки, которые Мунже Юилляу оставил вокруг солонки под опорой дымовой трубы, сбоку от каменной плиты перед топкой, на высоте почти полутора метров над очагом.
После первого же удара кувалды ноздри его заполнил запах холодной сажи. Она сыпалась с навеса над очагом, и, вытирая лоб тыльной стороной ладони, Серафен размазывал ее по лицу. В конце концов неповрежденной осталась только площадь примерно в два квадратных метра, примыкавшая непосредственно к обрубленному дымоходу, сквозь который была видна жесткая листва дубов. Серафен тщательно собирал и вывозил, тачка за тачкой, все камни, даже мельчайшие осколки штукатурки со въевшейся сажей. Еще десяток сантиметров – и он доберется, наконец, до того места, где пальцы его отца оставили кровавые следы, он уничтожит их, превратит в прах и прах этот сбросит в Дюранс.
Серафен поплевал на руки, как делал бесчисленное множество раз за день, чтобы придать себе мужества. Потом взобрался на фундамент и нанес удар прямо перед собой. К его удивлению, кувалда прошибла стену и по самую рукоятку ушла в пустоту, так что Серафен едва не потерял равновесие, по инерции последовав за своим орудием. Опомнившись, он бросил кувалду и спрыгнул вовнутрь кухни. Здесь он вставил острие кирки в щель между двумя камнями, расшатал их и вынул сначала один, затем второй. Тогда его глазам открылся слой штукатурки, почти новой, во всяком случае, отличавшейся от той, что покрывала остальные стены усадьбы. Схватив молоток, Серафен принялся сбивать эту штукатурку. После третьего удара он снова обнаружил пустоту, а куски осыпающейся штукатурки глухо застучали по какому-то металлическому предмету. Руками Серафен осторожно очистил край поставленного на ребро кирпича, потом второго. Они находились как раз против того места, где его отец оставил когда-то кровавые следы, и, чтобы вынуть их, Серафену пришлось упереться почти в ту же точку. Когда он отодвинулся, чтобы сбросить их на кучу строительного мусора, лучи заходящего солнца осветили тщательно обустроенный тайник, размерами примерно сорок на сорок сантиметров. В глубине, под осколками штукатурки, блеснули углы металлической коробки.
Серафен схватил ее. Она была тяжелее только что извлеченных им кирпичей, продолговатая коробка, способная вместить около килограмма кускового сахара. Судя по цвету, напоминавшему цвет хлебной корки, она долгие годы подвергалась воздействию дыма и копоти, однако на крышке еще можно было различить картинку, изображавшую пейзаж Бретани: холм с придорожным распятием и сидящую у его подножия женщину, созерцающую скалистую бухточку.
Серафен откинул крышку. Коробка была доверху заполнена 20-ти франковыми золотыми монетами. Серафен равнодушно смотрел на массу сверкающих луидоров, и на лице у него не дрогнул ни единый мускул, потом он закрыл коробку, даже не прикоснувшись к монетам, и отставил ее в сторону.
До наступления темноты оставалось еще около двух часов, и он не желал их терять. Нужно было разрушить остатки дымохода. С удвоенной силой он принялся орудовать кувалдой и киркой, но к тому времени, когда был нанесен последний удар, стояла уже глухая, безлунная ночь.
Измученный Серафен вытер лицо тыльной стороной ладони. Он походил на трубочиста, с головы до ног перемазанного в саже, с волосами, слипшимися от каких-то жирных частиц.
Усталым движением Серафен подхватил металлическую коробку, сунул ее в вещевой мешок и, оседлав велосипед, отправился в Пейрюи.
Когда жужжание педалей и скрип плохо смазанной цепи наконец затихли вдалеке, легкая зыбь пробежала по лавровой рощице, окаймлявшей дорогу. Кто-то, осторожный, словно кот, выскользнул из зарослей, с минуту прислушивался, как осыпаются с разрушенных стен мелкие камешки и отваливается сухая штукатурка, после чего, крадучись, обогнул развалины и через брешь, зиявшую на месте снесенного дымохода, проник в кухню. Ворча, он пробирался через обломки, потом щелкнул зажигалкой – и язычок пламени выхватил из темноты пустой тайник, который Серафен не успел разрушить. Мгновение спустя свет погас. Человек продолжал ворчать, было слышно, как из-под ног у него осыпается щебень. Наконец он выбрался на тропку, бегущую через холмы, и скрылся в ночи.
Серафен поставил велосипед под навес и, сняв рабочую одежду, бросил ее в деревянный короб. Через внутреннюю дверь, которая выходила на лестницу, он поднялся к себе в кухню, открыл кран колонки и намылился с ног до головы хозяйственным мылом. Потом вымылся еще раз – с туалетным мылом «Микадо», которое приберегал для особо торжественных случаев. Покончив с этим, Серафен побрился и надел чистое белье. Затем он вернулся обратно в кухню, захватив с собой найденную в тайнике коробку. Он вымыл и ее тоже, а губку бросил в мусорный бак.
Только теперь Серафен ощутил, что голоден и хочет пить. Он разогрел суп, вскрыл коробку сардин и поджарил пару яиц. Запив все это кружкой красного вина, убрал со стола, после чего придвинул к себе металлическую коробку и долго смотрел на нее.
Бретонский пейзаж с женщиной и придорожным распятием связывался в его восприятии с образом матери. Возможно, она выбрала эту коробку на ярмарке в Маноске или Форкалькье. В любом случае она держала ее в своих руках. И поскольку он уничтожил все предметы, которых она когда-либо касалась, надлежало уничтожить и этот. Однако что-то не позволяло Серафену вот так швырнуть коробку в мусорный бак. Он представил, как по утрам, во время завтрака, мать брала из этой коробки сахар, чтобы положить в дымящийся кофе, пока отцу не вздумалось превратить ее в самодельный сейф и навсегда замуровать в тайнике над очагом.
Серафен непроизвольно поглаживал руками свою находку, прежде чем высыпать ее содержимое на покрытый клеенкой стол. И когда он опрокинул коробку, из нее выскользнули несколько сложенных вчетверо листков, которые, очевидно, лежали на дне под деньгами и упали на кучу луидоров.
Это были три листка плотной гербовой бумаги, солидные, будто банковские билеты, с черным отпечатанным номером, прожилками и водяными знаками, складывающимися в благородный лик Правосудия, увенчанного лавровым венком.
Листки были исписаны мелким, не слишком умелым, но зато очень четким почерком – настолько четким, что казалось, будто писали вчера. Текст на всех трех был одинаковый, за исключением нескольких слов, и гласил следующее:
«Я, нижеподписавшийся, Селеста Дормэр, булочник в Пейрюи, настоящим признаю получение суммы в 1200 (тысячу двести) франков наличными от Фелисьена Монжа, хозяина постоялого двора для ломовых извозчиков. За предоставленный заем, по обоюдному добровольному соглашению, означенный Селеста Дормэр обязуется вносить вышепоименованному Фелисьену Монжу каждый год, в день св. Михаила, установленный по обоюдному же согласию процент, равный 23 % от суммы займа, то есть, 276 (двести семьдесят шесть) франков. Вышеоговоренная сумма должна быть возвращена полностью в день св. Михаила года 1896 от Рождества Христова, под страхом судебного преследования.
Составлено в Люре в день св. Михаила года 1891 от Рождества Христова.»
Далее следовали две подписи, которые фигурировали также на гербовой печати, приложенной внизу и слева. Кроме имен и сумм, текст двух других векселей был идентичным.








