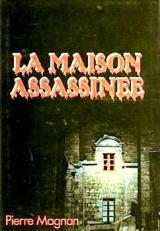
Текст книги "Дом убийств"
Автор книги: Пьер Маньян
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Старик протянул Серафену его сухие брюки, которые тот машинально натянул на себя. Потом вытащил из кармана тиковой куртки свой кисет, развязал его и сунул в рот очередную порцию табака. Он долго качал головой, прислушиваясь к последним спазмам грозы.
– Но как по мне, – проговорил он наконец, – что-то здесь нечисто. Видишь ли, парень, в прошлом твоего отца была какая-то тайна. Он – простой возчик, земель Ля Бюрльер хватало только для прокорма небольшого стада да чтобы вырастить немного хлеба. Но при том Жирарда всегда щеголяла в обновках, у твоих братьев появлялись добротные башмаки и ранцы к началу каждого учебного года, а у самого Монжа трое лошадей – и каких! И всякий раз как Монжи отправлялись на ярмарку в Маноск, они возвращались с полнехонькими корзинами. Ну разве не странно? – Он немного пожевал табак, уставясь в очаг, словно то было зеркало, отражавшее его воспоминания. – И потом, знаешь, что я тебе скажу? Когда мы примчались сюда, кое-что меня поразило – чувствовалась здесь какая-то холодная, давно сдерживаемая ярость… Понимаешь, не было там беспорядка – если не считать стопки простынь, упавших на твою колыбель, солонки, которую, падая, сбил твой отец, да почтового календаря, перекосившегося на стене… Кто-то запер на щеколду шкаф, где лежали твои зарезанные братья. Короче говоря – в доме ничего не искали. И вот еще что: раны, края ран! Кровь давно перестала течь, и они были видны очень хорошо – белые и ровные, точно след от бритвы, только более прямые. И я сразу сказал себе: Жан, нанести такую рану может только одно орудие – хорошо заточенный резак. А у этих бедняг из Герцеговины ничего такого не нашли. Резак – это местный инструмент. Там, откудова были эти парни, такие штуки вроде бы не в ходу. На суде защитники показывали их ножи – это не резаки. А у нас все мужики ими пользуются – от мала до велика…
Старик наклонился вперед, чтобы подгрести золу с помощью совка, который снял со стены. При этом он не переставал качать головой, точно строптивый мул.
– Ох, в конце концов, я оставил мои соображения при себе, иначе люди стали бы на меня коситься. Но говорю тебе: что-то здесь нечисто…
– Ты хочешь сказать, глупец, будто знаешь, как все было?
Они не сразу восприняли голос, произнесший эти слова, поскольку он сливался с последними раскатами грозы, но в следующее мгновение обернулись, чтобы установить его источник. У них за спиной, перед захлопнувшейся дверью, лицом к очагу, в полумраке стоял мужчина. Одетый во все черное, старый человек, он в то же время не казался старым – только длинные седые усы выдавали его возраст. Его костюм да и весь облик странным образом не соотносились ни с какой эпохой, как если бы он существовал вне времени. Жилет незнакомца пересекала длинная цепочка – ни золотая, ни серебряная, но и не железная – тусклая, не бросающаяся в глаза. К ней крепился массивный брелок в виде черепа, грани которого стерлись из-за того, что вещь была очень старой.
Незнакомец устремил свой непроницаемый взгляд на Серафена, который был выше его почти на целую голову.
– Я знал, – проговорил он медленно, – что рано или поздно ты все-таки откроешь эту проклятую дверь.
Бюрль беспомощно развел руками.
– Надо же нам было укрыться где-то от грозы… – пробормотал он.
– А ты лучше помолчи! Чего успел ему наболтать?
– Все, что можно было рассказать на словах.
– Да ведь ты ему жизнь отравил! Вот к чему привела твоя глупая болтовня! – Внезапно незнакомец повернулся к ним спиной, пинком распахнул дверь и удалился размашистым шагом, ступая по градинам, которые хрустели у него под ногами, словно гравий.
Старик и Серафен невольно последовали за ним.
– Кто это? – спросил Серафен хрипло.
– Зорм, – ответил Бюрль. И сомкнул пальцы правой руки на большом пальце левой. – Он наделен силой… – прошептал старик, опасливо глядя по сторонам.
– Тише! – прикрикнул вдруг Серафен. – Послушайте! Что он там бормочет?
У подножия большего из кипарисов, чьи ветви, обломанные грозой, бессильно повисли вдоль ствола, Зорм повернулся к ним и выкрикивал какие-то неразборчивые слова.
– Оставь его, – воскликнул Бюрль. – Не пытайся понять. Он препирается с Дьяволом. Когда Зорм вот так раззевает свой рот, все мы, окрестный люд, разбегаемся и прячемся. Не гляди на него!
Однако Серафен, вопреки совету, странным размеренным шагом, будто сокрушая что-то на ходу, двинулся следом за Зормом, который опять повернулся к ним спиной и зашагал прочь.
– Серафен! – крикнул Бюрль.
Серафен исчез. Исчезли и его следы – так же, как следы Зорма, потому что небо, всего пять минут назад дышавшее смертельным холодом, изливало теперь потоки зноя, лето снова вступило во владение долиной.
– Эй, Серафен! Куда же подевался этот олух?
Старик ускорил шаг. Он быстро скатился с тропы, ведшей к Ля Бюрльер, на дорогу, усыпанную обломанными ветками и посеченной градом листвой. Старик хотел догнать тех двоих, если успеет. По шоссе струилась вода. Рытвины, которые они так старательно засыпали перед грозой, теперь появились снова и еще более глубокие. У Бюрля вырвался обескураженный жест. Растерянный, он обогнул остатки колючего кустарника, придавленного градом, который почти полностью скрыл под собой откос, где они работали с Серафеном.
Серафен лежал ничком на груде булыжника. Тело его сотрясалось от рыданий.
– Мама! Мама! Мама! – сквозь душившие его рыдания выкрикивал Серафен.
Молотя кулаками по груде щебня, он в кровь разбил себе руки. Но боли не чувствовал.
Еще в течение трех дней Серафен чувствовал боль в руках, которые разбил тогда о кучу щебня, и с тех пор каждую ночь, вместо военных кошмаров, перед ним вставало замкнутое пространство кухни в Ля Бюрльер. По воскресеньям он возвращался туда и целыми часами бродил от очага к столу из орехового дерева, от хлебного ларя до колыбели.
Его неотвязно преследовал образ матери, с задранными юбками и перерезанным горлом, лежавшей на полу у ножки стола. Напрасно днем он изнурял себя работой – ночью сон все равно не приносил ему покоя. Но особенно мучило Серафена и наполняло ужасом то, что у матери, которая столько раз являлась ему в тоске и страхе, не было лица. Несмотря на все усилия, он не мог представить себе ее черты.
Папаша Бюрль вскоре умер от испанки. За несколько дней до его смерти Серафен навестил старика и попросил описать, как выглядела его мать.
– Зачем? – удивился Бюрль.
Он не испытывал страха перед близящимся концом. У него даже хватало сил пережевывать неизменный табак и сплевывать в сторону печки.
– Не влезай в это дело, парень, – сказал он напоследок. – Знаешь, не лежал бы я здесь сейчас, когда бы не рассказал тебе всего. Да уж ладно, что сделано, того не воротишь. И запомни, сынок: что-то тут нечисто. Не могло оно так произойти. Слышишь? Не могло!
Серафен поначалу пытался следовать его совету, приноровиться и жить, как все. По воскресеньям он появлялся на площади под гирляндами разноцветных фонариков на праздниках, устраиваемых по случаю победы.
Много девушек танцевали там друг с дружкой или в одиночестве подпирали стены. Это были ровесницы погибших на войне парней.
Впрочем, были девушки, которые на танцы не ходили. Прежде всего те, чьи отцы или братья погибли на фронте, и кто в течение нескольких лет должен был соблюдать траур. И еще другие, родители которых пытались вырыть как можно более глубокий ров между своими дочерьми и простыми смертными.
В то время титул Королевы Красоты между Пейрюи и Люром делили Роз Сепюлькр и Мари Дормэр.
Роз ослепляла вас заново при каждой встрече, даже если вы были знакомы с ней давным-давно. Люди оборачивались и, затаив дыхание, глядели ей вслед, когда она проходила мимо, с порочной наивностью покачивая бедрами.
Ее отец, Дидон Сепюлькр, чье дело процветало, пользовался известностью в округе, а потому рассчитывал достойно пристроить двух своих дочерей. К тому же он заметно расширил свои владения за счет прикупленных им лучших земель Монжей, когда эта семья в полном составе оказалась вычеркнута из списка живых.
Не будучи суеверным, он охотно приобрел бы и саму усадьбу – буквально за бесценок – когда б его жена решительно не воспротивилась. «Если ты подцепишь Ля Бюрльер, – заявила она мужу, – будешь жить в одиночестве, потому что я туда ни ногой! Жирарда, верно, еще бродит там по ночам и, – добавляла женщина с дрожью в голосе, – ищет своего младенца, чтобы дать ему грудь…»
Теперь, когда закончилась война, Дидон Сепюлькр начал беспокоиться, подсчитывая мало-мальски приличных молодых людей, еще остававшихся свободными, и при известии о каждом новом браке со все более озабоченным видом мял между большим и указательным пальцем свою нижнюю губу. Тем паче, что сторожить Роз становилось все труднее. Она выскальзывала у него из рук, словно мокрое мыло. С тех пор как мать подарила ей велосипед, купленный на деньги, вырученные от продажи сыра, Роз гоняла на нем целыми днями, так что приходилось рассчитывать единственно на ее благоразумие. При этом у нее уходило два часа, чтобы съездить за хлебом в Люр, а на выполнение пустякового поручения бабушки, жившей в Пейрюи, потребовалось и вовсе полдня.
Мари Дормэр была не так красива, но этот недостаток восполняло бьющее через край здоровье – Мари являла собой счастливое исключение в семействе Дормэр. Ее отец, Селеста, был черным, точно сарацин, худым и сухощавым, с глазами разного цвета и запавшими щеками. Можно лишь удивляться, как этот тщедушный человечек ухитряется вымесить своими тощими руками теста на целую печь – больше, чем весил сам. Его жена, Клоринда Дормэр – в противоположность мужу длинная и белесая, будто лук порей, – отличалась непомерно большими ногами, которые при ходьбе ставила носками внутрь, ноги эти никак не желали умещаться под прилавком булочной, и она вечно спотыкалась обо все корзины. Кроме того, всякий раз, когда мадам Дормэр случалось взглянуть на свое отражение в зеркале, висевшем в комнатке позади лавки, она восклицала: «Вот уж горе-злосчастье!», потому что ее щеки и подбородок были изрыты оспой. Зато соседи не могли ею нахвалиться. «Добрая, как хлеб», – говорили они.
Мари и Роз роднила общая черта – обе девушки не боялись никого и ничего. А очень скоро им должно было понадобиться все их мужество.
Через несколько дней после смерти папаши Бюрля Серафен возвращался домой глухой ночью. Как и все в этих местах, он не запирал свою дверь на ключ и, пройдя на кухню, обнаружил, что кто-то его поджидает: на фоне окна, освещенного снаружи установленным на площади фонарем, вырисовывался чей-то темный силуэт. В следующее мгновение Серафен услышал легкое шуршанье платья, развевавшегося от быстрых шагов, и навстречу ему из мрака скользнула девушка. Она подошла так близко, что при каждом вздохе ее маленькие острые груди почти касались нижнего края его ребер. Пряный запах цветущего шиповника исходил от нее, и Серафен различил белеющее в полутьме, обращенное к нему лицо, несмотря на то, что девушка стояла против света.
– Не зажигай! – шепнула она. – Меня могут увидеть снаружи… Рассказать моему отцу…
– Нет, – проговорил Серафен.
– О! Я – Роз Сепюлькр. Ты говоришь «Нет!» сейчас, но погоди!
Он почувствовал, что она положила ладонь ему на пояс, и рука ее медленно скользнула вниз. Она принялась ласкать его сквозь ткань. Серафен услышал ее шепот:
– Ты увидишь… Увидишь… – во влажном бормотанье ее губ был долго сдерживаемый порыв, жадное стремление к тому, что он мог ей дать.
– Нет, – вполголоса повторил Серафен.
Роз быстро отдернула ладонь.
– Что значит – нет? Почему ты это все время повторяешь?
– Нет – значит нет.
Охваченная внезапной яростью, она ударила его кулачками в грудь и оттолкнула к стене.
– Дай мне пройти!
Роз вихрем слетела по лестнице, Серафен слышал, как она с силой рванула входную дверь и опрометью выскочила на улицу.
Он отворил окно и облокотился о подоконник. Однако напрасно мирное журчанье реки пыталось унять овладевшую им тоску. После рассказа Бюрля единственным звуком, непрестанно раздававшимся в ушах Серафена, было бульканье крови, вытекавшей из перерезанной артерии.
Теперь он понял, что положение тела его матери – так, как описал его Бюрль – указывало, что женщина пыталась доползти до колыбели, где он спал, пока она истекала кровью.
Привалившись к подоконнику, Серафен сидел, закрыв руками лицо, как будто зрелище, которым он был одержим, заново разворачивалось перед ним.
«Пока голова у тебя будет занята этим, – говорил он себе, – ты не сможешь жить, как все нормальные люди!»
Без сомнения, именно в эту ночь он и принял решение.
– Клоринда! Эй, Клоринда! Выглянь-ка на минутку!
Внизу на улице, окутанная облаком пыли, словно только что материализовалась из воздуха, Черная Триканот, орудуя палкой, будто копьем, пыталась загнать в хлев своих коз, которые, сбившись в кучу, вымя к вымени, толкали и теснили друг друга. Налетевший ветер вздувал юбки Триканот, так что она казалась беременной, и в этом зрелище было что-то непристойное, потому как ей стукнуло уже семьдесят четыре года, хоть она еще крепко держалась на своих тощих и жилистых, как у петуха, ногах, оттопыривая при ходьбе острые ягодицы.
Клоринда Дормэр как раз протирала чаши весов, на которых отмерялось тесто, и появилась в окне с тряпкой в руках.
– Ты что сдурела – так орать? Селеста отдыхает после обеда!
– Ах, так ты еще ничего не знаешь? Серафен Монж! Он совсем спятил – крушит и жжет свою мебель! Там внизу, в усадьбе Ля Бюрльер. Швыряет в огонь все, что ни попадя!
Клоринда Дормэр зажала себе рот рукой, потому что живо представила истребление мебели, и это причинило ей такую боль, как будто мебель была ее собственной.
Мари находилась у себя в комнате на втором этаже. Стоя у раскрытого окна, она обтирала одну за другой изящные вазочки саксонского фарфора – подарок крестной ко дню первого причастия. При этом девушка строила планы. С некоторых пор она тоже думала о Серафене. Мари повстречала его, когда отвозила хлеб в Пайроль. Он как раз занес над головой свою кувалду, готовясь обрушить ее на вывернутый из откоса обломок скалы, и все мышцы его обнаженного торса вздулись от напряжения. Тогда Мари сказала себе: «Если я не приберу красавчика к рукам, его подцепит эта шлюха, Роз Сепюлькр… Одно имечко чего стоит – мороз по коже пробирает, такая на все способна! Тем более, что Бессолот мне говорила, будто видела, как однажды вечером она выходила от Серафена…»
Неудивительно, что Мари вздрогнула, услышав имя Серафена. В ужасе от совершаемого им святотатства она, без долгих размышлений, единым духом слетела вниз по винтовой лестнице, пронеслась через лавку и выбежала на улицу под взглядами окаменевших матери и Триканот. Девушка промчалась между ними, будто стрела, схватила прислоненный к стене велосипед, выкатила его на дорогу.
– Мари! – спохватилась Клоринда. – Ты что задумала, дочка? Куда ты?
Но Мари уже и след простыл.
Клоринда повернулась к Триканот, которой наконец удалось затолкать в хлев своих коз.
– Куда это она? – спросила заинтригованная старуха.
– Ха! Кто ж ее разберет? Эта девчонка совсем с ума сошла! Скоро она меня в гроб загонит!
А тем временем Мари со скоростью поезда мчалась по извилистой дороге к Ля Бюрльер, где из трубы валил черный дым.
Нелегкое это дело – сжигать мебель, имеющую свою историю. Первой сдалась огромная квашня, вся, за исключением крышки, источенная шашелем, с ножками, рассыпающимися в прах, она стонала, будто живое существо.
Справиться со столом оказалось куда труднее: шестисантиметровая столешница успешно противостояла ударам, а так как в длину стол достигал почти четырех метров, его нельзя было сунуть в очаг целиком. Даже с помощью кувалды Серафен не мог уничтожить след от вертела, который с чудовищной силой вонзился в дерево, пройдя сквозь тело его отца.
Серафен выпрямился, тяжело переводя дыхание. Его взгляд упал на часы, боязливо забившиеся в самый темный угол, и два удара кувалды разнесли в щепы корпус из белого дерева, на котором неизвестный художник когда-то нарисовал идиллический букетик. Через образовавшийся пролом Серафен, будто кровоточащие внутренности, вырвал маятник и механизм и швырнул их на изувеченный, но все еще державшийся стол. Потом он хотел прошибить ногой стенку колыбели, но первый же удар отозвался в его костях резкой болью. Тогда он в ярости отшвырнул ее к стене, но колыбель, словно бумеранг, отскочила обратно на середину комнаты и встала, раскачиваясь с однотонным мурлыканьем прялки.
К счастью, очаг был достаточно просторным для того, чтобы, в отличие от стола, вместить ее всю. Серафен схватил ее и поднял, намереваясь швырнуть в огонь.
В это мгновение дверь распахнулась, и на пороге выросла запыхавшаяся Мари Дормэр. Увидев жест Серафена, она метнулась к нему и обеими руками вцепилась в прутья колыбели.
– Прочь с дороги! – рявкнул в бешенстве Серафен.
Они сцепились, пытаясь вырвать друг у друга колыбель, которая раскачивалась и выворачивалась, поочередно нанося им удары.
– Да у вас просто совести нет! – кричала Мари. – Жечь колыбель, которая может еще послужить вашим детям!
Не оставляя попыток отнять у нее колыбель, Серафен тряхнул головой.
– Никогда! Вы слышите – у меня никогда не будет детей!
– Но я хочу, чтобы у меня были!
Воспользовавшись замешательством Серафена, который не ждал подобного ответа, девушка с такой силой рванула на себя колыбель, что та осталась у нее в руках. Мари тотчас обхватила ее, крепко прижав к груди, и отступила к стене, полная решимости, если нужно оказать дальнейшее сопротивление.
– Можете ее забрать, раз уж вам так хочется.
– И заберу!
Девушка повернулась к нему спиной, выбежала во двор и быстро приладила колыбель к багажнику велосипеда.
Серафен вышел следом за девушкой и, качая головой, наблюдал за ее действиями. У него вырвался глубокий вздох, первый с тех пор, как он вернулся с войны, и Бюрль рассказал ему о событиях той ужасной ночи.
У подножия одного из кипарисов лежала глыба почерневшего от времени известняка – остатки некогда украшенной резьбой церковной капители. Очевидно, кто-то из предков Серафена притащил ее сюда, чтобы использовать вместо скамьи для отдыха летними вечерами. Серафен тяжело опустился на нее, свесив руки между колен.
– Иди сюда! – сказал он глухо.
Девушка подошла и села рядом – бесшумно и осторожно, словно он был птицей, готовой при первой же тревоге упорхнуть в колючие заросли.
– Я никак не свыкнусь… – говорил между тем Серафен. – Это все время стоит у меня перед глазами. Раньше я думал, что не смогу забыть войну… Э, нет! Это намного страшнее. Понимаешь, война – общая беда, а то, что случилось здесь – только мое личное горе. Вот почему я хочу все уничтожить. Если все это исчезнет, моя мать… может быть, она исчезнет тоже… Она умерла там, в доме, когда ей не было еще и тридцати лет… Обливаясь кровью, она ползла к моей колыбели, вот этой самой! – Он махнул рукой в направлении багажника. – Моя мать и я… А потом было сиротство. Сестры в приюте знали о моем прошлом больше, чем я сам. И они держали меня в стороне от других детей, словно я был заразным. Когда я получил аттестат и не мог больше оставаться на их попечении, они с радостью сбыли меня с рук и отправили под Тюрье на посадку леса.
Я жил тогда в бараке вместе с другими людьми. По вечерам они разговаривали вполголоса, но когда я подходил, замолкали. Я понимал, что со мною что-то не так… Почти все мои товарищи были уроженцами Пьемонта. Часто они получали письма от матерей и читали их сообща. Иногда кому-нибудь приходило письмо, где говорилось о смерти матери. Тогда в бараке всю ночь стояли вопли и стон – горевали они тоже вместе. Как-то один из новичков, только что попавших к нам, спросил меня: «А твоя мать не пишет?» Но прежде чем я успел ответить, один из мужчин постарше дал ему такого пинка под зад, что бедняга отлетел в сторону и растянулся на соломе. Семь лет… Семь лет провел я там в горах. Потом началась война. А я так ни о чем и не дознался. Все эти годы как будто спал…
Мари придвинулась ближе к Серафену, схватила его безвольную руку и прижала к своей груди. Но рука эта осталась безжизненной и холодной; впрочем, Серафен почти тотчас ее отнял. Потом он встал, и взгляд его уперся в кипарис, под которым они сидели.
– Это кажется мне невозможным, – проговорил он, – невероятно, что здесь не осталось больше никаких признаков жизни. Я…
Внезапно Серафен умолк, и глаза его, с той мгновенной остротой, которая вырабатывается у человека на войне, впились в заросли лавровых деревьев, отделявших двор усадьбы от дороги. Ему показалось, будто там разнесся слабый шорох, едва заметное волнообразное колебание, неуловимое, как дуновение вечернего ветерка, движение, которое способны различить только охотник или преследуемая им дичь.
Не размышляя больше, Серафен направился к роще и оказался там раньше, чем оставшаяся под кипарисом Мари успела сообразить, что происходит. Серафен раздвинул ветки. Вокруг стояла тишина, ничто не шелохнулось – ни камешек, ни травинка, но среди терпкого запаха раздавленных жестких листьев его нос ощутил присутствие человека. Кто-то затаился в зарослях пырея и долго лежал там, подслушивая их разговор.
Медленным шагом Серафен вернулся в Ля Бюрльер. Мари и ее велосипед исчезли. Какое-то время он постоял, глядя на каменную глыбу под кипарисом, затем пожал своими широкими плечами и направился в дом, чтобы бросить в огонь остатки мебели.
В воскресенье утром Серафен снова пришел в Ля Бюрльер. Он запер дверь на два оборота ключа, и вскоре из трубы опять повалил дым. Когда кухня опустела, и в ней не осталось ничего, кроме стен, потолка и пола, на которых пятна застаревшей крови образовывали странные и зловещие рисунки, Серафен принялся за комнаты, потом чуланы, кладовки и, наконец, коридоры. Он сжег все, что поддавалось огню: гардеробы, секретер своего отца, дверцы стенных шкафов. Остывший пепел он вытряхивал прямо на плиты двора, и ветер уносил его прочь.
Наконец дым исчез над Ля Бюрльер. Теперь Серафен мог свободно расхаживать по усадьбе, пробуждая эхо в пустых комнатах, где не осталось ничего – только стены, плиты на полу да потолки.
Вскоре Серафен принес стремянку, которую прислонил к фасаду. Не торопясь, поднялся на крышу. Он снял одну черепицу и сбросил ее вниз, на каменные плиты, где она разлетелась на мелкие осколки со звоном разбитой тарелки. К вечеру в крыше Ля Бюрльер зияла обширная рана. Закатное солнце меж обнажившихся балок освещало часть сломанной перегородки под южным чердаком.
Настал день, когда обнажился деревянный остов Ля Бюрльер, подставив яркому солнцу выбеленные веками кости своих вросших в стены балок.
Лишенная кровли, зияющая пустотой своих обезглавленных чердаков, между свечами четырех вытянувшихся на ветру кипарисов Ля Бюрльер производила зловещее впечатление. Еще никогда она так не походила на пустой пока гроб, дожидающийся, чтобы в него опустили огромное тело.
Теперь Серафен принялся за четыре карниза, прикрытые прежде выступающей частью крыши, представлявшие собой ажурные гирлянды ячеек, служивших для вентиляции чердаков, где хранился фураж. И почти в каждой лунке этих сот ленилось ласточкино гнездо.
При первом же ударе кувалды, от которого содрогнулась стена, весь пернатый народ издал пронзительный вопль ужаса. Птицы накинулись на Серафена со свистом рассекающей воздух косы. Одна даже, изловчившись, клюнула его в лоб, но он отогнал ее рукой – без раздражения или гнева. За первым ударом последовал второй. Обезумевшие ласточки носились вокруг Серафена, ослепляя его, оглушая своими неистовыми криками, в то время как он сильными размеренными ударами расшатывал тутовую кладку, служившую опорой для штукатурки.
– Негодник! Стыда у тебя нет! Разорять птичьи гнезда!
Серафен скосил глаза. На стене, уперев руки в бедра, в испачканном мелом платье стояла Роз Сепюлькр. Ее глаза и щеки пылали от гнева. Ласточки накинулись и на нее, трепали ей волосы, клевали в лодыжки.
– Эй, ты что там делаешь? – крикнул Серафен. – Ну-ка, слезай, не то упадешь!
– Упаду? Я сама брошусь вниз, если ты сейчас же не перестанешь!
Серафен пожал плечами.
– Бросайся, если тебе так хочется…
– Убийца! – вопила Роз. – Да ты не лучше тех мерзавцев, которые прикончили твою семью! Ты такой же! Даже еще хуже! Тебя-то пожалели, а ты нападаешь на беззащитных птенцов. Они ведь еще летать не умеют! У них и крылья-то толком не выросли… Нет, ты – худший из убийц!
– Серафен! Погоди! Послушай!
Они обернулись – через двор, спотыкаясь о груды щебня, бежала Мари Дормэр.
– Этой еще тут не хватало! – процедила Роз.
Повернувшись спиной к Серафену, она проворно устремилась вниз по наклонному ребру, легко соскользнула по лестнице и загородила дорогу Мари, уже успевшей схватиться за первую перекладину.
– Тебя сюда не звали! – заявила Роз.
– Пропусти меня!
Мари, изловчившись, схватила соперницу за пояс и оторвала от стремянки, а Роз, в свою очередь, обеими руками вцепилась в волосы Мари, и они вдвоем полетели на землю. Они боролись молча, без слов, тяжело дыша, охваченные гневом и все же не способные серьезно навредить друг другу. Они брыкались крепкими ногами, мелькавшими среди вороха задранных юбок, и вскоре их ободранные о плиты колени превратились в одну сплошную ссадину.
Серафен спустился, чтобы их разнять, но в ту минуту, когда он коснулся земли, наверху, на участке стены, который он расшатывал своей кувалдой, послышался странный звук. Он инстинктивно бросился к девушкам и, схватив обеих в охапку, толкнул их в сторону – как раз вовремя, поскольку в следующее мгновение на то самое место, где они только что стояли, рухнул огромный кусок карниза, весом не менее пятидесяти килограмм. Ласточки тучей устремились прочь, оглашая небо криками ужаса. Трое молодых людей, окаменев, смотрели на едва не раздавившую их глыбу. Испуганные девушки не проронили больше ни звука.
– Уходите! – сказал Серафен. – Только я могу оставаться здесь. – Легонько подталкивая, он выпроводил их со двора. – Запомните хорошенько: я никогда никого не полюблю. Я ни на ком не женюсь. У меня никогда не будет детей.
Роз, всхлипнув, забралась на свой велосипед и умчалась прочь. Мари, опустив голову, направилась к трехколеске, в которой обычно развозила хлеб. На полпути она обернулась и посмотрела прямо в глаза Серафену.
– Ради ласточек… – сказала она тихо.
– Ладно! – так же тихо откликнулся Серафен. – Я подожду, пока они улетят.
И он сдержал обещание. Но как только птицы разлетелись, и гнезда опустели, Серафен вновь поднялся на стремянку и с удвоенной силой принялся крушить кувалдой сначала карнизы, а потом огромные валуны с берегов Дюранс, из которых, скрепленные известковым раствором, были сложены стены Ля Бюрльер.
Об этом судачили в семенном кругу после воскресного обеда все бездельники из Люра и Пейрюи, потешаясь над безумием человека, который сперва сжег свою мебель, а сейчас рушит свой дом. Если до сих пор Селеста Дормэр и Дидон Сепюлькр ограничивались ворчливыми нотациями дочерям, теперь это приняло форму: «Если я еще раз увижу, что ты болтаешь с этим доходягой, я тебе голову размозжу!»
Но был человек, не говоривший ничего. Он просто приходил, устраивался на капители у подножия кипариса и сидел там часами, опершись подбородком на руку, погруженный в задумчивость. Этот незнакомец был частью другого мира: одевался, как барин, курил дорогие сигареты, которые доставал из золотого портсигара, и разъезжал в сверкающем красном автомобиле. Выходя из машины, он захлопывал дверцу жестом усталого, пресыщенного человека.
Серафен не обращал на него внимания, как и на прочих бездельников и зевак. Он продолжал сбрасывать камни и пласты штукатурки на плиты двора, а когда там скапливалось слишком много мусора, спускался вниз, лопатой загружал обломки в тачку и высыпал с обрыва в Дюранс.
Между тем лето подходило к концу. Настали ветреные, дождливые дни. С Верхних Альп в долину хлынули стада овец.
Тон шествию задавал шагавший во главе стада старый пастух. А в хвосте этих масс, с трудом сдерживая нетерпение, по колено в грязи, измученные ливнями и накопившейся усталостью, зябнущие в своих выношенных кожаных куртках, плелись с полдюжины подпасков, всегда готовых затеять ссору или потасовку.
Как и все в Люре, они были наслышаны о безумце, вздумавшем развалить свой дом. Подходящий случай, чтобы дать себе разрядку, и вот, с кнутами в руках, они окружили стену, которую сокрушал ударами кувалды помешанный колосс. Похохатывая, хилые подростки принялись подбирать камни и швырять вверх. Наконец, уязвленные безразличием Серафена, четверо из них придумали убрать лестницу и сбросили ее на землю у подножия стены.
– Эй ты, дурачина! Сиди там, коли тебе так нравится!
Они захлебывались от смеха, хватаясь руками за животы, уверенные в полной своей безопасности. И вдруг, когда старший из подпасков нагнулся за очередным камнем, он получил такого пинка под зад, что кувырком полетел на кучу щебня. В то же мгновение кто-то вырвал у него из руки кнут. Юнец проворчал что-то сквозь зубы, полагая, будто удар ему нанес старший пастух. Он оглянулся – то же сделали остальные, но тотчас пригнулись, поскольку кнут просвистел у них над головами, рассекая воздух с такой силой, что, будучи знатоками, они не могли не оценить мастерство нападавшего. Однако его лицо заставило их вовсе замереть на месте.
– Ну-ка, поставьте эту лестницу так, как она стояла, – спокойно сказал незнакомец, – или кнутом я вышибу вам по глазу.
Подпаски не рискнули перечить. Когда лестница оказалась на месте, они пустились наутек на полусогнутых ногах вдогонку стаду.
Серафен не упустил ни одной детали этой сцены и, как только лестницу снова прислонили к стене, спрыгнул на землю. Незнакомец, следивший за беспорядочным бегством подпасков, резко обернулся, и Серафен тотчас понял, почему нападавшие в такой панике покинули поле боя. Перед ним был инвалид войны с изувеченным до потери человеческого облика лицом. На такого впредь уже никто не отважился бы поднять руку из одного только страха, что все погибшие на войне поднимутся из своих могил, возмущенные подобным святотатством.
– Ну что ж, будем знакомы, – сказал он. – Меня зовут Патрис. Патрис Дюпен.
– Вы – сын господина Дюпена? – спросил Серафен.
– Увы, – вздохнул Патрис. – Действительно, у меня есть отец.
Серафен смущенно улыбнулся.
– Без вас пришлось бы мне ночевать наверху…
– Без тебя, – поправил Патрис, сделав ударение на слове «ты». – Самое скверное, что, не вмешайся я вовремя, эти подонки выставили бы тебя на посмешище. А я не хочу, чтобы над тобой смеялись.








