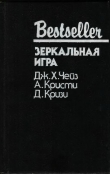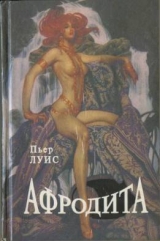
Текст книги "Афродита"
Автор книги: Пьер Феликс Луис
Жанр:
Эротика и секс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
На Александрийской дамбе

На Александрийской дамбе пела какая-то певица. По обе стороны от нее сидели на белом парапете две девушки и играли на флейтах.
Два козлоногих сатира нимф перепуганных гнали.
Слезы, проклятья и вопли слышались в чаще лесной.
Горе! Попались бедняжки! Вот их схватили за косы.
Вот уж владеют сатиры девами в смятой траве.
Что козлоногим стенанья полубогинь оскорбленных?
Похоть свою насыщая, Эрос не знает стыда.
Женщины! Женщины! Женщины!
Кто ваши груди вздымает?
Кто иссушает вам губы? Кто содрогает вам плоть?
Кто иссушает вам губы? Кто ваши груди вздымает?
Кто вам из уст исторгает мучительно сладостный стон?
Эрос!
Девушки, игравшие на флейтах, вторили: – Эрос! Эрос!
Аттис, Кибелой гонимый, красою сродни Аполлону.
Эрос, ты в сердце Кибелы стрелою Любви угодил.
Немилосердный, ответствуй: сам-то любить ты умеешь
Или же всех ненавидишь? Немилосердный, ответь!
Через поля и дубравы Кибела за Аттисом мчится,
Чтоб ледяное дыханье смерти вдохнуть в беглеца.
Мчится она, чтоб исторгнуть
из уст его пламенно-нежных —
Женщины! Женщины! Женщины! —
мучительно сладостный стон.
Эрос!
– Эрос! Эрос! – пронзительно вторили флейтистки.
Пан за Сирингою гнался – дочерью вод тихоструйных,
Дочерью вод полнозвездных, дремлющих в чаще лесной.
А злобно-изменчивый Эрос незримо лобзал ее груди,
К ланитам ее и бедрам, невидимый, припадал.
Пан за Сирингою гнался,
всем сердцем возжаждав нимфу,
Но тень лишь узрел беглянки,
на волнах дрожащую тень.
Эрос, могучий Эрос владеет людьми и богами,
Он властен даже над смертью! Всевластен! Необорим!
Над нимфы могилой подводной
сорвал камышинку Эрос —
Он даже над смертью властен! Всевластен! Необорим!
Припал к камышинке губами,
исторгнув из флейты-сиринги —
Женщины! Женщины! Женщины!
– мучительно-сладостный стон.
Эрос![1] Перевод Ю. Медведева.
[Закрыть]
Пока флейты еще допевали последнюю мелодию, певица протянула руку к прохожим и, собрав четыре монеты, спрятала их в свою сандалию.
Постепенно толпа рассеивалась; многочисленные зрители с любопытством озирали друг друга. Шум их шагов и голосов заглушал даже плеск моря. Матросы вытягивали лодки на берег. Вокруг сновали продавцы фруктов с полными корзинами через плечо. Нищие робко протягивали дрожащие руки. Ослы, навьюченные полными бурдюками с вином и маслом, терпеливо переминались у изгороди, к которой были привязаны.
Солнце садилось, и на дамбе собралось куда больше праздношатающихся гуляк, нежели занятых делом тружеников. То здесь, то там люди собирались вокруг какой-нибудь женщины. Слышались голоса, окликающие знакомых. Молодые богатые люди снисходительно озирали задумчивых философов и с интересом разглядывали куртизанок.
А они собрались здесь всех рангов и возрастов, начиная от самых знаменитых, облаченных в легкие цветастые шелка и сандалии из тончайшей золотистой кожи, и до самых ничтожных, ходивших босиком и одетых кое-как. Это не значило, что бедные куртизанки были менее красивы, чем богатые, просто они оказались менее удачливы, однако мужчины обычно не удостаивали вниманием тех, чья прелесть не была подчеркнута изысканными одеяниями и множеством драгоценностей.

Дело происходило в канун праздника Афродиты, поэтому женщины особенно тщательно выбирали себе одежды, стараясь подчеркнуть достоинства фигуры; но некоторые из самых молодых вообще явились обнаженными. Их нагота никого не смущала – ведь вечерний полумрак накидывал на них свои легчайшие покрывала; но только те рискнули бы выставить свои прелести при солнечном свете, кто полностью был уверен в их совершенстве!
– Трифера! Трифера! – Какая-то молоденькая куртизанка весело растолкала прохожих, чтобы присоединиться к подружке. – Трифера, ты приглашена?
– Куда, Сезо?
– К Бакис.
– Еще нет. Она дает ужин?
– Ужин! Настоящий пир, моя милая. Во второй день праздника она отпускает на волю свою самую красивую рабыню – Афродизию.
– Наконец-то! Наконец-то она поняла, что к ней приходили только ради ее служанки.
– Я думаю, она ничего так и не поняла. Это все причуды старого Кереса, судовладельца. Он хотел купить рабыню за десять мин – Бакис отказала. Он предложил двадцать – она вновь отказала.
– Сумасшедшая!
– Ну, ты же знаешь Бакис. Ей так хотелось иметь вольноотпущенницу! Да и Афродизия стоит того, чтобы из-за нее поторговаться. В конце концов, Керес предложил тридцать пять мин, и только тогда Бакис уступила.

– Тридцать пять мин? Три тысячи пятьсот драхм?! За негритянку!
– Ну, отец-то ее был белый.
– Зато мать была черной.
– Бакис поклялась, что не уступит ее дешевле, а старый Керес совсем потерял голову от любви к Афродизии, вот он и согласился.
– А его-то пригласили на пир?
– Нет. Его час еще не настал. На пиру Афродизия будет десертом: каждый насладится ею в меру своего желания, и лишь на следующий день ее отдадут Кересу. Правда, боюсь, что она слишком устанет...
– Не волнуйся за нее. Керес частенько будет давать ей передышку! Я ведь знаю его, Сезо. Помню, он заснул, когда я была с ним.
И обе посмеялись над Кересом, а затем, отмерили друг дружке положенное количество учтивых комплиментов.
– Какое красивое платье! – с восхищением и завистью воскликнула Сезо. – Рисунок вышивки ты придумала сама? Это сделали твои рабыни или наемные мастерицы?
На Трифере было одеяние из тончайшей ткани цвета морской волны, расшитое цветами ириса. Темно-красный рубин, оправленный в золото, скреплял складки на левом плече; правая грудь и вся правая половина тела были обнажены до самого металлического пояска; подол был узок, к тому же раздвигался при каждом шаге, обнажая белизну ног.
– Сезо! – окликнул кто-то. – Сезо и Трифера, идите со мной, если вам нечего делать. Я иду к Керамику, посмотреть, написал ли там кто-нибудь мое имя.
– Музарион, малютка, ты откуда?
– Из Фара. Там никого.
– Что?! Там всегда столько народу, только успевай цеплять.
– Мелкая рыбешка. Я иду к стене. Пойдемте со мною.
По пути Сезо снова рассказала о грядущем пире.
– А, у Бакис! – воскликнула Музарион. – Трифера, помнишь последний ужин у нее и то, что говорили о Кризи?
– Не сплетничай. Сезо ее подруга.
Музарион умолкла, но Сезо уже спросила озабоченно:
– А что, что о ней говорили?
– Да так, разные слухи.
– А, пусть говорят! – отмахнулась Сезо. – Мы втроем не стоим ее одной. Я знаю многих наших любовников, которые и думать о нас позабудут, если только Кризи решится переехать из своего квартала в Брушиен.
– Ну уж, будто бы!
– Можешь мне поверить. Ради нее я сама готова на любые глупости. Здесь никто не сравним с нею красотою.

Наконец девушки подошли к Керамику. Это была огромная белая стена, испещренная черными надписями. Когда кто-нибудь хотел встретиться с куртизанкою, ему нужно было всего лишь написать на стене ее и свое имена, а также цену, которую он был готов уплатить за свидание; если то и другое устраивало красавицу, она становилась у стены, ожидая предполагаемого любовника.
– Взгляни только, Сезо! – со смехом вымолвила Трифера. – Это что за шутник такое измыслил?
И они прочитали три слова, написанные большими буквами:
БАКИС
БЕРСИТ
2 ОБОЛА
– Никому не дозволено так насмехаться над женщинами! – проворчала Трифера. – Будь я римарком, привлекла бы негодяя к ответственности!
Чуть поодаль Сезо остановилась пред другой, более заманчивой надписью:
СЕЗО ИЗ КИИДА
ТИМОН, СЫН ЛИЗИАСА
1 МИН
Она слегка побледнела, потом сказала:
– Я остаюсь.
И прислонилась к стене, стараясь не замечать завистливых взоров проходивших мимо куртизанок, на которых нынче не было спроса.
Музарион тоже нашла заманчивое предложение – пожалуй, даже очень заманчивое.
Трифера вернулась на дамбу одна.
Время шло, толпа постепенно редела. Однако три женщины продолжали петь и играть на флейтах.

Увидев какого-то незнакомца, брюшко и одеяние которого показались ей забавными, Трифера фамильярно похлопала его по плечу:
– Эй, папаша, бьюсь об заклад, что ты не александриец!
– В самом деле, малютка, – ответил мужчина, – ты угадала. Как видишь, я поражен вашим городом и его обитателями.
– Ты из Бубаста?
– Нет, из Кабаза. Я прибыл сюда торговать зерном и надеюсь уехать завтра, увезя с собою самое малое пятьдесят два мина. Благодарение богам, год был урожайный!
Мимолетный интерес Триферы к незнакомцу внезапно возрос.
– Дитя мое, – между тем начал он застенчиво, – ты можешь оказать мне огромную услугу! Моей жене и трем дочерям было бы очень интересно узнать, каких знаменитостей встречал я в Александрии. Ты, должно быть, знаешь хоть кого-нибудь?
– Да, кое-кого, пожалуй! – усмехнулась Трифера.
– Хорошо. Сделай милость, если кто-то из них пройдет мимо, скажи мне. Здесь столько богатых, важных особ... наверняка я видел умнейших философов и именитых граждан – да вот беда, никого не знаю по именам.
– Я окажу тебе эту услугу. Кстати – вот Нократес.
– Кто же он, этот Нократес?
– Философ.

– А что он проповедует?
– Что нужно молчать.
– Клянусь Зевсом, это учение вовсе не требует гениальности и совсем мне не по нраву.
– А это Фразилас.
– Кто он?
– Да так, просто глупец.
– Зачем же ты говоришь о нем?
– Затем, что другие считают его великим.
– Почему?!
– Он обо всем судит с улыбкою – это подкупает слушателей, а еще выдает прописные истины за откровения. С приправою из улыбки люди готовы переварить любую чушь!
– Как-то все это слишком сложно... К тому же у этого Фразиласа физиономия лицемера.
– Ну, взгляни сюда. Это Филодем.
– Тоже «мудрец»?
– Нет, латинянин, поэт, пишущий на греческом.
– Ох, малютка, это же враг, я не желаю его видеть!
В это мгновение толпа взволновалась, и по ней пробежал шепот, подобный рокоту волн:
– Деметриос, Деметриос...
Трифера проворно вскочила на каменную тумбу и наклонилась к торговцу:
– Деметриос? Да, это Деметриос! Ты, кажется, мечтал повидать какую-нибудь знаменитость?
– Деметриос?.. Любовник царицы?! Возможно ль!
– Да, тебе повезло. Он редко появляется на людях. Это его первый приход на дамбу с тех пор, как я живу в Александрии.
– Где же он?
– Тот, кто склонился над парапетом и глядит на порт.
– Там двое!
– Он в голубом.
– Я никак не могу его разглядеть, он стоит спиной! – в отчаянии твердил торговец, но Трифера его не слушала.
– Он скульптор. Царица позировала ему, когда он ваял статую Афродиты для Храма.
– Говорят, что он любовник царицы, что именно он настоящий правитель Египта.
– Он красив, как Аполлон, – томно простонала Трифера.
– Ага, он поворачивается! Какая удача, что я пришел сюда! Теперь будет о чем рассказать дома. У нас о нем какие только слухи ни ходят! Говорят, пред ним ни одна женщина не может устоять. У него, наверное, было множество любовных похождений? Интересно, царица ревнует? Или она ни о чем не знает?
– Она знает о них так же подробно, как и все. Но слишком любит его, чтобы придавать этому значение. Она боится его потерять, боится, как бы он не вернулся в Родес, к своему зятю Ферекратесу. Деметриос столь же могуществен, как и царица, но захотела его именно она.
– По его виду не скажешь, что он слишком счастлив. Почему он так печален? Будь я на его месте, я был бы счастливейшим из смертных. Вот бы оказаться вместо него во дворце хоть на одну ночку...
Солнце уже скрылось за горизонтом, но женщины без устали рассматривали человека, который был предметом их тайных вздохов. Что же касается самого Деметриоса, то, казалось, он и не подозревал об оживлении, которое вызвал в толпе, а стоял задумчиво, облокотясь на парапет и наслаждаясь звуками флейт.
Певицы еще раз собрали деньги, затем закинули флейты за спину и направились к городу.
Ночь приближалась, и женщины небольшими группами возвращались в Александрию. За ними плелись мужчины, однако красавицы смотрели только на Деметриоса. Последняя из миновавших его женщин со смехом бросила ему желтый цветок. Набережная опустела, и ее окутала тишина.


Деметриос

На площади, покинутой толпой, остался один Деметриос и долго еще стоял, опираясь о парапет. Он слушал шум моря, хлопанье парусов и шепот ветра среди звезд. Над городом висело облачко, загораживая от людей луну, но вся дамба была залита мягким светом.
Молодой человек рассеянно огляделся. Туники девушек, что играли на флейтах, оставили в пыли длинный след. Он воскресил в памяти их лица: старшая показалась ему довольно хорошенькой, а вот в самой юной не было никакого очарования. Все уродливое заставляло его страдать – вот почему он тотчас же выкинул флейтисток из головы.
У ног что-то блеснуло. Он наклонился и поднял табличку для записей из слоновой кости с привязанной к ней серебряной палочкой для письма – стилем. Воск на табличке почти стерся, так что последние слова были нацарапаны прямо на кости.
Деметриос вгляделся. «Родис любит Миртоклею» – всего три слова. Трудно было угадать, кому из ушедших флейтисток или певице принадлежала эта табличка, но все же какое-то мгновение Деметриос колебался между решением догнать девушек и вернуть то, что было памятью о любви, – и нежеланием трогаться с места. Однако едва ли он смог бы найти их в городе, да и интерес к ним иссяк, так что он повернулся и бросил табличку в море.
Она скользнула по воде, словно белая птица, но в ту же минуту исчезла в темной глубине с чуть слышным всплеском. Только при той тишине, которая воцарилась в порту, можно было расслышать этот звук.
Деметриос поудобнее облокотился на парапет и повел вокруг рассеянным взором.
Деметриос боялся жизни. Он выходил на улицы, только когда смолкали последние отзвуки дня, и возвращался к себе, едва заслышав приближение торговцев рыбой и зеленью, которые появлялись с рассветом. Удовольствие существовать в мире ночных теней, властвовать над ними стало для него таким острым, что он уже и не помнил, когда в последний раз видел полуденное солнце.
Деметриос скучал. Царица уже набила ему оскомину.
Теперь он с недоумением вспоминал свою радость и гордость, которые овладели им три года назад, когда царица, соблазнившись скорее его молодостью и красотою, нежели славой гениального скульптора, призвала его к себе и велела объявить о его появлении у Вечерних Дверей дворца. До сих пор эти самые двери воскрешали в нем одно из тех воспоминаний, которые своей чрезмерной нежностью в конце концов отягощают душу и становятся непереносимы.

Царица приняла его в одиночестве, в своих личных покоях, состоявших из трех маленьких комнат. Она возлежала на левом боку, утопая в море зеленых шелков, которые, бросая отсветы на ее черные локоны, придавали им странный пурпурный оттенок. Ее молодое и прекрасное тело было облачено в откровенно-бесстыдный наряд, который специально для нее сделала одна фригийская куртизанка и который не скрывал ни одного из всех тех двадцати двух потаенных местечек, зная которые, опытный любовник может довести женщину до умопомрачения. Костюм был настолько удобен, что даже неистощимому на ласки и эротическую фантазию любовнику не нужно было снимать его с царицы.
Деметриос, почтительно опустившись на колени, поцеловал, словно драгоценность, маленькую ножку царицы Береники.
Госпожа встала.
Словно обычная рабыня, которую пригласил позировать скульптор, она без стеснения сняла корсаж и подвязки, освободилась от налета кисеи, сняла даже браслеты и перстни и стала, раскинув руки, подняв голову, украшенную ниткой кораллов, касавшихся ее щек.
Она происходила из рода Птолемеев и была сирийской принцессой, а через Астарту, которую греки называли Афродитой, считалась родственной и с богами. Деметриос знал, как она гордилась своим происхождением. Поэтому он не удивился, когда царица высокомерно произнесла: «Я происхожу от Афродиты. Возьми же свой мрамор и резец и покажи мою красоту народу Египта. Я хочу, чтобы мой образ обожали так же, как образ Астарты».
Деметриос с первого взгляда угадал те глубины чувственности, которые таило это прекрасное тело, а потому, признавшись: «Я поклоняюсь двум богиням», – смело обнял царицу. Лицо Береники не выразило ни удивления, ни гнева, однако она слегка отстранилась и спросила: «Разве ты считаешь себя Адонисом, которому дозволено касаться богини?»

– «Да», – ответил он не колеблясь. Царица взглянула испытующе, потом чуть улыбнулась и протянула задумчиво: «Пожалуй, ты прав...»
Его красота и явилась причиною того, что Деметриос сделался невыносим и даже лучшие друзья отвернулись от него; впрочем, женщины были от него без ума! Стоило ему появиться в залах дворца, как рабыни останавливались, бросали работу и начинали глазеть на него; придворные дамы умолкали, забывали сплетни и песни, и даже чужеземки не сводили с него глаз и слушали его, ибо самый звук его голоса дарил женщине наслаждение. Когда он скрывался в покоях царицы, поклонницы находили его и там, используя самые невинные и самые изощренные предлоги. Бродил ли он по улицам – складки его туники были заполнены крошечными свитками папируса, где женщины писали свои имена рядом с самыми нежными словами в его адрес, однако, придя домой, он выбрасывал все разом, даже не читая, устав от поклонения и любви.
Когда творение его рук было установлено в храме Афродиты, обитель день и ночь атаковывали его поклонницы, которые возлагали к подножию статуи розы и голубей и более поклонялись тому живому богу, чье имя было высечено на мраморе, нежели мертвому изображению богини.
Вскоре весь его дом был заполнен большими и маленькими подарками, которые он из легкомыслия сперва принимал, но потом перестал, когда догадался, что в нем видят некое мужское воплощение проститутки. Даже его рабыни предлагали ему себя! Он велел выпороть их и продать на рынке Ракотиса. Тогда рабы-мужчины, соблазненные щедрыми посулами и дарами неугомонных поклонниц Деметриоса, потихоньку начали впускать их, и он частенько, вернувшись домой, обнаруживал в опочивальне незнакомок, позы которых не оставляли никакого сомнения в их намерениях. Самые незначительные предметы его туалета и стола исчезали один за другим; а горожанки вдруг начинали хвалиться то его сандалией, то поясом, то кубком, из которого он пил, а то даже зернышками фруктов, которые он ел. Если Деметриос имел неосторожность выронить в людном месте цветок, он тут же исчезал. Женщины готовы были собирать пыль с его сандалий!
Это преследование убивало в нем всякую чувственность. Кроме того, он вступил в ту пору, когда мужчина, который по складу натуры скорее мыслитель, нежели воин, понимает необходимость провести некий водораздел между жизнью ума и жизнью сердца. Статуя Афродиты-Астарты стала как бы толчком для этого морального разграничения. Все прекрасное, что было в гибких линиях тела царицы, Деметриос воплотил в своей статуе, и ему даже стало казаться, что красота Береники иссякла, словно ее высосала мраморная богиня. И он был уверен, что не существует в мире женщины с таким совершенством тела, которое было отныне воплощено в памяти, что его идеал исчерпал себя, а значит, не о чем беспокоиться и тратить силы и внимание на женщин. Статуя – вот что отныне сделалось предметом его восхищения и его желания. Он обожал ее – и отделил от плотской красоты идею красоты духовной, сделав ее божественность еще более нематериальной, чем даже если бы она была провозглашена самыми отстраненными от мира теологами.
Итак, царица лишилась в его глазах всего того, что когда-то составляло ее очарование. Ее сходство со статуей в течение некоторого времени еще помогало ему забываться, однако этот самообман вскоре иссяк. Когда она засыпала, истомленная его ласками, он смотрел на нее возмущенно, как на самозванку, которая вторглась к нему на ложе, загримировавшись под его любимую. Однако он видел, с наслаждением находил разницу! Руки царицы были более тонкими, груди более острыми, а бедра более узкими, чем у той, настоящей. Внизу живота Береники не было тех трех складочек, которые были у мраморной богини...
В конце концов Деметриос стал равнодушным к царице.
Его поклонницы непостижимым образом прознали об этом, и хотя он продолжал ежедневно являться во дворец, всем было известно, что он уже не любит Беренику. Из-за этого женская суета вокруг него лишь усилилась, но он не обращал внимания. Ему нужно было совсем другое... какие-то перемены.
Нередко у мужчин бывает такое настроение, что его может удовлетворить самый низменный дебош. Когда ему особенно не хотелось появляться во дворце, он шел ночью к Храму, где всегда вился рой куртизанок.
Уж эти-то женщины не ведали, кто он, да и познали мимолетную, случайную любовь в таких количествах, что исполняли свое ремесло старательно и спокойно, не портя Деметриосу наслаждение страстью, исступлением, которые частенько сопровождаются пронзительными воплями взбесившейся кошки. Именно это больше всего раздражало его в царице.
Беседы его с этими равнодушными, пресыщенными красавицами не отличались изысканностью. Обычно они лениво переговаривались о дневных посетителях, о Храме, о мягкой траве. Их не интересовали его теории искусства, и они не высказывали своего мнения об Ахиллесе из Скопаза.
Разомкнув объятия этих случайных встречных, он стремился в Храм – и предавался экстазу у ног статуи.
Среди воздушных колонн, таявших в полумраке, богиня казалась живой на своем постаменте розового мрамора, с ног до головы украшенная драгоценностями. Даже тело ее было такого же цвета, как у живой женщины; в одной руке она держала зеркальце, другой как бы поправляла ожерелье из семи нитей жемчуга. Самая большая жемчужина, серебристая, слегка вытянутая, располагалась во впадинке меж грудей, словно луна меж двух круглых облаков.
Деметриос с нежностью любовался ею, и ему, как любому простолюдину, хотелось думать, что это были святые жемчужины, родившиеся из капелек воды, попавших в раковинку ушка прекрасной Анадиомены.
«О божественная сестра, о лучезарный цветок! Ты больше не та азиатка, которая служила мне недостойной тебя моделью, ты – бессмертная Идея, великая Душа Астарты, положившей начало своему роду красивейших женщин. Твоя душа сверкает в очах, пылает в темных губах, трепещет в груди дочерей твоего рода, от простой рыбачки до царицы. Но я слил воедино эти крупицы твоего облика, великолепная Цитера! Я вернул тебя на землю! Не образу твоему – тебе самой дал я это зеркальце и украсил жемчужинами, и ты родилась вновь – как в тот день, когда восстала из улыбающихся вод, под рыдающим от восторга небом, и до самых берегов Кипра неслись приветственные зовы голубых Тритонов!»
От Афродиты он и возвращался, когда оказался на дамбе столь поздно и услышал пронзительную мелодию флейт. В этот вечер ему не хотелось идти к куртизанкам, потому что ласки некоей парочки, увиденной им под кустами, возмутили его до глубины души и вызвали отвращение.
Однако мягкая ночь постепенно забирала его в свои чарующие сети. Он повернулся лицом к ветру, казалось, приносившему из-за моря в Египет аромат роз Аматонта.
В его воображении реяли великолепные очертания женского тела... Его попросили изваять для храмового сада скульптурную группу из трех обнявшихся граций; но его молодое воображение отказывалось следовать канонам, и он хотел запечатлеть в мраморе трех прелестных женщин. Две из них будут одеты: одна с полуприкрытыми веками и веером в руке; другая танцует, приподняв складки платья. Третья Харита, по его замыслу обнаженная, стоя позади сестер, должна красивыми руками придерживать на затылке копну волос.
В его голове роилось множество идей: как укрепить на скалах Фара изваянную из черного мрамора Андромеду, а рядом – морское чудовище; как на пляже перед Брушиеном воздвигнуть четырех мраморных лошадей, похожих на разъяренных Пегасов и будто бы везущих восходящее солнце... Ах, как пленяла его красота! Как легко он увлекался! Как легко он достигал своей цели – отделять дух от плоти! И, в конце концов, каким свободным он ощущал себя!
Он повернулся к набережной и различил вдали желтую накидку какой-то женщины.



![Книга Инспектор Вест [Инспектор Вест в затруднении. Триумф инспектора Веста. Трепещи, Лондон. Инспектор Вест и Принц] автора Джон Кризи](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-inspektor-vest-inspektor-vest-v-zatrudnenii.-triumf-inspektora-vesta.-trepeschi-london.-inspektor-vest-i-princ-259215.jpg)