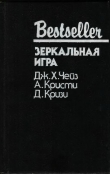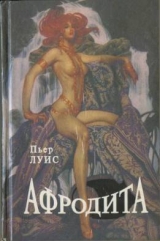
Текст книги "Афродита"
Автор книги: Пьер Феликс Луис
Жанр:
Эротика и секс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Пирушка

При этих словах вошел невысокий, седовласый и седобородый человек с ясными серыми глазами и заявил с улыбкой:
– Я здесь.
Фразилас был, скорее всего, писателем, а впрочем, его можно было с тем же успехом назвать философом, преподавателем грамматики, историком или мифологом, ибо он отдал дань каждой из наук – с равным робким интересом и переменчивым любопытством. Написать научный трактат он не решался, создать драму не находил в себе сил, однако тщеславия и умения подать себя у него было в достатке. Мыслители считали его поэтом, поэты – мудрецом, а все общество – великим человеком.
– Ну, приступим к пиру! – воззвала Бакис и поднялась на ложе вместе со своим любовником. Справа расположились Филодем, Фразилас и Фастина, слева – Норкатес, Сезо, а затем Кризи и Тимон. Каждый из приглашенных возлежал, облокотившись о шелковую подушку, увенчанный цветами. Рабыни внесли букеты алых роз и голубых лотосов, и ужин начался.
Тимон сразу понял, что его шуточка с Демо не очень-то понравилась женщинам. И, желая привлечь их благосклонное внимание, он с самым серьезным видом обратился к Филодему:
– Утверждают, что ты друг Цицерона. Кто он такой, Филодем? Это и правда великий философ – или просто напыщенный болтун, лишенный здравого смысла и всякого вкуса? Есть разные мнения, насколько мне известно.
– Вот как раз потому, что я его друг, я ничего не могу ответить, – сказал Филодем. – Я его настолько хорошо знаю, что не знаю совсем. Спроси лучше Фразиласа, который, мало его читая, судит беспристрастно и безошибочно.
– Благодарю. Итак, что же думает о нем Фразилас?
– Это замечательный поэт! – произнес тот.
– Что ты под этим понимаешь? – не унимался Тимон.
– То, что любой писатель, Тимон, по-своему замечателен, как замечателен любой пейзаж... любая душа живая. Я не смог бы предпочесть даже самой бесплодной равнине зрелище великолепного моря. Я не смог бы отдать первенство ни одному из трех моих любимых сочинений: трактату Цицерона, оде Пиндара и письму Кризи, даже если бы наша прелестная подруга когда-нибудь удостоила меня своим вниманием. Я счастлив, когда, окончив чтение, уношу с собою воспоминания хотя бы об одной строке, заставившей задуматься или тронувшей мое сердце. До сих пор во всем, что я читал, я встречал такие строки. Но нигде не находил их продолжения... Быть может, каждому из нас дано сказать в жизни что-то свое, особенное, но те, кому это удается чаще, говорят слишком много и становятся назойливыми честолюбцами. Больше всего мне жаль, что невосполнимо молчание тех, кого уже нет с нами...
– Я не согласен, – возразил Нократес, не поднимая глаз. – Вселенная была создана, чтобы прозвучали лишь три истины, и, к нашему великому сожалению, это произошло еще пять веков назад. Гераклит постиг мир, Парменид – душу, Пифагор изменил божественное пространство. Нам же досталось в удел лишь молчание. Мне кажется, горошек превосходен!

Сезо слегка постучала по столу ручкой веера.
– Тимон, друг мой...
– Да?
– Почему ты завел разговор о том, что вовсе не интересно ни мне, латыни не знающей, ни тебе, желающему о ней забыть? Уж не вознамерился ли ты вскружить голову Фастине своим умом? Но меня, друг мой, не поймаешь в ловушку благозвучных речей! Я-то помню, что вчера в своей спальне раздела твою душу и теперь знаю, чем она отягощена.
– В самом деле? – с некоторым смущением спросил юноша, но тут с мягкой иронией вмешался Фразилас:
– Сезо, всякий раз, отзываясь о Тимоне либо с похвалою, коей он вполне достоин, либо с порицанием, помни, что его душа – невидимка, это нечто особенное! Она живет сама по себе, но она – зеркало для тех, кто сможет на нее взглянуть. Она меняет свой облик в зависимости от того, где находится тело ее властелина. Той ночью, когда Тимон был у тебя, его душа была открыта тебе – и напоминала тебя. Неудивительно, что она тебе понравилась! Сейчас же она больше напоминает Филодема, вот ты и волнуешься и не узнаешь ее. Но душа никогда не может сама себе противоречить, ибо она – нечто эфемерное, она ничто не утверждает, а лишь со всем соглашается.
Тимон бросил на Фразиласа насмешливый взгляд, но промолчал.
– Как бы то ни было, мне надоела ваша болтовня. Нас здесь четыре куртизанки, и с этой минуты мы берем нить беседы в свои руки, дабы не уподобиться бессловесным младенцам, открывающим рот лишь для того, чтобы пососать грудь кормилицы, глотнуть молочка – то есть напиться вашими премудрыми суждениями. Фастина! Ты новенькая в нашей компании, тебе и начинать.
– Прекрасно, – ласково согласился Нократес. – Итак, Фастина, выбирай, о чем ты желаешь побеседовать с нами?
Молодая римлянка потупилась и, мило краснея и жеманясь, промолвила:
– О любви.
– Весьма оригинально! – проговорила Сезо, едва сдерживая смех.
Остальные молчали.
Стол был завален венками и букетами, заставлен кубками и кувшинами. Рабы внесли в плетеных корзинах хлебы, легкие, как пух. На керамических блюдах лежали жирные угри, посыпанные пряностями, и другие столь же соблазнительные яства.
Подали пурпурную дораду, которая, как утверждали, возникла из той же самой пены, что и Афродита, так что это кушанье как нельзя больше подходило для пира куртизанок; затем барабульку, обложенную со всех сторон кальмарами, которые, как известно, увеличивают мужскую доблесть; разноцветных морских ежей, чья икра обладает тем же пленительным свойством. Лежала на блюдах и другая рыба, например, нежные кусочки осьминога и даже брюшко белого ската, округлое, как животик молоденькой красотки.
Это была первая перемена блюд. Гости лакомились самыми лучшими и аппетитными кусочками, оставляя то, что похуже, рабам.
– Итак, любовь, – наконец начал Фразилас. – По-моему, любовь, это слово, которое ничего не означает – и в то же время означает все, ибо в нем заключено два несовместимых понятия: Страсть и Наслаждение. Впрочем, не знаю, как понимает Любовь Фастина.
– Мне нравится, – перебила Кризи, – испытывать наслаждение самой, видя при этом страсть в глазах моих любовников. Давай говорить и о том, и о другом, иначе мне станет скучно.
– Любовь, – пробормотал Филодем, – это ни наслаждение и ни страсть. Это иное...
– Довольно! – взмолился Тимон. – Давайте хоть сегодня обойдемся без философствований. Мы не сомневаемся, Фразилас, что ты своим мягким, но настойчивым красноречием способен убедить нас, что Наслаждение выше Страсти. Мы не сомневаемся также, что, убеждая нас в этом хотя бы в течение суток, ты потом с такою же силой и красноречием сумеешь убедить нас совершенно в обратном. Я не...
– Но позволь... – начал Фразилас.

– Я не отрицаю, – продолжал Тимон, словно не слыша, – ума и обаяния, которое ты вкладываешь в эту игру. Впрочем, это все не требует особых усилий. А потому – банально. Согласись, что твой трактат «Банкет», посвященный куда менее серьезной проблеме, чем любовь, а также те сентенции, которые ты недавно вложил в уста некоего мифического персонажа, могли показаться новыми во времена Птолемеи Аулетской, но мы-то вот уже три года живем при царице Беренике! Я не знаю, почему твой метод убеждения вдруг постарел лет на сто, словно мода красить волосы в желтый цвет, однако, увы, это так. Мне жаль, ибо если даже твоим речам и не хватает живого огня, а тебе самому – знания женского сердца, то все же образ мыслей твоих настолько комичен, что я благодарен за то, что ты столь часто заставляешь меня улыбаться.
– Тимон!.. – негодующе воскликнула Бакис.
Фразилас жестом остановил ее.
– Не тревожься, дорогая. В отличие от других мужчин я не слышу ничего, кроме лести и похвал. Тимон высказал мне свою хвалу, другие отдадут должное иным граням моего таланта. Невозможно одинаково нравиться всем, и то многообразие чувств, которое я вызываю у разных людей, напоминает мне великолепный сад, в разных уголках которого я срываю прекрасные розы, не обращая внимания на крапиву.
Кризи сделала гримасу, ясно показывающую, что этого человека она не принимала всерьез, хотя он и был необычайно ловок в прекращении всяческих споров. Она повернулась к Тимону, который возлежал подле нее, и слегка обняла его.
– В чем смысл жизни? – спросила она, улыбаясь так, что Тимону показалось, будто он слышит признание в любви, а не философский вопрос, которым Кризи надеялась повернуть течение наскучившего разговора в другое русло.
Однако ответ прозвучал весьма сдержанно:
– Каждому свое, Кризи. Нет смысла жизни, общего для всех существ. Я, например, сын ростовщика, у которого одалживались самые знаменитые куртизанки Египта. Он всеми дозволенными и недозволенными способами собрал значительное состояние; я же, как могу, возвращаю деньги его жертвам, платя куртизанкам за любовь столь часто, насколько мне позволяет данная богами сила. Я давно понял, что обладаю единственным талантом, единственным даром – этой самой силою фаллоса. Это смысл моей жизни, и едва ли найдется другой, столь же миролюбиво соединяющий требования добродетели – возвращение награбленных денег – и в то же время противоречащего этой добродетели наслаждения.
Говоря это, Тимон незаметно попытался просунуть свою правую руку между ног Кризи, лежавшей на боку, как будто хотел именно здесь найти смысл своей жизни на сегодняшний вечер. Но Кризи так же незаметно оттолкнула его.
Несколько секунд царила тишина, затем заговорила Сезо.
– Ты невежа, Тимон, потому что в самом начале прервал единственную тему, которая нас интересует. Помолчи, наконец. Дай высказаться Нократесу.
– Что могу я сказать о любви? – проговорил задумчиво приглашенный. – Этим именем я называю боль – и утешение в страданиях. Есть лишь два способа стать несчастным: либо желать того, чего у тебя нет и быть не может, либо наконец обладать тем, чего желал ранее. Любовь сплошное несчастье, ибо она начинается с первого и кончается вторым. Да хранят нас от любви могущественные боги!
– Но если завладеть чем-то неожиданно, заполучить свое хитростью, – с улыбкой возразил Филодем, – не есть ли это истинное наслаждение?
– Такое бывает редко.
– Не так уж и редко, если вовремя о себе позаботиться. Послушай мою философию, Нократес: не желать, но делать все, чтобы предоставился случай желать; не любить, но внушать сразу нескольким женщинам, что если повезет, они могут быть любимы; никогда не искать в женщине тех качеств, которых в ней нет и быть не может – не это ли лучшие советы, которые следует дать тем, кто мечтает быть счастливым любовником? Ведь счастлив лишь тот, для кого жизнь – цепь неожиданных наслаждений!
Подходила к концу вторая перемена блюд. Уже подали фазана с пряностями; лебедя, которого жарили прямо в перьях на медленном огне сорок восемь часов. Здесь же, на огромном блюде, возвышался белый павлин, казалось, только что высидевший восемнадцать жареных фазанят. Даже после того, как гости выбрали самые лакомые кусочки, еще оставалось на добрую сотню голодных. И все же это не шло ни в какое сравнение с последней переменой.
Этот апофеоз кулинарного искусства (в Александрии давно не видывали ничего подобного!) представлял собою молоденького поросенка, одна половинка которого была обжаренной, а другая – тушенной в особом бульоне. Было невозможно понять, как его удалось приготовить, а главное – каким образом его брюхо заполнили множеством яств. Он был нашпигован перепелами, цыплячьими желудочками, жаворонками, изысканными приправами, рубленым мясом, и это изобилие в поросенке, казавшемся не тронутым ножом, вызывало восторг и изумление. Гости издавали восхищенные восклицания, а Фастина даже попросила дать ей рецепт приготовления необычайного блюда. Фразилас с улыбкой произнес несколько изысканных метафор, Филодем сочинил игривое двустишие, что вызвало приступ хохота у уже изрядно опьяневшей Сезо; но в это время Бакис велела рабам подать каждому гостю семь кубков с семью различными винами, и беседа почти угасла.

Тимон повернулся к Бакис:
– Почему ты была столь сурова к бедной девушке, которую я привел с собою? Ведь у нее та же профессия, что и у тебя. На твоем месте я скорее уважал бы нищую куртизанку, чем знатную матрону.
– Да ты просто сумасшедший! – отмахнулась Бакис, но Тимон не отставал:
– Да, я часто замечал, что сумасшедшими называют именно тех, кто изрекает истину. Миром правят парадоксы!
– Друг мой, да спроси любого: какой знатный человек заглядится на девушку, у которой нет ни одного украшения?
– Да хотя бы я, – спокойно ответил Филодем.
Женщины воззрились на него с дружным презрением.
– В прошлом году, на исходе весны, когда изгнание Цицерона заставило меня тревожиться о собственной безопасности, я пустился в небольшое путешествие. Я уехал к подножию Альп, в местечко Оробия, на берегу озера Клизиус. В этом местечке было не более трехсот женщин, и одна из них стала куртизанкой, чтобы сберечь добродетель остальных. Дом ее можно было узнать лишь по букету цветов, прикрепленному к дверям, но сама она ничем не выделялась среди других женщин. Она и не подозревала о существовании румян, духов, прозрачных накидок и щипцов для завивки. Не умела толком ухаживать за своей красотою и удаляла волосы с помощью липкой смолы, как если бы выпалывала сорняки на мраморном дворике. Брезгливость охватывала при мысли о том, что она круглый год ходила босиком, и я не мог отважиться целовать ее ноги, хотя очень люблю целовать ножки Фастины, кожа на которых нежнее, чем на руках у той женщины из Оробии. Однако было в ней такое очарование, она так влекла к себе, что, держа ее в объятиях, я забывал о красавицах Рима, Тира и Александрии, вместе взятых.

Нократес понимающее кивнул и, глотнув из кубка, сказал:
– Величайшим наслаждением в любви я назову миг, когда впервые открывается нагота женщины. Куртизанкам следовало бы знать это и использовать для очарования мужчин. Ведь частенько они делают все возможное, чтобы нас разочаровать. Что может быть неприятнее, чем волосы, спаленные горячими щипцами? Чем накрашенные щеки, румяна с которых липнут к губам любовника? Чем накрашенные ресницы, с которых осыпается угольная пыль? Я бы еще понял приличных женщин: они хотят окружить себя толпою поклонников, но не вправе открыть своего главного очарования. Но куртизанки, у которых вся жизнь проходит в постели, могут себе позволить украсить ее совсем другой красотой, чем та, которую они демонстрируют на улице!

– Ты в этом ничего не смыслишь, Нократес, – с улыбкою вмешалась Кризи. – Ведь прежде чем понравиться в постели, я должна понравиться на улице! Прежде чем удержать любовника, я должна его соблазнить! Никто не обратит на нас внимания, если мы не накрасим глаза и губы. Маленькой крестьянке, о которой рассказывал Филодем, в том не было необходимости: в своем городишке она была одна; но ведь в Александрии пятнадцать тысяч куртизанок, которые беспрестанно соперничают между собою.
– Разве тебе не известно, что истинная красота не нуждается в украшательстве?
– Хорошо, тогда попробуй, наряди красавицу в дурную, старую тунику, а уродливую Гнатену – в роскошную накидку, и посмотри, какую за них дадут цену. Ручаюсь, что Гнатена принесет тебе целых две мины, а красотка – не более двух оболов.
– Мужчины – глупцы, – заключила Сезо.
– Нет, они просто лентяи. Им даже лень выбирать красивейшую!
– С одною стороной я соглашаюсь, – сказал Фразилас, повернувшись к Сезо и целуя ее, – но и с другою не могу не согласиться! – И он отдал должное мудрости Кризи, наградив ее столь же нежным поцелуем.
Здесь, одна за другой, появились двенадцать танцовщиц. Впереди шли две флейтистки, а заключала процессию музыкантша, игравшая на тамбурине.

Танцовщицы поправили повязки, намазали сандалии белой смолою и, воздев руки, ждали начала музыки.
Нота, другая, аккорд – и двенадцать танцовщиц легко и слаженно задвигались перед гостями. Каждое их движение было исполнено неги и ленивой чувственности. Им было немного тесновато, и порою они сталкивались, словно волны, которые ударяются одна о другую в небольшой бухточке. Но вот они разбились на пары и, не прекращая танца, расстегнули пояса и вдруг сбросили накидки. Запах нагих женских тел заполнил залу, заглушая даже аромат цветов и вин. Их фигуры клонились то вправо, то влево, красотки поводили бедрами, поигрывали животами и закрывали руками глаза. Они резко сгибались и разгибались, едва не переламываясь в талии, их тела сливались, груди упирались в груди, тесно смыкались животы...
Чье-то горячее бедро коснулось руки Тимона.
– Что об этом думает наш друг? – спросил Фразилас своим тонким насмешливым голосом.
– Я счастлив! – отвечал Тимон. – Наконец-то сегодня я понял предназначение женщины.
– Только сегодня?! Ну и что же понял?
– Женщина создана, чтобы быть проституткой. С большим или меньшим искусством, это неважно.
– Ничего себе!
– Если ты не согласен, Фразилас, то докажи, что я неправ. А ведь ты знаешь, что ничего нельзя доказать, ибо не существует абсолютных истин. В философии оригинальность еще более призрачна, чем банальность.
– Подай мне лесбосского вина, – со вздохом попросила Сезо рабыню. – Оно покрепче.
– Мне кажется, – вновь заговорил Тимон, которого трудно было смутить даже таким откровенным невниманием, которое сегодня демонстрировала Сезо, – что замужняя женщина, которая посвящает всю себя человеку, откровенно обманывающему ее, но отказывает в любви другим; которая дает жизнь детям, уродующим ее тело, еще до своего рождения, и порабощающим после этого, – мне кажется, такая женщина лишает свою жизнь всякого смысла, и брак для женщины – всегда проигрышная сделка.

– Она считает, что повинуется долгу, – произнес Нократес, но видно было, что он сам не верит тому, что говорит.
– Долгу? Но по отношению к кому? И разве у нее нет долга по отношению к себе самой? Она женщина, а значит, удовольствия интеллектуальные ей чужды, однако не чужды удовольствия физические. Половины их она лишается, выйдя замуж. Может ли молодая девушка, красивая, здоровая, полная жизни, сказать себе: «Я познаю сначала мужа, потом еще десять-двенадцать любовников», – и умереть, ни о чем не жалея, не печалясь от того, что так и не узнала еще многого и многого о жизни? Что до меня, то даже воспоминание о трех тысячах любовниц будет для меня мизерным, когда придет мой час покинуть этот мир!
– Ты слишком честолюбив, – усмехнулась Кризи.
– Мы все должны вечно призывать благословение богов на милые головки наших прелестных куртизанок! – воскликнул Филодем. – Благодаря вам мы избегаем стольких неприятностей: предосторожностей, сцен ревности, измен... Вы избавляете нас от ожидания под дождем, от веревочных лестниц и потайных дверей, От прерванных в самую важную минуту свиданий, от перехваченных писем и неправильно понятых жестов. Милые вы мои, как я вас всех люблю! За несколько монет вы щедро одариваете нас тем, что другая неумело дает после трехнедельных унижений. Любовь для вас – не жертва, а предмет равноценного обмена между двумя любовниками, и те деньги, что мы вам платим, не могут окупить ваших ласк, ибо блаженство не имеет цены. Вас множество – и мы можем найти среди вас и мечту всей жизни, и минутный каприз, волосы и глаза всех оттенков, губы любого вкуса. Во Вселенной не сыскать любви более чистой и в то же время порочной, чем та, которую вы продаете. Вы нежны, приветливы, любезны – и красивы, красивы! Вот почему я говорю, Кризи, Бакис, Сезо, Фастина, что боги щедро наградили вас, даровав вам талант вызывать в любовниках неутолимое желание, а в добродетельных женах – неутолимую зависть!
Танцы уже закончились. В зале появилась юная акробатка, которая жонглировала зажженными факелами и ходила на руках меж кинжалов, торчащих остриями вверх.
Внимание всех гостей было приковано к ней, и Тимон незаметно придвинулся к Кризи так, что мог касаться ее ног своими ногами, а обнаженного плеча – губами.
– Нет, – тихо вымолвила Кризи, – нет, друг мой.
Но его рука уже скользнула под ее одежды и нежно ласкала пылающую кожу.
– Подожди! – чуть слышно умоляла она. – Нас заметят, и Бакис рассердится.
Юноша окинул зал взглядом и убедился, что никто не обращал на них внимания. Он до того осмелел, что перешел к самым откровенным ласкам, по опыту зная, что уж коли женщина позволит их, то дальше сопротивляться она не сможет. Затем, чтобы окончательно уничтожить последние угрызения уже умирающей стыдливости, он украдкой сунул в руку Кризи кошелек.
Кризи слегка вздохнула и больше не мешала рукам Тимона блуждать по ее телу.
Акробатка тем временем продолжала свои номера. Короткий хитон опустился, обнажив ее бедра и даже живот. Кровь прилила к лицу, глаза лихорадочно блестели, высоко поднятые ноги сгибались и раздвигались, словно руки танцовщицы. Гости учащенно дышали, не сводя глаз с этих белых нагих ног.
– Хватит, – сказала вдруг Кризи решительно. – Ты меня только попусту растревожил! Оставь меня, оставь!
И в то мгновение, когда флейтистки начали традиционную «Песнь о Гермафродите», она соскользнула с ложа и стремительно вышла.



![Книга Инспектор Вест [Инспектор Вест в затруднении. Триумф инспектора Веста. Трепещи, Лондон. Инспектор Вест и Принц] автора Джон Кризи](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-inspektor-vest-inspektor-vest-v-zatrudnenii.-triumf-inspektora-vesta.-trepeschi-london.-inspektor-vest-i-princ-259215.jpg)