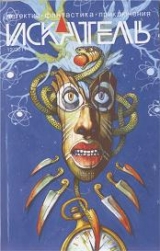
Текст книги "Искатель. 2011. Выпуск № 12"
Автор книги: Павел (Песах) Амнуэль
Соавторы: Геннадий Александровский
Жанры:
Детективная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Беркович молчал, смотрел в окно. Да, проверенный метод, обычный метод, плохой метод.
– А можно сначала, – продолжал рассуждать комиссар, – вызвать ее на допрос в местное отделение полиции, чтобы она далеко не ехала. Посиди там с ней – официальная обстановка на женщин этого типа обычно действует отрезвляюще.
– Какого типа? – не удержался от вопроса Беркович.
Хутиэли внимательно посмотрел на бывшего подчиненного.
– Если я правильно тебя понял, – сказал он задумчиво, – Рина женщина скорее эмоциональная, чем рассудочная. Убить с заранее обдуманным намерением не смогла бы – слишком сложная конструкция. Значит, возможен сообщник. Мужчина.
– Никто из посторонних в дом утром не входил и не выходил, – вяло возразил Беркович.
– Следовательно, – с энтузиазмом принял возражение Хутиэли, – это кто-то из живущих в доме. Возможно, у Рины связь с кем-то из соседей. Обычное дело. Сколько там квартир в блоке?
– Десять, включая квартиру Альтерманов. Мужчин, с кем хотя бы теоретически у Рины могла быть связь, двое – Реувен Мильштейн с первого этажа и Гай Финкель с четвертого.
– Вот видишь! Минимум двое, которых надо проверить!
Беркович покачал головой.
– Реувен – молодой парень двадцати двух лет. Зачем ему Рина? У него есть девушка, они собираются пожениться. Кстати, он дал показания, что никто из чужих в дом не входил и не выходил. На кладбище Рина с Леей ездили на его машине. Если Мильштейн сообщник, его показания нелогичны. А второй – Финкель – с Риной в очень плохих отношениях. Их квартира над квартирой Альтерманов, трубы в доме плохие, это старый дом постройки сороковых еще годов, трубы давно менять надо. Финкели постоянно заливают Альтерманов, Рина скандалит с Гаем, тот обещает трубы починить, но только латает дыры, а они появляются опять.
– Рина скандалит с Гаем, – многозначительно заметил Хутиэли. – Неплохое прикрытие нежных отношений, тебе не кажется? Кстати, почему скандалит Рина, а не Натан?
– У Рины это лучше получается, – хмыкнул Беркович. – Натан был человеком тихим, голос не повышал, даже когда его выводили из себя. Так все соседи говорят, и Рина тоже, и Мария.
– Мария?
– Подруга. Сейчас она у них, Рине с дочерью трудно быть одним.
– Все-таки ты защищаешь вдову, – сказал Хутиэли. – Единственная подозреваемая, и ты, я вижу, не веришь в ее виновность.
– Не верю, – пробормотал Беркович, стараясь придать не столько голосу, сколько собственным мыслям, больше уверенности, которой не испытывал.
– Вернемся к Финкелю, – деловито произнес Хутиэли. – Женат?
– Конечно. И вряд ли он что бы то ни было себе позволял. Его жена сопернице глаза выцарапала бы, если бы у Гая с Риной что-то было.
– Могла и убить?
– Не Натана же! Рину убила бы, возможно. Мужа – скорее всего. Но все это чепуха, – прервал самого себя Беркович. – Ничего у Финкеля с Риной не было, а в то утро он рано уехал на работу, часов в семь, он работает в автомастерской на улице Каплан.
– Надо проверить.
– Проверил, конечно. Он приехал на работу в половине восьмого и до двух часов возился с «Хондой», которая за день до этого попала в аварию.
– Куда ни кинь… – пробормотал Хутиэли, исчерпав возможности, которые он считал верными в выборе реальных версий убийства. Он был убежден, что убийства всегда просты, как бутерброды, которые он ел на завтрак и считал, что более простой и полезной пищи человечество не придумало. Опыт работы в полиции это убеждение подпитывал – за много лет Хутиэли не приходилось сталкиваться с убийцами, способными разработать и осуществить тщательно продуманный план, такой, чтобы следователь не разгадал если не сразу, то на второй день. Самый распространенный в Израиле тип убийств – преступления на почве семейных разборок: муж застал жену с любовником, муж жену бьет, она ему в отместку проламывает череп чем-нибудь, что попадется под руку. Или, наоборот, что случается не так уж редко: жена лупит мужа, если ей что-то не нравится, и муж, доведенный до отчаянья, хватается за кухонный нож. Запертая комната? Такие изысканные преступления происходят только на страницах детективных романов, которые комиссар читал в юности, но перестал, когда сам начал заниматься расследованием преступлений. Книжные убийства не имели ничего общего с реальными, чтение только отвлекало и уводило мысли в ненужную сторону.
Что-то Беркович, видимо, не разглядел в квартире. Хутиэли был уверен, что младший коллега совершил непростительную ошибку в расследовании – скорее всего, при осмотре места преступления.
– Кукла с ножами вместо конечностей, – задумчиво говорил в это время Беркович, отвлекая комиссара от размышлений, – самое странное, что я видел в жизни. В этом убийстве две очень странные вещи: запертая комната и каменная уродина. Отдаленно похожа на куклу. Почему камень заточен? Как это сделано? Кстати, Рон уверяет, что затачивали или лазерным способом, или алмазом. Как кукла попала к Альтерману? Когда он ее принес домой, что собирался с ней делать? Рина ничего не смогла сказать по этому поводу, она впервые увидела куклу, когда я ей показал – в этом у меня, вообще-то, нет сомнений. И дочь, и Мария, подруга, тоже эту штуку прежде не видели. Правда…
– Да? – переспросил Хутиэли, потому что Беркович замолчал на полуслове и начал непроизвольно раскачиваться на стуле, что делал всякий раз, когда сосредоточенно о чем-то думал и не контролировал свои действия. В такие минуты старший инспектор позволял своему телу делать то, что подсказывали глубинные инстинкты, и тело само решало, как ему проводить время в ожидании, пока хозяин вернется из мира, где не существовало ничего материального, а духовные предметы, явления и события складывались в длинные цепи рассуждений, рассыпались на элементы, которые Беркович про себя называл «молекулами мысли», соединялись, кристаллизовывались, распадались… Тело его в это время могло раскачиваться на стуле, могло бродить по комнате из угла в угол, могло затаиться в углу дивана, а как-то Наташа обнаружила мужа на лестничной площадке – он сидел на верхней ступеньке лестницы, прислонившись к перилам, и невидящим взглядом смотрел на брошенный кем-то окурок.
– Да? – повторил Хутиэли громче – он был знаком с привычками своего бывшего подчиненного.
– Они обе, так мне показалось, не то чтобы все-таки узнали куклу, – заговорил Беркович, продолжая фразу с того места, на котором остановился, – но какие-то ассоциации у каждой этот камень вызвал.
– Так спросил бы! – раздраженно отозвался Хутиэли.
– Бессмысленно, – покачал головой Беркович. – Они все равно или не вспомнили бы, или не ответили. Спрошу, когда случай представится. Когда пойму, что они… или кто-то один… готовы ответить.
– Эта твоя психология! – воздел очи горе комиссар. – Ты упускаешь время и разводишь церемонии там, где надо действовать жестко.
Беркович промолчал.
– Обыск в квартире проводили? – спросил Хутиэли. – В протоколе я этого не вижу.
– Нет, – сказал Беркович. – Осмотр был, как обычно. Для обыска нужен ордер, и нужно точно знать, что искать.
– Любой подозрительный предмет!
– Подозрительным может показаться что угодно, – возразил Беркович. – Тряпка на кухне, лежащая на столе, где ей вроде бы не место. Это подозрительный предмет? В него Натан мог завернуть камень, найдя его, например, на улице. Ну и что? В спальне на прикроватной тумбочке газета «Едиот ахронот», спортивное приложение за прошлый четверг. Подозрительно? Обычно Натан читал русские газеты, почему принес ивритскую? И где остальные части номера?
– Вот-вот! – с удовлетворением сказал Хутиэли. – Масса подозрительного в квартире, а ты говоришь…
– Все это я помню, – поморщился Беркович, – и все это не имеет к убийству никакого отношения. Правда… – он опять замолчал и принялся раскачиваться на стуле. На этот раз Хутиэли терпеливо ждал, зная за старшим инспектором еще одну особенность, замеченную еще тогда, когда Беркович был неопытным стажером: он мог не обратить внимания на что-то при осмотре места преступления, не придать значения, но память у него была цепкая, запоминал он любую мелочь и потом, может, много дней спустя, собрав и обработав массу улик, он вспоминал о мелочи, которую упустил, и вкладывал этот элемент в мозаику. Потому старший инспектор и специализировался на преступлениях, которые не поддавались немедленному раскрытию, а Хутиэли занимался «семейными убийствами» и был уверен, что они составляют большинство преступлений в стране. Берковичу доставались иные случаи – может, действительно, отдаленно напоминавшие то, о чем Хутиэли читал в детективных романах и не думал, что такое может случиться в обыденной жизни.
– Правда, – продолжал Беркович, – на балкончике лежит коробка, в которой Лея, дочь Альтерманов, держит кукол, которых никак не соберется выбросить. Вы знаете, как это бывает… Куклы с оторванными конечностями, заляпанные засохшей кашей…
– Да-да, – нетерпеливо сказал Хутиэли. – Ты видел там что-то похожее на каменную уродину?
– Нет, – с сожалением констатировал Беркович. – Камней там не было точно. В общем, не знаю, – резюмировал он, отправив воспоминание не на свалку памяти, а в специальное место, предназначенное для хранения увиденного, но не понятого. Место, откуда воспоминание можно было извлечь и сравнить…
С чем?
– После похорон, – заключил Беркович, – не самое удобное время для разговоров. Завтра утром подъеду к Альтерманам. Мать и дочь наверняка будут дома – шива [7]7
Шива – основной период траура, семь дней после похорон. В это время скорбящие не выходят из дома и полностью погружаются в траур.
[Закрыть]. Скорее всего, застану Марию, а может, еще кого-нибудь, кто сможет что-то вспомнить.
– Кого-нибудь, что-то, – поморщился Хутиэли. – Борис, я тебя не узнаю. Обычно ты действуешь решительнее. Я все-таки посоветовал бы вызвать вдову в участок и жестко поговорить.
Беркович покачал головой и встал. Стул со стуком опустился на четыре ножки, как лошадь, которую всадник оставил наконец в покое.
– Если узнать, как у Альтермана оказался камень, – произнес Беркович с не свойственным для него пафосом, – мы разгадаем и загадку запертой комнаты.
– Наверно, – вяло отозвался комиссар, придвигая к себе стопку бумаг. – Если бы ты…
Не договорив фразу, Хутиэли махнул рукой и углубился в чтение.
* * *
Свернув на улицу Сиркин со стороны Арлозорова, Беркович сразу увидел машину Второго канала телевидения, припаркованную на общественной стоянке в сотне метров от дома Альтерманов. Чертыхнувшись про себя, старший инспектор проехал мимо. Машина телевизионщиков была пуста – репортеры заняли места перед входом в дом, ожидая хоть какой-нибудь информации.
Беркович свернул за угол и припарковался возле супермаркета рядом с оставленной кем-то пустой тележкой для продуктов. В квартиру Альтерманов он хотел попасть, не привлекая внимания репортеров. Другого входа в дом, однако, не было (а если бы и был, там тоже стоял бы сейчас репортер с камерой), и Беркович быстро прошел мимо поднявшихся со скамейки при его появлении девушки-тележурналиста и седого мужчины-оператора, державшего на плече камеру с таким видом, будто это была вцепившаяся в него всеми когтями пантера. Девушка что-то говорила, пыталась поднести микрофон к лицу Берковича, он и отмахиваться не стал, закрыл за собой дверь, отрезав себя от общественности и от положительного имиджа полиции, о которой в вечерних новостях непременно будет сказано, что расследование страшного убийства зашло в тупик, и полиция, как всегда, не способна сказать ничего утешительного.
Пусть говорят что угодно. Если думать еще и о репортерах, работать станет невозможно. Остановившись перед распахнутой дверью в квартиру Альтерманов, Беркович мимолетно подумал о том, что Наташа тоже посмотрит вечернюю сводку в ожидании информации об «убийстве с помощью каменной куклы», и ей будет неприятно видеть, как ее муж, прикрывая лицо, прошмыгивает (ужасное слово, но, к сожалению, правильное) мимо телевизионщиков, не сказав им (и телезрителям) ни слова и тем самым расписавшись в собственной беспомощности.
В гостиной было шестеро: кроме Рины, Леи и Марии, на диване сидели и молча смотрели в пространство уже знакомые Берковичу соседки: Веред с первого этажа, Эстер со второго и Алона с четвертого. Женщины были очень разные и по комплекции и по возрасту (Веред – миловидная, молодая, худенькая, Эстер – пожилая и толстая, как бочонок, Алона, сидевшая между ними, – неопределенного возраста и с неопределенными чертами лица, которые трудно запомнить и еще труднее опознать, если, не приведи Господь, придется это делать), но сейчас почему-то выглядели похожими, как родные сестры. Что-то в них было одинаковое, но с первого взгляда Беркович не понял, что именно, и потому смутился, а посмотрев на черное от горя лицо Рины (через час после смерти мужа она выглядела лучше), Беркович решил, что говорить сейчас с этой женщиной – жестоко и неуместно. Поздоровавшись, он собрался ретироваться и прийти в другой раз, не сегодня. Может, действительно, подождать, пока родные погибшего отсидят шиву.
Рина подняла руку и молча показала Берковичу на короткий коридорчик, в торце которого была дверь в спальню. На двери в кабинет была наклеена бумажная полоска, хотя искать там было нечего – все, что могло помочь расследованию, было изъято и изучено, а пломбу Беркович налепил исключительно для того, чтобы сохранить основное вещественное доказательство – запертые изнутри окна. Он подумал, что после разговора с Риной надо будет еще раз произвести осмотр (вдруг все-таки упустил важное?) и разрешить прибраться – хоть какая-то деятельность.
Рина подошла, глядя в пол и сцепив ладони под грудью.
– Вы хотели поговорить, – не спросила, а констатировала она.
Из гостиной в коридорчик заглянули Лея и Мария, Рина дернула плечом, и они исчезли, но Беркович знал: обе прислушиваются к каждому звуку. Молчали и соседки, было слышно, как на кухне капала вода из неплотно прикрученного крана, и каждое его слово, даже произнесенное шепотом, будет, конечно, услышано и оценено по критериям, которых он не знал.
– Если можно, – сказал он, не понижая голоса и облегчая задачу Лее с Марией. – Я понимаю, что сейчас не время…
Рина открыла дверь в спальню и пропустила Берковича вперед. Он здесь был, конечно, видел широкую кровать, застеленную цветастым покрывалом, две тумбочки по обе стороны (ничего в них интересного он не обнаружил, да и не искал толком – не имел на то ни ордера, ни морального права), шкаф, в котором, он знал, была только одежда и белье на полках. Рина присела на край кровати, взглядом пригласила и Берковича. Он сел так, чтобы видеть одновременно и Рину, и ее отражение в зеркале платяного шкафа.
– Кто это сделал? – спросила Рина. Это был единственный вопрос, имевший смысл, и это был единственный вопрос, на который Беркович не только не знал ответа, но и не представлял, как подступиться к решению.
– Не знаю, – пробормотал он, чувствуя, что не сможет сейчас задавать вопросы. Впервые за время работы в полиции у него возникло ощущение, что все, здесь произошедшее, было оценено неправильно, каждое слово имело другой, не понятый им смысл, и проблема заключалась не в запертой комнате, а в словах, запертых от его понимания, – специально или неумышленно, но в словах, смысл которых был вроде бы ясен, а на самом деле спрятан, скрыт.
– Но кто-то же… – голос Рины прервался, она поднесла ладони ко рту, пытаясь не дать воли слезам. Все эти дни она только и думала о том, кто это сделал, понял Беркович. Она не спала ночами, пытаясь представить, кто это мог быть, как он попал в квартиру и вышел незамеченным. Возможно, она проделала в голове куда большую работу, чем это сумела сделать вся полиция, и Рину не о частностях нужно спрашивать, а о том, к какому выводу она пришла, – и признать этот вывод правильным.
– Вы думали об этом, – тихо сказал он, пытаясь заглянуть Рине в глаза. – Вы все время об этом думаете.
Она справилась наконец со своим голосом, со своим волнением, поняла, что следователь ей доверяет и пришел не для того, чтобы мучить вопросами, смысла в которых не было.
– Все время… – Голос шелестел в тишине спальни, как шелестят сухие листья, влекомые по асфальту расшалившимся ветром. – Эта ужасная каменная… Кто мог ее вырезать?.. Я думала… Я не сумасшедшая, уверяю вас… Наверно, это глупо, но…
Он ждал, пока будут сказаны все вводные слова, словесный орнамент, обойтись без которого невозможно. Верные слова обычно тонут в мусоре, их трудно извлечь, иногда – невозможно.
– Я думаю, – сказала она наконец то, что вынашивала эти дни и что не сказала бы никому, в том числе дочери и подруге, а ему сейчас скажет в порыве доверия. – Я думаю, – повторила она, – что эта каменная… она сама… Никого не было дома, никого, клянусь вам. И этой… куклы… не было тоже. Потом она пришла… Ей ничего не стоило сделать то, что не смог бы человек… и она…
Слово ей не давалось, и Беркович положил ладонь Рине на колени – попросил это слово не произносить, он его и так понял.
Убила. Каменная кукла сама проникла в дом и убила Натана, – вот что хотела сказать Рина, полагая, что старший инспектор не сочтет ее сумасшедшей.
Беркович молчал. Он мог сказать «возможно, вы правы» и расписаться в собственном бессилии, в том, что он готов принять мистическое, сверхъестественное объяснение вместо того, чтобы искать объяснение реальное. Реального, а не потустороннего убийцу. Он мог сказать «нет, это невозможно, такое бывает только у Стивена Кинга и в голливудских блокбастерах» – и навсегда утратить приобретенный было душевный или хотя бы формальный контакт с этой женщиной. Сказав «такого быть не может», он нанесет ей травму – возможно, заставит вернуться на землю из искусственного сооружения, куда она себя поместила, как поступают многие, не сумевшие смириться с реальностью, строят воздушный замок и скрываются в нем за дверью из облаков. Заставив ее вернуться, он потеряет свидетеля, без показаний которого дело не сдвинется с мертвой точки.
Беркович поймал себя на мысли, что не думает о Рине, как о подозреваемой. Хотя никаких дополнительных улик по делу за эти дни не поступило, что-то изменилось в нем самом, о чем-то он все время размышлял, не отдавая себе отчета – и внутри своей конструкции переместил Рину из одной позиции в другую, более для нее подходящую. Старший инспектор понимал, что само по себе такое перемещение произойти не могло – значит, в своей подсознательной работе он учел некую деталь, на которую не хотел или не мог обратить внимание.
Молчание длилось и длилось, Рина сначала смотрела в пол, избегая взгляда сидевшего рядом мужчины, но ей стало невыносимо молчание, созданное, она это понимала, ее безрассудными (и это она понимала тоже) словами. Она повернулась к Берковичу, подняла взгляд и заставила старшего инспектора посмотреть ей в глаза. Он должен был дать ответ на ее слова – если не вслух, то любым иным способом.
– У вас на балконе, – стесненным голосом, злясь на самого себя за вынужденную слабость, произнес Беркович, – коробка со старыми куклами. Я хотел бы посмотреть еще раз…
– Конечно, – механически произнесла Рина. – Вы думаете… – голос упал до шепота, а шепот стих до неслышного вздоха.
– Я просто хотел посмотреть, – мягко произнес Беркович.
Рина встала, поправила платье, прилипшее к бедрам (Беркович отвел взгляд), и пошла из комнаты, не подав ему знака следовать за ней. Он и не последовал. Подождал, пока Рина выйдет из спальни, оставив дверь открытой, услышал, как она где-то рядом говорила шепотом то ли с дочерью, то ли с Марией, и, оставшись один, сделал то, что неожиданно подсказала интуиция, а точнее, его память. В день убийства он осматривал и эту комнату, и не только он, Хан и три его сотрудника-криминалиста обошли квартиру и отметили расположение каждого предмета мебели. Но все же… Что-то они могли упустить, или что-то могло появиться в квартире потом, после их ухода.
Например, в ящике под платяным шкафом – конечно, он и туда заглядывал, приоткрыл, увидел лежавшую вповалку обувь и закрыл, не ожидая сюрпризов. Сейчас…
Беркович наклонился – это можно было сделать, сидя на кровати, – и выдвинул ящик до упора. Обувь, да. Пара стоптанных тапочек, пара женских туфель на низком каблуке, пара мужских со сбитыми задниками. Два свернутых, подобно змеям, ремня. У дальней стенки ящика – то, что он предполагал увидеть. Предполагал? Это он сейчас так подумал. Не предполагал, конечно. Даже не думал о такой возможности. Просто что-то ему подсказало…
Три каменных уродца. Довольно большие, сантиметров по десять. Один был без головы, второй без рук, третий без ног. У тех, что с головами, не было носов и ушей, просто шары, но, странно – именно шары, ими можно было играть в бильярд.
Беркович наклонился еще ниже, разглядывая находку. Серый камень, никаких острых граней, кстати, все закругленное, даже руки-ноги были больше похожи на сардельки, чем на человеческие конечности. Убить такими куклами – Беркович сразу об этом подумал и представил – было, наверно, можно, но скорее получилось бы поставить шишку, если крепко садануть по затылку. Это действительно камень или окаменевшая глина, из которой уродцы были когда-то вылеплены?
Чьи это были куклы? Если Леи, то почему лежали в таком неудобном месте? Если их сюда положила Рина – зачем? Может, это сделал Натан – но и тогда поступок выглядел странным.
Услышав движение в коридоре, Беркович задвинул ящик.
– Я здесь, – предваряя вопрос, сообщил он, выходя из спальни. – Простите, задумался.
Объяснение было нелепым, но Рине и не нужно было объяснение. Полиция всегда бесцеремонна. Может, следователю захотелось посмотреть на себя в зеркало. Хорош. Только не стоило разглядывать себя в доме, где умер человек. Зеркало следовало бы, наверно, занавесить, но Рина не знала, и спрашивать не хотела – у евреев занавешивают ли зеркала, или это христианский обычай?
Открыв дверь на балкон, Рина прошла вперед, за ней последовала Лея, Беркович вошел последним – для Марии, оставшейся в коридоре, места не хватило.
Коробка бесприютно стояла у стены. Мать и дочь молча смотрели, как старший инспектор вытаскивал старых кукол одну за другой, осматривал их и откладывал ближе к распростертой, будто ширококрылая птица, сушилке, на которой висели давно пересохшие рубашки, майки, шорты и лифчики. В коробке не оказалось ни одной приличной вещи, с которой хотелось бы поиграть – Беркович поймал себя на мысли, что искал именно это: игрушку, пусть старую, выброшенную за ненадобностью, но с которой хотелось бы поиграть ему лично, он в детстве не то чтобы недоиграл, игрушек и у него было достаточно, но тогда он почему-то предпочитал простые деревяшки красивым металлическим машинам, из деревяшек можно было что-то смастерить самому, а машины только сломать, восстановлению они после этого не подлежали, их и в коробку складывать было бессмысленно – только выбрасывать, что мама делала не без сожаления, всякий раз пеняя сыну за то, что он опять испортил дорогую вещь, за которую отец выложил немалую сумму из своей не крезовской зарплаты. Пеняла, но все равно при очередном походе в магазин отец выкладывал сумму, истинной величины которой Боря-маленький еще не понимал, и покупал сыну красный пожарный автомобиль с многочисленными кнопочками, ручками и выдвижной лестницей.
Куклы, куклы… Тряпичные и пластиковые уродцы, одни в платьях, другие нагишом. Несколько платьев, трусиков и туфелек лежали на дне коробки. Молчаливые Барби, Кены, Джессики смотрели на него то ли укоризненно, то ли с надеждой – то ли стеснялись своего кукольного бесстыдства, то ли, наоборот, ожидали второго прихода в детскую жизнь – может, пришлый дядя опять наденет на их худые плечи эти тряпочки, и они оживут, и станут опять принцессами, Золушками, девушками на выданье?
Интересно. Ни кукольных шкафчиков, ни плите кукольной посудой, ни пуфиков… что еще полагалось иметь в спальне и на кухне порядочной девчачьей кукле?
Должно быть, вопрос этот, заданный самому себе, каким-то образом повис и в воздухе? Рина наклонилась, взяла из руки Берковича голую длинноногую безрукую Барби и сказала:
– Был еще мешок со всякой всячиной – шкафы, столики, посуда. Выбросили в прошлом месяце. Натан и выбросил.
Голос Рины дрогнул.
– Вам интересно это… – она помедлила, – девчачье царство?
Беркович смутился. Он такими же словами назвал про себя содержимое коробки, и ему стало неприятно, что думал он, оказывается, так же, как Рина, а Лея была с матерью не согласна и выражала свое несогласие тем, что отвернулась и разглядывала висевший на стене над сушилкой термометр, где жидкость, показывавшая температуру, ползла по стеклянной трубочке вдоль крепостной стены, изображавшей старый Иерусалим.
Беркович аккуратно сложил «девчачье царство» в коробку в том же порядке, в каком вынимал, поднялся с колен, отряхнул брюки от невидимой пыли или, возможно, от чего-то другого, присутствовавшего в воздухе, и сказал:
– В прошлый раз я был не очень внимателен.
Рина кивнула – ответ был не лучше любого другого. Лея сказала:
– Можно, я отнесу это вниз? Не хочу…
Голос ее замер, но Беркович понял, что имела в виду девочка.
– Пока не надо, – сказал он мягко. – Пусть…
Он тоже не закончил фразу. Лея его поняла и вышла в коридор, откуда сразу втиснулась на балкон Мария и озвучила мысль, которую Беркович не собирался произносить вслух:
– Думаете, инспектор, тот человек отыскал камень в коробке?
Как черную кошку в черной комнате, в которой отродясь не водилось черных кошек.
– Я ничего не думаю. – Беркович ограничился стандартной фразой, которую произносят полицейские, не желая отвечать на вопрос. – Просто собираю информацию.
Мария кивнула, давая понять, что стандартность фразы не отменяет необходимости понять ее так, как нужно, а не так, как хочется.
Есть ли связь между каменными кукольными болванками в ящике платяного шкафа и Фредди Крюгером? Наверняка. Какая? Что общего между каменными уродцами и куклами в коробке?
– Прошу прощения за беспокойство, – сказал Беркович, выходя в коридор.
Рина молча посторонилась, а Мария не удержалась от саркастического замечания:
– С куклами играть, инспектор, у вас лучше получается, чем искать убийцу.
* * *
Марию он дожидался, сидя в автомобиле на стоянке. Он не знал, когда она выйдет и выйдет ли сегодня вообще – может, собралась провести у Альтерманов все дни до окончания шивы? Но в магазин за продуктами кто-то выйдет – и, скорее всего, Мария.
Подожду до четырех, решил Беркович, потом надо вернуться в управление, разобраться с делами, скопившимися за последние дни. Мелочь, рутина, но всякая бумажка и запись в компьютере требовали внимательного к себе отношения. А думать сейчас Беркович мог только об одном деле. Хутиэли был прав: подавляющая часть преступлений – бытовуха, и когда происходит что-то малопонятное, разобраться не то что трудно, порой невозможно. Не потому, что убивают в запертой комнате или так изощренно, что преступник не оставляет следов. Разобраться порой невозможно именно из-за того, что все лежит на поверхности. Свидетелей огромное количество, пятьдесят человек видели в минувшее воскресенье драку у кинотеатра «Самсон», пятьдесят человек дали показания о том, что некто Эли Барнеа упал на асфальт с ножом в груди. Почти пятьдесят человек почти одновременно вызвали «скорую», и в результате спасать беднягу через три минуты приехали шесть машин с разных подстанций. Не спасли. Но ни один из пятидесяти свидетелей не смог сказать, кто нанес Барнеа смертельный удар. Все видели всё, и никто не видел ничего. Рукоятка ножа рифленая, отпечатков, пригодных для опознания, нет. Молекулярный анализ показал, что нож побывал в руках по меньшей мере шести человек, и это ничего не значило. Нож был обычный, кухонный, компания перед тем, как отправиться в кино, проводила время на природе, жарили и ели шашлык, мясо резали тем самым ножом… Простое дело, подозреваемых масса, доказательств никаких.
Мария вышла из подъезда минут за десять до четырех. Она везла тележку на колесиках, шла, не поднимая головы, печальная и не замечавшая препятствий – споткнулась о невысокий бордюр и едва не упала. Беркович инстинктивно протянул руку, чтобы помочь Марии сохранить равновесие, и она, будто почувствовав, подняла взгляд.
Беркович вышел из машины и забрал тележку из рук Марии.
– Положу в багажник, хорошо? – сказал он. – На тротуаре она будет мешать прохожим.
Мария кивнула.
– Простите, что я так, – начал Беркович, возвращаясь на водительское место. – Садитесь и закройте, пожалуйста, дверцу.
– Поедем в полицию? – настороженным голосом осведомилась Мария. Она приготовилась к официальному допросу и говорила отчужденно, глядя не на Берковича, а прямо перед собой.
– Нет, – сказал Беркович. – Просто хотел с вами поговорить. Не для протокола. Если окажется нужно, оформить показания мы всегда успеем.
Слово «показания» резануло слух, он не хотел официальных слов, вырвалось.
– Извините, – сказал он и подумал, что слишком часто извиняться тоже не стоит.
– Я ничего не понимаю, – с тоской сказала Мария. – Я не о том, что вы называете закрытой комнатой. И не о камне. С этим вы разберетесь.
– О чем тогда? – мягко спросил Беркович, понимая, что сейчас может получить ответ на вопрос, который ему не пришло в голову задать.
– О Сергее! – выпалила Мария, будто хотела избавиться от звучания этого имени. Лицо женщины прояснилось, губы сложились в извиняющуюся улыбку: мол, простите, сказала лишнее, не должна была, но и молчать тоже не могла.
Беркович ждал – любое слово могло убить возникшее состояние доверия.
В молчании прошла минута – мир съежился до объема салона, снаружи что-то происходило, но Беркович видел лишь лицо Марии, ставшее открытым, как книга, которая хочет, чтобы ее прочитали, и ты пытаешься, но пока не произнесено кодовое слово, книга представляется набором непонятных значков. Сергей? Если это код, то нужна подсказка.
– Гольц, – назвала Мария второе кодовое слово, полагая, видимо, что вместе с фамилией Беркович поймет, о ком речь. Полиция, как Мария, видимо, считала, знает все обо всех, тем более – о знакомых семьи Альтерман, к которым, вероятно, принадлежал не известный Берковичу Сергей Гольц. Старший инспектор – из показаний соседей – знал, кто обычно приходил к Альтерманам. Опрос сначала провел Кармон, и его сведениям, учитывая дотошность сержанта, можно было доверять. Беркович и сам в день убийства прошел по квартирам, интересуясь каждым жильцом и всеми, кого жильцы видели приходившими к Альтерманам. Гостей оказалось немного, Альтерманы не были общительны. Приезжали время от времени дальние родственники из Арада, но в последний месяц их не было.
Приходили школьные подруги Леи – только девочки, мальчиков никто не видел. Но и подруги не появлялись ни в утро убийства, ни за день до него.






