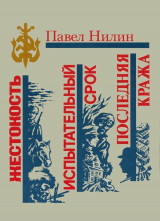
Текст книги "Жестокость. Испытательный срок. Последняя кража"
Автор книги: Павел Нилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
ПОСЛЕДНЯЯ КРАЖА
Рассказ
В человеческой судьбе много самых неожиданных изгибов, поворотов, случайных и странных. Буршин, может быть, не стал бы вором, если б не такой вот случайный поворот. Он стал бы приказчиком, официантом или, в лучшем случае, слесарем, к чему имел несомненные склонности.
Особую его склонность к слесарному делу признавал и Алексей Дудыкин, владелец небольшой мастерской и скобяного магазина в Театральном проезде в Москве. Но Дудыкину казалось, что мальчишка заносчив чрезвычайно, непочтителен к старшим. И однажды, после краткого разговора, вспылив, хозяин выгнал мальчишку из магазина и в дверях еще дал подзатыльник ему.
Буршину было десять лет. Он весь день просидел на холодных ступенях Большого театра. Он не знал, что делать ему, куда идти. Он был совершенно одинок в огромном городе.
В кармане его холстинных штанов было двадцать копеек.
Двадцать копеек – это бездна удовольствий для мальчишки: это увлекательная игра в кегельбан на базаре, это леденцы и сайки, это сладкий квас и сладкие петушки на палочках.
Но Буршин был серьезен.
На две копейки он купил хлеба, на пятак – селедку и чай, а на остальные – керосину и ночью облил керосином четыре угла деревянного дудыкинского дома.
Подожженный дом осветил тишайшую осеннюю ночь.
Очарованный мальчик стоял на углу и смотрел на багровое зарево.
По улице скакали какие-то сказочные всадники, гремели пожарные бочки, и надсадно свистел в кулак похожий на памятник городовой.
А мальчик все стоял и стоял на углу, не в силах оторваться от зловещего зрелища. Из глаз его катились слезы. Они катились не от раскаяния, но от дыма, коловшего глаза.
Пойманный, он не мог уже плакать. Он выплакал все свои слезы и молча шел с городовым, который вел его за руку. А позади шел второй городовой, придерживая на ходу трепетавшую шашку. И мальчику было приятно такое исключительное внимание к его особе.
Это был самолюбивый и своевольный мальчик.
Из колонии для малолетних преступников, куда поместили его для исправления, он бежал через шесть дней и снова был пойман только через три года, теперь уже как стремщик большой грабительской шайки.
В тюрьму вошел новый вор.
Полиция сфотографировала его анфас и профиль, взяла дактилоскопические оттиски и записала для памяти краткую его биографию.
Но ни биография эта, ни особые приметы, ни оттиски ничем не удивили полицию. Буршин был обыкновенный вор. Он неукоснительно повторял историю своих предшественников, шаблонную, в сущности, историю.
В тюрьме нашелся сердобольный старичок из профессиональных ширмачей, иначе говоря – карманников, которому мальчик очень понравился, и он со скуки стал учить его грамоте по обрывку старой газеты, обычно употребляемому на цигарки. Буршин учился прилежно, с большой охотой.
Из тюрьмы он вышел грамотным во всех отношениях. Некий Гржезинский, пожилой медвежатник, или, иначе говоря, шниффер, пожелавший на старости лет передать в надежные руки редкостное и рискованное свое ремесло, пригласил его к себе в напарники по взлому сейфов и несгораемых шкафов.
Буршину просто повезло. Гржезинский принадлежал к старинному роду высококвалифицированных преступников, мастеров так называемого шниффера. Он в запальчивости утверждал, что его предки и сородичи изобрели все древнейшие и новейшие способы ограбления денежных хранилищ и действовали в этом направлении чуть ли не во всей Европе. Он, конечно, хвастался, преувеличивал, но бесспорно было одно – сам он выдающийся специалист по вскрытию сейфов. За ним числились десятки таких преступлений, о которых в свое время под рубрикой «Происшествия» писали многие столичные и провинциальные газеты.
Буршину, случайно попавшему на выучку к Гржезинскому, таким образом, сильно повезло.
Одинокий Гржезинский полюбил его, как сына. Он водил его с собой на преступления, открывал ему тайны преступного своего ремесла и при этом не только учил воровским принципам, но и внушал ему особые житейские принципы.
Он говорил, что мир устроен для сильных, что только сильные имеют право на жизнь. Им предоставлены все удобства. И не важно, чем занимаются они – грабежом, торговлей или коммерцией. В мире царствуют только деньги. И только деньгам покоряется человек.
Гржезинский повторял это очень часто. Он был философом. По вечерам читал библию, пел псалмы и часто пил запоем. В запое он видел источник постоянных своих неудач, но ничего поделать не мог.
Буршин слушал его внимательно. Ходил за ним неотступно. Вместе с ним два раза попадал в тюрьму и сидел в одной камере. И в тюрьме продолжал учиться. Упорно, прилежно, старательно.
Люди учатся так, чтобы стать слесарями, механиками, инженерами. Он учился так, чтобы стать вором. Настоящим, квалифицированным, первоклассным.
В двадцать лет, после смерти учителя, замученного запоем, Буршин стал работать самостоятельно. Он знал уже все приемы. В совершенстве овладел искусством не только выбирать объект и быстро производить операцию, но и умением хладнокровно и тщательно заметать следы. Знал, кому, как и какую взятку давать и кому не давать. И никогда не ошибался в этом.
Изредка он все-таки попадал в тюрьму. Но и в тюрьме чувствовал себя неплохо. Воры беспрекословно уступали ему лучшее место, лучшие нары, лучший кусок. Он был для них главарем. Он владел редчайшей воровской специальностью, которой мог бы позавидовать любой, пусть даже самый удачливый вор. И любой позавидовал бы его внешности, его телосложению, на редкость крепкому.
Буршин сделал блестящую воровскую карьеру.
Внешне – в лайковых перчатках, в котелке, в заграничном драповом пальто – он походил теперь на фабриканта, на наследника богатой фирмы, на потомственного барина. И на всякий случай у него была заготовлена подходящая биография. Он говорил, что отец его был генералом, а мать жива и до сих пор, она помещица в Калуге.
Настоящая же его мать жила в кухарках в Коломне. Она сделала для него все, что могла сделать мать-кухарка, записанная в паспорте девицей. Она отправила его, девятилетнего, в столицу, на обучение в магазин, дала ему рубль денег, буханку хлеба, пучок зеленого лука и сказала на прощание, горько плача:
– Ты один, Егорша. Как перст, один. Помни это. И не балуй.
Она сказала все, что могла сказать. Она мечтала, что, сын пойдет по торговой части. Но сын пошел по тюрьмам.
За пятнадцать лет он обошел больше десятка тюрем. Совершал ошибки, делал промахи. Но от ошибок не был свободен и его учитель.
Однако Буршин превзошел учителя в умении изворачиваться, уходить от преследования. Довел это умение до виртуозности.

И наконец наступил период, когда он мог спокойно жить. Настолько спокойно, насколько это возможно для самого удачливого вора. Полиция получала свою долю и не беспокоила его без крайней необходимости. В домовой книге было записано, что он коммерсант.
Как у всякого настоящего коммерсанта, у него была хорошая квартира. Были деньги, влиятельные знакомства. Был даже постоянный помощник. Что-то вроде личного секретаря. Некий Подчасов.
Подчасов работал поваром в Офицерском собрании. Но эта работа не была его главным занятием. Она служила только дымовой завесой для другого занятия, основного, прибыльного, секретного. Подчасов высматривал «объект», иначе говоря – шкаф, сейф, выяснял условия и докладывал патрону о своих наблюдениях.
И только после того, как вся обстановка, в которой находился объект, становилась совершенно ясной, патрон шел на «дело». С безупречной точностью опытного хирурга он вскрывал стальной и лакированный шкаф, неторопливо, но быстро потрошил его.
А Подчасов в это время бегал где-нибудь у входа и, по-собачьи вытянув голову, прислушивался к шорохам. Он очень сильно походил на собаку. Весь взъерошенный, согнутый пополам, с вытянутыми вперед руками, он, казалось, готов был каждую минуту встать на четвереньки и побежать, по-собачьи виляя незримым хвостом.
Буршин слегка презирал его, но все-таки дружил с ним, держал около себя. И Подчасов был единственным человеком, которому безгранично доверял Буршин.
Был у Буршина еще один человек. Некий Чичрин Василий. Слесарь. Замечательный слесарь-лекальщик. Он готовил воровские инструменты, ремонтировал их и хранил у себя. Он тоже пользовался доверием у патрона. Однако далеко не таким, как Подчасов.
У Подчасова была не только внешность собачья, но и собачья преданность своему патрону.
Буршин женился, обзавелся семьей. Но даже жена не знала о его делах всего, что знал Подчасов. Жена простодушно думала, что муж ее действительно коммерсант. О занятиях своих он никогда не рассказывал. И она привыкла не интересоваться ими.
Буршин вел свое дело очень тонко. Не бросался с горячностью маньяка на всякий сколько-нибудь подходящий объект. Тщательно выбирал объекты. И преступления совершал не очень часто.
Кроме того, он непрерывно совершенствовал свои приемы. Разбирал детально не только каждую свою операцию, но и операции своих коллег.
Узнав из газет или из разговоров, что такой-то медвежатник завалился на крупном деле, Буршин посылал Подчасова выяснить причины этой неудачи. Все причины, все подробности.
Подчасов бродил по «малинам», по «хитрым хазам» и «кодлам» и добросовестно собирал интересующий патрона материал. Сам патрон без особой надобности старался не входить в какие-либо отношения с воровской средой. Он всегда презирал эту мелкую шпану.
Однако с крупными ворами, равными ему по положению, он тоже старался не заводить знакомств. Встречался с ними только в тюрьмах и только в тюрьмах поддерживал с ними дружбу.
Впрочем, едва ли эти отношения можно назвать дружбой. Это были вынужденные встречи главарей, всегда враждующих конкурентов. И приличие требовало, чтобы они не враждовали в тюрьме. Буршин не нарушал приличия. Всегда был предан воровскому этикету. В тюрьме говорил по-блатному, выполнял все правила хорошего воровского тона.
Но на свободе он вел себя совсем по-другому. Много читал, заводил знакомства среди молодых офицеров, купеческих детей, среди студентов и коммерсантов. И старался как-нибудь использовать эти знакомства, научиться чему-нибудь у этих людей и в конце концов устроить свою жизнь так же, как они, почтенно и прочно.
У него росли дети. Они были еще очень маленькие. Но надо было уже думать и об их судьбе.
Буршин не хотел, чтобы дети росли ворами. Хотел, чтобы они стали не хуже других – гимназистами, студентами. Хотел, чтобы они выросли хозяевами жизни, как люди, чье расположение он старался завоевать теперь.
Он старался теперь войти в круг солидных, независимых людей, о чьей силе восторженно говорил Гржезинский.
Незаконный кухаркин сын хотел стать коммерсантом. Не по паспорту, не по домовой книге, а по-настоящему. При этом он не собирался бросать свое старое ремесло. Нет, он искал только совместительства. Добротного, приличного совместительства, которое могло бы служить и хорошей вывеской. Искал очень долго. И наконец нашел.
Но тут грянула революция. Грянула совершенно неожиданно для него. Однако Буршин не испугался. Ведь он не князь, не граф, не помещик. Он просто вор. Впрочем, ворам тоже может не поздоровиться во время революции.
Буршин, улыбаясь, вспоминал один печальный случай.
Этот случай был в пятом году. Буршин работал тогда еще вместе с Гржезинским. В качестве практических занятий ему доверялись иногда небольшие самостоятельные кражи. Одну такую кражу надо было провести в Москве, на Пресне.
Пресня была в огне. Буршин всегда любил рискованные положения. Он пробрался через линию боев, вышел к зданию, где находилась нужная ему касса, взломал ее и был весьма разочарован операцией.
В кассе, уже опорожненной кассиром, лежали только десять рублей и маленький револьвер «бульдог».
Буршин все-таки взял револьвер и деньги взял, чтобы не возвращаться с пустыми руками. И, опечаленный, опять побрел через линию боев, через вскопанные мостовые и поваленные заборы.
У Кудринской площади его остановили. Жандармы обыскали его. Нашли «бульдог». И, приняв за революционера, повели в участок.
У ворот участка были выстроены в два ряда полицейские, дворники и члены «Союза русского народа». В руках они держали поленья.
Буршина вместе с дружинниками прогнали сквозь этот строй. До участка он, однако, не добежал. Потерял сознание. И без сознания пролежал всю ночь.
А утром выяснилось, что он просто вор. Полиции было некогда возиться с ворами. Буршина выгнали на улицу. Он долго не мог оправиться после этой ночи. Но, оправившись, любил вспоминать эту ночь.
– Вот вам единственный случай, – говорил он, смеясь, в кругу товарищей по ремеслу, – когда я пострадал. И то по ошибке. А в общей сложности я жил безбедно.
Безбедно Буршин жил до Октябрьской революции.
Затем начались затруднения. Запись в домовой книге могла доставить ему большие неприятности. Нет, он теперь не хотел, чтобы его считали коммерсантом. Коммерсант – это значило, но новым временам, нетрудовой элемент, паразит, бывший человек. Это значило – плати налоги, подавай сведения о доходах. Буршина это не устраивало.
Он приобрел где-то новые фальшивые документы и попросил управдома изменить старую запись в домовой книге. По новым документам он числился старшим агентом кустарной артели «Красный инвалид».
Из этой же артели он часто получал командировочные удостоверения и разъезжал по многим городам. Дважды съездил в Сибирь и на Дальний Восток, побывал на Кавказе и в Средней Азии. Четырежды за два года подвергался приводам в уголовные розыски разных городов, но трижды был отпущен за недоказанностью преступления, а один раз сбежал.
Он сбежал один раз, но этот случай был зарегистрирован в Ростове-на-Дону, и когда весной 1923 года его снова задержали в Иркутске, ему предъявили уже несколько совершенных им преступлений. Его повезли под конвоем в Москву.
Из архивов старой сыскной полиции были извлечены его прежние «дела». Как рецидивист, он должен был подвергнуться суровому наказанию, но ему опять повезло.
У здания суда он выпрыгнул из фургона и, раненный в бедро, все-таки ушел от преследования по дворам и узким московским закоулкам, знакомым ему с самого детства.
Он вынужден был уехать из Москвы, скитаться по дачным местностям, боясь показаться на глаза даже своим сообщникам, которые могли бы выдать его, чтобы самим отличиться.
Буршин становился особо недоверчивым, боязливым и нервным. И для этого были серьезные основания.
Большое, скуластое его лицо с немного выпуклыми, грустными глазами и оттиски пальцев – длинных, ширококостных, утолщенных на концах – были теперь известны почти во всех уголовных розысках страны.
Буршин понял, что взятки его больше не спасут, как спасали в старое время, что приходит конец, что ему не миновать расстрела и что коричневая борода может служить только вывеской отчаяния. Она надоела ему, эта искусственная борода, приклеенная в пору особенно плохих дел.
Он сорвал ее в первом же перелеске, переступив кордон, и долго смотрел, как плавала она в зеленой воде канавы…
В Варшаву Буршин шел уверенный, что она приютит его.
И Варшава не разочаровала Буршина. Здесь он встретил друзей, с которыми сиживал когда-то в российских тюрьмах. Некоторые из них стали здесь богачами. Заболоцкий, например, открыл шикарный ресторан и гостиницу «Полония».
Буршин пришел к Заболоцкому.
В «Полонии» Буршину отвели две комнаты и предоставили полный пансион. И все это совершенно безвозмездно, в память прошлого, в память молодости, которая прошла.
Она прошла в российских тюрьмах, на базарах, на воровских квартирах, эта позорная воровская молодость. Но все-таки Заболоцкому было приятно вспомнить ее.
В Варшаве Буршин устроился, пожалуй, не хуже, чем когда-то в Москве. Даже лучше, пожалуй.
Опять в домовой книге было записано, что он коммерсант, и никто не приставал к нему с нескромными вопросами.
Варшава в этом смысле была благословенным городом. Здесь можно было заниматься чем угодно. Важно только вовремя платить налоги или взятки. Особенно взятки. И всякой, пусть самой темной, личности предоставлялась вся полнота независимости и свободы. Варшава в этом смысле была свободным городом. Недаром крупные воры всего мира почитали ее своей священной Меккой. Как Чикаго, как Марсель, как Рим.
Воров в Варшаве было очень много. Их ловили, конечно, били в участках, сажали в тюрьмы, заковывали в кандалы. Но били только мелких, неквалифицированных воров.
Буршина в Варшаве не били.
Освоившись в новой обстановке, Буршин вскоре ушел от Заболоцкого. Он удачно провел два дела – вскрыл два шкафа в двух конторах, разделил добычу между участниками, взял свою долю и решил дальше жить и действовать самостоятельно.
У него была теперь своя квартира, свои деньги. У него не было только семьи, которая осталась в Москве.
В Москве остались жена и дети.
Буршин сильно скучал о детях. Он был не настолько молод, чтобы думать о второй семье, чтобы обзаводиться второй семьей. Он постоянно думал о первой. Он думал о том, как лучше перевезти семью из Москвы в Варшаву.
Однажды он написал об этом жене, но ответа не получил. Это взволновало его. Однако он не потерял надежды, что когда-нибудь все устроится само собой. Добудет большие деньги, откроет ресторан, кофейню или магазин, выпишет семью – и все пойдет как надо.
Буршин завидовал людям, которые имеют денег меньше, чем он, но живут все-таки лучше его, по-человечески нормально, семейно и спокойно. Зависть иногда переходила в хандру. Начинал пить. Как в молодости, ходил по первоклассным ресторанам. И за ним ходила неотступно большая компания прихлебателей.
Эта компания аила на его деньги, пропивала будущие его магазины, рестораны, кофейни. Пропивала его мечту. Но она же удовлетворяла его врожденному тщеславию. Пейте и ешьте! Буршину ничего не жалко, он богатый человек. И завтра, если захочет, будет еще богаче. Он богаче в десятки раз Алексея Дудыкина, который хотел когда-то лишить его куска хлеба за непокорность и выгнал из магазина. Где он теперь, этот толстомордый, прыщеватый урод?
Ярость просыпалась в человеке неожиданно и страшно. Вспыхнув, пьяный до ослепления, он ломал и мял ресторанную обстановку, бил посуду и, дойдя до высшего градуса безумия, разгонял почтенную публику стулом, палкой, кулаками. Он позволял себе то, чего никогда не позволил бы в трезвом виде, – осторожный, хладнокровный и немножко грустный человек. Разогнав гостей, он оставался один. И тогда во всем мире были только два человека – дочь и сын, которых он искренне любил. Это дети его. Он должен думать о детях. Для них должен добывать деньги, должен жить по-волчьи, в вечном напряжении, в беспокойстве, без веры в завтрашний день. Что может случиться завтра? Может быть, завтра его убьют на месте преступления, выдадут связчики или продаст полиция, когда ей выгодно будет его продать…
Буршин к старости стал искать оправдания своему ремеслу. И нашел его в том, что у него есть дети, о которых он должен заботиться.
Больше десяти лет Буршин прожил в Варшаве и все время оправдывал себя этой мыслью о детях, хотя дети давно уже стали для него иллюзией, далеким миражем, приятной выдумкой. Он ничего не знал о своих детях. Но все-таки думал о них. И для них, для их обогащения, как казалось ему, он предпринял рискованную гастроль из Польши в соседнюю маленькую страну.
В этой стране, в одном провинциальном банке, надо было взломать несколько сейфов.
Был хмурый день, когда он выезжал из Варшавы. Ветер гнал по перрону пыль и ржавые листья. Собирался дождь. Буршину было грустно.
Всякому человеку бывает грустно в такие дни. Но Буршину было особенно грустно. Он просто не знал, куда девать себя. Нетерпеливо шагал по перрону в ожидании поезда. Потом увидел знакомого старичка киоскера и подошел к нему.
– Нет ли русских газет?
Старичок спросил:
– Каких? Парижских?
– Нет, – сказал Буршин, – московских.
Старичок полез, как в нору, под широкий прилавок киоска и вытащил оттуда газету «Известия».
Буршин дал ему целый золотой и вошел в вагон.
В вагоне сейчас же разделся, лег на нижнюю полку и развернул газету.
В газете большое место было отведено международной информации. Буршина это не интересовало. Потом шли длинные статьи о каких-то хозяйственных делах. Это тоже не интересовало Буршина. В этом он просто ничего не понимал. Домны там какие-то, мартены, хозрасчет…
Вагон качало. Буршина начала одолевать дремота.
Хотел уже отложить газету и уснуть, но в этот момент его внимание привлек большой снимок. На снимке улыбались десять парней и девушек. Буршин удивленно прочел под снимком свою фамилию. Было написано: «Буршин Иван»…
Может быть, это однофамилец? А может быть, это сын? Сыну было бы сейчас семнадцать лет. Это он, должно быть. Широкие скулы, как у отца, такой же серьезный взгляд исподлобья. Нет, это несомненно сын Буршина. Значит, у Буршина два сына – Иван и Яков. И еще дочь – Надежда.
В газете было написано, что Буршин Иван, как девять его товарищей, отлично окончил школу, ударник учебы. Значит, бойкий парень. Бойкий в отца.
А отец его, старый жулик, шляется где-то по заграницам, хитрит, ворует.
Дети растут без него. Они выросли уже. Выучились. Выучились без отца. Им плевать теперь на отца, который бросил семью на произвол судьбы и никогда двух злотых не послал семье в подарок. Кому нужен такой отец? Дети больше будут уважать какого-нибудь чужого дядю, нового мужа их матери.
Она, наверное, уже вышла замуж.
Буршин озлился вдруг при этой мысли. Два чувства – ненависть к жене, которая, наверное, изменила ему, и нежность к детям – обуяли его одновременно.
Он вышел из купе и пошел по вагону, нервный, нетерпеливый. Он испытывал сейчас какое-то новое, большое, горячее чувство, какого не испытывал никогда в жизни, даже в тяжелые дни хандры, когда думал о детях, когда мечтал о них.
Все в жизни он очень быстро забывал. Забыл свою мать-кухарку, которая жила и умерла в Коломне. Привык к им же выдуманной версии, что мать его, помещица, живет в Калуге. И никогда за всю свою жизнь не вспомнил как следует настоящую, родную мать.
Он не был сентиментален, нежен, слезлив. Он был самостоятелен, решителен и жесток. И чувство одиночества никогда не угнетало его, вероятно, потому, что он всегда был крепко убежден в неистребимости сил своих, верил в бесконечность жизни своей и в свое превосходство над людьми, хотя бы над этими людьми, что идут с ним рядом, занимаются его профессией, его ремеслом, – перед ворами.
Он всю жизнь был вором профессионалом, как бывают люди бухгалтерами, слесарями и плотниками. И всегда считал свою профессию законной, неумирающей, а в рискованности ее находил особое удовлетворение.
Он жил так долго, десятки лет. И вдруг почувствовал страшную усталость.
В зеркале увидел однажды свои седые волосы, проступившие в курчавой и густой еще шевелюре. Буршин увидел свое изображение в старости. Увидел себя в будущем – дряхлым и немощным, с лицом, оплетенным сеткой морщин.
И именно в этот день, перед зеркалом, Буршин впервые подумал о тихой жизни. Именно в этот день он особенно нежно вспомнил о детях. И даже о матери своей вспомнил. Искал теперь новых, прочных, вечных связей с жизнью. Искал бессознательно, тревожно. И неудержимо старел.
В вагоне ему захотелось вдруг поговорить с кем-нибудь, рассказать о сыне, может быть даже спросить совета. Но в вагоне ехали чужие люди, занятые своими делами. Ехали поляки, немцы, какой-то длинный, сухой англичанин.
Буршин молча побродил по вагону и вернулся в свое купе.
Хорошо бы ему сейчас сесть во встречный поезд, собрать дома вещи и поехать к детям. Он представил себе весь путь до настоящего дома, через леса и овраги, через болота и реки, мимо строгой охраны с той и другой стороны.
Этот путь нисколько не пугал его. Однажды он уже проделал этот путь. И пошел бы опять, несмотря на все трудности. Но только не сейчас. Сейчас он едет по «делу».
Буршин всегда серьезно относился к своим «делам». Считал себя аккуратным человеком и гордился этим: раз сказал – да, значит, да, раз сказал – нет, значит, нет.
Поездку свою он теперь оправдывал также тем, что это его последняя поездка на «дело». Он ехал и всю дорогу, волнуясь, думал о детях и особенно о сыне, чей снимок видел в «Известиях». Интересно, какой он, его сын? Высокий, широкоплечий, сильный, в отца? Или худенький, как мать? Нет, наверное, высокий, большой. Не может быть, что худенький. Не может быть…
Ночью поезд остановился на маленькой станции.
Буршин вышел из вагона. На перроне его ждали два связчика, два похожих друг на друга господина в беретах, какие носят чаще всего французские художники. Они сразу же узнали Буршина, подошли. Они встречали его, как знаменитого профессора, который прибыл, чтобы сделать сложную и срочную операцию тяжелобольному. Они уже все подготовили. Егору Петровичу остается только взломать, точнее говоря – вскрыть сейфы.
Буршин, величественный, в толстом драповом пальто, в мягкой шляпе, с палкой, украшенной позолоченной головой змеи, неторопливо пошел по перрону.
Один связчик суетливо бежал впереди. Другой на почтительном расстоянии шел за Буршиным. Они охраняли его.
В воровской гостинице, иначе говоря – в «малине», подали прекрасный ужин с вином, с русской водкой. Но Буршин не стал ужинать. Он никогда не ест перед работой. Этому учил его еще Гржезинский.
Он просто выпил два лафитника водки, закусил моченым яблоком и попросил крепкого чая с лимоном. Потом тщательно осмотрел инструменты, одобрил их. И они пошли – он и два связчика. Связчики несли инструменты.
В городе, на главной улице, горело несколько тусклых одиноких фонарей. Над городом висело черное небо. И под небом этим, пасмурным и тяжелым, незнакомый серенький город выглядел тревожно.
Впрочем, тревожно он выглядел, может быть, потому, что настроение у старого вора в эту ночь было на редкость подавленное и вялое. Мысли о детях, взволновавшие его в вагоне, продолжали гнездиться в мозгу и не давали сосредоточиться.
Будто сквозь дрему он слышал слова связчика, шедшего сейчас рядом с ним и вполголоса излагавшего ему важные подробности. Буршин улавливал только отдельные слова и пристально вглядывался в темную перспективу улицы, точно ожидая, что вот сейчас кто-то страшный выйдет навстречу ему из темноты.
Но на улицах не видно было прохожих. Было тихо-тихо. И в тишине вдруг раздался странный, металлический смех.
Буршин вздрогнул. Перед ним, как привидения, возникли две женщины в широких шляпах. От неожиданности он даже остановился, но в то же мгновение понял, что это проститутки, грубо оттолкнул их, одну ударил палкой по заду и, провожаемый их визгом, пошел дальше.
Однако настроение его от этой, в сущности, обыкновенной встречи почему-то еще более ухудшилось.
«Не выспался я, что ли?» – подумал он, привыкший все объяснять простейшими причинами. На минуту заколебался. Не отложить ли?
По опыту он знал, что при таком настроении заниматься опасным делом нельзя.
Но в этот момент они подошли уже к банку.
У банка Буршина встретили еще три связчика. Они сообщили, что охрана убрана, сигнализация парализована, все готово. Буршин слушал их рассеянно и тревожно думал: «Чего это такое со мной? Уж не захворал ли я?»
И, думая так, делал все, что нужно. Осмотрел потайной ход, проделанный для него специальными людьми, так называемыми кобурщиками, остался чем-то недоволен, но все-таки снял пальто и, солидно крякнув, полез в узкую темную дыру…
Близких его сообщников, людей довольно опытных в воровском ремесле, всегда удивляли его спокойствие во время операции, особая точность жестов и эдакая почти хозяйская уверенность, совершенно, казалось бы, неестественная для вора, постоянно думающего об опасности.
Буршин никогда не волновался во время операции. Во всяком случае, волнения его никто не видел.
И на этот раз, войдя в полутемное помещение сейфов, где горела в потолке маленькая матовая лампочка, он аккуратно стряхнул с груди и колен землю, приставшую в потайном ходу и прежде всего закурил.
Уж это черт знает что – закуривать в такой момент! Дорога каждая минута. Помощники его нервничали. Но в следующее мгновение они уже были убеждены, что так надо, что это шик, необходимый мастеру.
Буршин приблизился к первому сейфу. Он не осматривал его по нескольку раз со всех сторон, как это делают все медвежатники, не кряхтел, не возился вокруг него с глубокомысленным видом. Очень спокойно, как слесарь, пришедший утром к своему верстаку, он разложил около себя инструменты, небрежно снял и бросил в саквояж одни перчатки, надел другие и приступил к делу.
Первый сейф хрустнул и открылся раньше, чем это можно было ожидать.
Буршин подошел ко второму сейфу, к третьему. Он вскрывал их по-разному, разными способами, но с одинаковой быстротой и легкостью, будто показывал фокусы в присутствии почтенной публики.
А лицо у него при этом было печальное.
Наверно, и сейчас, вскрывая сейфы, он думал не о них, а о чем-то другом, далеком. Наверно, он в самом деле заболел, и движениями его на этот раз больше руководил профессиональный автоматизм.
Управляемый этим автоматизмом, он аккуратно собрал инструменты после работы и около одного из сейфов бросил докуренную папиросу и нож для раскупоривания консервов, что делал всегда, желая подразнить полицию.
Но, уходя через потайной ход, он забыл соблюсти несколько элементарных предосторожностей, допустил неточности, что с ним случалось очень редко, и в результате…
Перед утром, на вокзале, когда он снова принял величественный вид знаменитого профессора, его окружили похожие на певчих птиц суетливые полицейские.
Буршин оказался выше их на целую голову, и публика, собравшаяся в этот ранний час на вокзале, могла видеть его лицо, на котором презрение сменялось удивлением. Уважающему себя столичному вору было глубоко оскорбительно стать добычей провинциальных полицейских.
Но в полиции не знали, что перед ними крупный международный вор, представитель той особой категории воров, для которых во всем мире, во всех полициях мира заведен особый этикет.
Провинциальные полицейские били метра, как мелкого вора. Он потерял до суда два передних зуба и получил десять рваных ран.
Потом его судили. Выяснили, что он крупный вор. Приговорили к пяти годам строжайшего заключения. И два года возили по всей небольшой стране, по разным тюрьмам, не зная, должно быть, куда получше, понадежнее посадить.
Эти два года были, пожалуй, самыми тяжелыми в жизни Буршина. Исхудал, изнервничался, поседел совершенно.
Наконец весной ему удалось бежать.
Побег ему устроили связчики. Они же принесли ему приличную одежду, деньги. Для связчиков он по-прежнему был хозяин, начальник, метр. Они кормились около него. И думали кормиться дальше.







