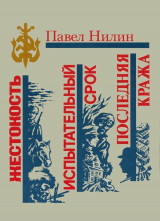
Текст книги "Жестокость. Испытательный срок. Последняя кража"
Автор книги: Павел Нилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– Ничего, – улыбнулся Венька. – Может, она меня полюбит.
И, ни слова больше не сказав начальнику, уехал во тьму таежной ночи. Было слышно, как захрустел щебень под копытами неутомимой воробьевской кобыленки.
Начальник продолжал рассматривать карту. Потом он поднял глаза на часы-ходики, висевшие на бревенчатой стене, потянулся и сказал Воробьеву:
– Время еще есть. Я, пожалуй, прилягу. Мне все-таки не семнадцать лет. Обеспечь охрану, чтобы было тихо. Понятно?
– Понятно. Будет сделано, – почтительно пообещал Воробьев.
– Если я засплюсь, разбудишь.
– Разбужу, а как же, – опять пообещал Воробьев, который был постарше нашего начальника, но спать не собирался. – Будьте покойны, я тут на своих ногах…
Венька все не возвращался.
Делать было нечего. Мы с Колей Соловьевым вышли посмотреть, как едят в темноте болтушку с отрубями и овсом наши кони.
Болтушка была замешана в трех колодинах, выдолбленных в толстых лиственничных бревнах. У каждой колодины – два коня. Они устало переступали с ноги на ногу и лениво обмахивались хвостами.
Недалеко от лошадей настлана солома. На соломе белеет рубашка Голубчика. Он прилег по примеру начальника. Рядом с ним поместился, наконец, угомонившийся Петя Бегунок.
Мы с Колей Соловьевым поглядели на них и тоже прилегли на солому. Прилегли и сразу же задремали.
Я проснулся от тихого разговора во дворе.
– Не покусала она тебя? – заботливо спрашивал Воробьев, светя во тьме красным огоньком самокрутки.
– Ну для чего же она будет меня кусать?
Я узнал голос Веньки. Значит, он уже вернулся.
– Стало быть, фартовый ты, – говорил Воробьев, и было слышно, как он похлопывает кобыленку по крупу. – Она зимой наробраза покусала…
– Кого?
– Наробраза. От народного образования приезжал сюда человек из Дударей – Михайла Семеныч Кущ. Она очки ему сбила и грудь ободрала зубами. А тебя, гляди-ка, не тронула. Стало быть, ты фартовый, ежели тебя и лошади уважают. Это хороший признак! Очень хороший…
Венька засмеялся:
– Но ведь тебя она тоже уважает, товарищ Воробьев, твоя кобыленка.
– Меня – она обязана. Я над ней, как не скажи, первое начальство, – напомнил с достоинством Воробьев. И стал водить лошадь по двору, чтобы она не запалилась от быстрого бега. – Ездил-то ты на ней далеко ли?
– Нет, недалеко. Тут рядом…
– Ну, не заливай. Ты гляди, какая она мокрая, и бока ходуном ходят. А за лошадью, это имей в виду, нужен глаз, как за ребенком. Если желаешь, чтобы лошадь была постоянно на ходу, когда это требуется по делу неотложной важности…
Разговор был тихий, хозяйственный, ничем не напоминавший о том, что скоро предстоит важнейшая операция.
Венька подошел к своей кобылице, похлопал ее по крупу, точно так, как Воробьев свою кобыленку. Потом спросил:
– Начальник в избе?
– В избе, – сказал Воробьев. И почтительно добавил: – Отдыхает.
– Отдыхать некогда, – сказал Венька. – Сейчас поедем. Сейчас по холодку далеко можно проехать…
– Может, чаю попьешь?
– Некогда, – Венька пошел в избу, но на крыльце остановился и спросил Воробьева, как мальчик-сирота: – Хлебца кусочек не найдется? Что-то у меня сосет внутри…
– Как же это не найдется! – забеспокоился Воробьев. – Я и мясо найду. И все, что надо. Как же можно не жравши воевать!..
Он привязал кобыленку и вслед за Венькой вошел в избу.
Минут пять спустя Венька вышел на крыльцо. И в полосе света, выпавшей из избы, было видно, что в руках у него кусок хлеба и кусок мяса. Он ел и говорил Воробьеву, опять появившемуся на крыльце:
– Ты, Семен Михайлович, сейчас с нами можешь не ехать. Пусть твоя лошаденка отдохнет. Ты часам к двенадцати к нам подъедешь – к Пузыреву озеру.
– Нет, уж я сейчас поеду, – сказал Воробьев. – Ты за мою Тигру не беспокойся.
– За какую Тигру?
– Ну кобылу-то мою Тигрой зовут.
Венька опять засмеялся. И смеялся он так, будто ничего смешнее этих слов никогда в жизни не слышал.
19
Было раннее утро, когда мы подъезжали к Пузыреву озеру.
Только что проснувшийся лес полон был птичьего щебета и той влажной, пахучей свежести, которая скапливается за ночь в листве и мхах и при свете солнца распространяется по земле, оздоровляя все живое, оживляя мертвое и волнуя души людей предчувствием великого счастья.
Люди, может быть, всего добрее бывают именно в утренние часы – добрее, возвышеннее, великодушнее. И настроиться на суровый лад им не так легко, когда все вокруг торжествует и радуется восходящему солнцу.
А мы ехали, как говорится, на дело.
По плану операции, расчерченному нашим начальником на карте, мы должны были, как он выразился, закупорить большак, то есть одну из главных на этом участке таежных магистралей, по которой минувшей ночью проехал «император всея тайги» к своей возлюбленной Кланьке Звягиной.
Я помнил, что Кланька живет на взгорье, на Безымянной заимке – у самого пруда. Но я сейчас ни за что не разыскал бы эту заимку. И мне неловко было спрашивать, далеко ли до нее. Да и спрашивать некого.
Мы ехали по лесу вдвоем с Колей Соловьевым, который знал об условиях предстоящей операции, наверно, еще меньше меня.
Остальные же из нашей группы вместе с начальником продвигались по ту сторону большака. Их было не видно и не слышно.
В лесу сгустилась необыкновенная тишина. И только где-то в отдалении усердно трудился дятел, добывая себе пропитание.
Всякий разумный человек, наверно, подумал бы о том, что это не простое и, пожалуй, даже рискованное дело – закупорить большак, если нас всего шестеро и мы не знаем в точности, сколько бандитов сопровождает Костю Воронцова. Ведь не один он поехал к своей невесте. Едва ли он решился бы поехать один. А вдруг не мы, а он закупорит нам все пути?
Эта мысль, конечно, встревожила бы и меня, если бы она тогда сразу достигла моего сознания. Но мой мозг все еще был объят дремотой, и я заботился о том, чтобы не задремать в седле.
А задремать было легко. Все-таки я не спал уже две ночи. В ту ночь в Дударях меня томила духота, и Венька мешал мне спать, читая свое письмо. И в эту ночь, кажется, никто из нас по-настоящему не уснул.
Сквозь дрему, склеивающую глаза, я изредка поглядывал на Колю, то едущего рядом со мной, то отстающего. И мне казалось, что он тоже задремывает. Вот сейчас мы оба уснем в этом опасном лесу. У меня набрякли веки. Больно смотреть. Я закрыл глаза.
Вдруг Коля толкнул меня рукояткой нагайки в плечо:
– Медведь!
– Где медведь?
– Ну откуда я знаю где, – благодушно ответил Коля. – Был и вышел…
Я опять закрыл глаза, но Коля снова толкнул меня в плечо:
– Гляди, деревья-то какие…
Я поглядел на деревья, но ничего особенного не заметил.
– Ободранные, – сказал Коля. – Это медведи их ободрали. У них сейчас, наверно, самая свадьба. Хотя по времю-то им пора бы уже отгулять…
Правда, теперь я разглядел: на нескольких деревьях ободранная кора.
Медведи, это я знал, в дни гоньбы сильно злятся, царапают когтями землю, становятся на дыбы и передними лапами обдирают кору с деревьев.
Наклонившись с седла, я потрогал толстую осину, с которой длинными лоскутьями свисала зеленовато-бурая кора.
Видно было, что содрана она совсем недавно – час или десять минут назад: мезга еще не подсохла. Значит, и медведь ушел недалеко. Может, он бродит где-то тут. Может, он уже скрадывает нас.
Это напрасно рассказывают, что медведь будто бы глупее лисы, что он неповоротливый, ленивый. Медведь и хитер и быстр, когда это нужно ему. И нам не уйти от него даже на лошадях, если он захочет нас преследовать в этом лесу.
А стрелять нам не велено. Венька еще в деревне передал нам строжайшее распоряжение начальника: ни в коем случае не стрелять в лесу без особой команды. Вот загадка для младшего возраста: что делать, если на тебя напал медведь, а стрелять тебе нельзя?
Мою дремоту как рукой сняло.
Невдалеке от нас затрещали сучья. Кто-то тяжелый пробирался по лесу в нашу сторону.
Коля Соловьев придержал коня и вскинул карабин, висевший на шее.
Я потрогал шершавую, рубчатую оболочку гранаты и тут же вспомнил инструкцию, в которой сказано, что «гранату бросать на близком расстоянии, не обеспечив себе укрытия, не рекомендуется». Но мало что не рекомендуется. Я все равно брошу, если…
Из зарослей кустарника высунулась лошадиная морда с пеной на губах, а над листвой показалась голова Веньки Малышева в кепке козырьком назад.
– Ну, как вы, ребята?
– Чуть-чуть тебя не стукнули, – засмеялся Коля.
– С чего это вдруг?
– Подумали, что медведь…
Венька тоже засмеялся:
– Ну, какие тут медведи!..
– А это что? – показал Коля на осину.
Венька, как я, подъехал к дереву и с седла потрогал мезгу.
И в этот момент недалеко от нас раздался страшный рев.
Венька оглянулся, и я увидел, как лицо у него дернулось и застыло в испуге. А у меня задрожали руки и ноги и острый холодок пробежал по спине.
– Медведь! – сказал Коля.
А я ни слова не мог выговорить. И Венька тоже.
Позднее мне думалось, что сам я испугался не столько медвежьего рева, сколько выражения лица Веньки. Уж если Венька боится, значит, действительно страшно. И мой рыжий ленивый мерин подо мной забеспокоился. Я чувствовал, как вздрагивает он всей мохнатой, вспотевшей шкурой.
– Я слово даю, что это медведь, – опять сказал Коля.
– Медведь, – согласился Венька. Голос у него вдруг сделался тихий-тихий. И он, как по секрету, сообщил нам: – Я в жизни второй раз слышу, как он ревет. Хуже его рева, наверно, ничего нету…
– Это на него человечьим духом нанесло, – догадался Коля. – Человечьим и еще конским духом. Потным, парным. Это для него все равно, что для нас конфетка…
Медведь опять взревел – протяжно, яростно, с хрипотцой. И еще раз. И еще.
Нет, это, кажется, не один медведь ревет. Может быть, их двое или трое.
Может быть, они сейчас дерутся где-нибудь на поляне из-за самки.
Я это еще в детстве слышал, что медведи часто дерутся во время свадьбы. Вот, наверно, они и сейчас дерутся. Но если мы их спугнем, нам будет плохо.
Я представляю себе во всех подробностях, как медведи, прервав междоусобицу, бросаются на нас.
Всю жизнь меня пугали не столько действительные, сколько воображаемые опасности. И всю жизнь я завидовал людям, или начисто лишенным воображения, или ограниченным в своих представлениях. Им живется, мне думалось, много спокойнее. Их сердца медленнее сгорают. Им даже чаще достаются награды за спокойствие и выдержку. Их минуют многие дополнительные огорчения, но им, однако, недоступны и многие радости, порождаемые воображением, способным в одинаковой степени и омрачать, и украшать, и возвеличивать человеческую жизнь.
Медведи ревели все сильнее, все яростнее.
Мне казалось, что мы движемся прямо на них. Вот сейчас мы выедем на ту цветущую, обогретую знойным солнцем поляну, где они дерутся подле звенящего на камнях прохладного ключа. А в стороне от ключа, под корягой, под замшелой валежиной удобно и прочно устроено гайно медведицы – царственное ложе невозмутимой красавицы, даже не сильно польщенной, может быть, что из-за нее сцепились в кровавом поединке самые могущественные властелины тайги.
Я представляю себе в подробностях поединок медведей, хотя никогда не видел его в действительности, и все время держу руку на гранате. Она становится влажной от вспотевшей моей руки, и я слышу ее железный запах.
И слышу голос Веньки, едущего впереди:
– …Но имейте в виду, ребята, начальник еще раз нам твердо приказал: что бы ни случилось, стрельбы не открывать. Мы обязаны взять императора живьем. Убивать его мы не имеем права…
– А он нас тоже не имеет права убивать?
Это спрашивает Коля и смеется.
Венька не успевает ему ответить. Да Коля и не ждет ответа. Он увидел что-то занятное в траве и кричит:
– Ой, глядите, ребята, оправился! На цветы: прямо на кукушкины сапожки!..
– Не кричи, – останавливает его Венька. – Кто оправился?
– Ну, как кто? Медведь, – говорит Коля, будто обрадованный. И, смеясь, показывает на то место, где останавливался медведь по неотложной надобности. – Уже, глядите, имеет полное расстройство желудка. Ягоды ел. Голубицу…
«Вот он, наверно, ничего не боится! – думаю я про Колю. – Он и кричит и смеется. А я почему-то боюсь. Это, наверно, оттого, что я не выспался. Но ведь и другие не выспались».
– Это еще не расстройство, – с седла внимательно рассматривает медвежий помет Венька. – Если бы этого медведя легонько рубануть по хвосту прутом, вот тогда бы он, правда, расстроился. Он на задницу очень хлипкий. От него бежать ни в коем случае нельзя. Словом, нельзя его пугаться…
Я завидую Веньке. Ведь я хорошо видел, что он испугался медвежьего рева. А сейчас он не только подавил в себе испуг, но старается и нас взбодрить. Иначе для чего бы ему говорить о том, что все и так знают: если медведя испугать, у него начинается понос.
– Это уж как закон природы, – улыбается Венька. – Против всякого страха есть еще больший страх.
– А ехать нам далеко? – спрашивает Коля.
– Нет, – говорит Венька. – Сейчас до Желтого ключа доедем, и там уж будет видно заимку. – И поворачивается ко мне. – Ты эти места узнаешь?
– Узнаю, – киваю я, хотя по-прежнему ничего не узнаю.
20
Мне казалось, что силы мои уже на исходе, когда мы подъезжали к Желтому ключу. Я устал от нестерпимой жары, от подпрыгивания на седле и всего больше от изнурительной работы собственного воображения – от поединка с медведями, которого не было.
Желтый ключ веселой тоненькой струйкой выбивается из-под самой горы, но вода в нем не желтая, а кипенно-белая, холодная. Желтый песок вокруг ключа.
Я набираю воды в пригоршню и пью мелкими глотками, потому что она студит до боли зубы. Потом я умываюсь.
Хорошо бы снять рубашку и намочить холодной водой спину, грудь! Но я не знаю, что еще будет дальше.
Я устал, а работа наша только должна начаться. Должно начаться то, для чего мы выехали из Дударей и вот уже вторые сутки кочуем по этим местам.
Из леса выезжает наш начальник. Затем появляются Иосиф Голубчик, Петя Бегунок и старший милиционер Воробьев. Их лошади взмылены. Видно, что они прошли большой и трудный путь – больше нашего.
Но начальник бодро спрыгивает с коня. Толстые ноги в мягких сапогах с короткими голенищами чуть прогибаются под его увесистым телом и глубоко вминают высокую сочную траву в рыхлую почву, когда он идет к ручью.
У ручья он долго умывается, поливая круглую, остриженную под бобрик голову холодной водой, потом вытирает лицо и шею носовым платком и, глядя на Веньку покрасневшими выпуклыми глазами, спрашивает:
– Ну-с?
– Время еще есть, – смотрит на ручные часы Венька. – Всего девятый час. Двадцать минут девятого. Подождем еще минут сорок?
– Подождем.
– Может, закусим? – робко спрашивает Воробьев.
– Можно, – опять соглашается начальник и садится на траву, по-калмыцки подогнув ноги. – Только и делаем, что закусываем да чай пьем, а настоящего дела пока не видать…
– Не наша вина, – по-стариковски кряхтит Воробьев и, оскалив желтые, полусъеденные зубы, зубами развязывает туго стянутый узел на мешке с едой.
Мешок брезентовый, широкий, он растягивается на кольцах и расстилается на небольшой поляне, на волнистой траве, как скатерть.
– Садись, Малышев, – приглашает начальник Веньку, показывая на еду, на хлеб и мясо, которое режет большим складным ножом Воробьев. – И вы, товарищи, садитесь.
– Спасибо, – отказывается Венька. – Я после поем. Я на минутку отойду. – И направляется в сторону большака, не видимого отсюда.
– Я тоже с ним пойду, – вскакивает с травы Иосиф Голубчик.
Венька останавливается и обиженно и вопросительно смотрит на начальника.
– Никуда ты не пойдешь, – строго говорит начальник Голубчику. – Садись и сиди. Вот еда, кушай…
Мы все садимся вокруг мешка и, подражая начальнику, подгибаем под себя ноги.
А Венька уходит в заросли боярышника в сторону большака.
Мне кажется странным, что начальник ест с таким аппетитом. Мне совершенно не хочется есть. Я смотрю, как начальник обкусывает мясистую кость, и думаю: «Интересно, куда же это пошел Венька? И что будет через сорок минут. Венька сказал: подождем минут сорок».
– Ты чего не ешь? – спрашивает меня начальник.
– Я ем, – говорю я. Беру пучок черемши, обмакиваю его в соль, отламываю от ломтя кусочек хлеба и запихиваю все это в рот. Есть мне все-таки не хочется.
После еды Петя Бегунок отводит меня от ключа в сторону и показывает на взгорье, где виднеются избы заимки.
– Вон видишь, серебряная крыша? Да ты не туда смотришь. Ты смотри вот на эту сосну. Вон видишь, серебряная – крыша? Это изба, в которой Кланька живет.
Из-за ветвей хорошо видно оцинкованную крышу. Она действительно поблескивает сейчас на солнце, как серебряная. Такие крыши – редкость на таежных заимках.
Я смотрю на эту крышу, и мне немножко обидно, что Бегунок показывает мне на нее. Я же зимой вместе с Венькой был под этой крышей. Бегунок, наверно, никогда не видел Кланьку Звягину, а я ее видел, был у нее. Но я молчу.
– В девять часов ровно, – говорит Бегунок, – вот с этой стороны, с правой, должны поднять жердь с паклей. Ровно в девять…
Я обижаюсь не на Бегунка, а на Веньку. Неужели он не мог мне объяснить, как будет проходить операция? Подумаешь, какой секрет, если даже Бегунок его знает! Или Венька мне об этом не говорил потому, что считал, что я сам все уже знаю? А я ничего не знаю.
– Чего это вы смотрите? – подходит к нам Коля Соловьев, все еще прожевывая хлеб.
– Да вот Петя любуется избой Кланьки Звягиной, – смеюсь я, чтобы показать, что это для меня не новость.
– А которая изба? – интересуется Коля. – Вот эта белая, что ли?
Значит, Коля тоже ничего не знает. Тогда я возмущаюсь про себя. До чего же глупо организована операция! Никто ничего не знает. Как же действовать в таких условиях? Все, значит, получается втемную. Даже не сказано, что нам делать, когда над крышей поднимется жердь с паклей. Для чего же нас сюда собрали?
Начальник сидит на траве, спиной привалившись к сосне. Он курит, но глаза у него прищурены. Похоже, он задремывает.
А Веньки все еще нет. Куда же, интересно, он ушел?
На взгорье хлопает выстрел.
– Начинается, – веселеет Бегунок и, ухватив за повод свою лошадку, вкладывает ей в рот удила. Потом легко запрыгивает в седло и, уже сидя в седле, всовывает ноги в стремена.
Иосиф Голубчик и Коля Соловьев тоже бегут к лошадям.
А я смотрю, как начальник, неторопливо опираясь на руку, подымается с травы.
Раздается второй выстрел, третий, четвертый.
Иосиф Голубчик, еще не обратив лошадь, передергивает затвор карабина.
– Спокойно, – говорит начальник, отряхивая травинки, приставшие к брюкам. – Спокойно! Ничего покамест не случилось… – Но подходит к своей лошади и закидывает повод на конскую шею. Все делает он неторопливо, как бы с ленцой.
– Жердь! – кричит не склонный к спокойствию Бегунок. И показывает плетью с седла. – Жердь, смотрите-ка, подняли!
– Ну, слава тебе, господи, – вздыхает Воробьев. Он, пожалуй, бы даже перекрестился, если бы руки не были заняты мешком и карабином и если бы не стеснялся осенить себя крестным знамением в присутствии партийного начальства.
На взгорье громыхают телеги, лают собаки. Слышно даже, как гремят цепи и взвизгивает проволока, по которой скользят кольца от цепей, удерживающих собак-волкодавов. А человеческих голосов не слышно.
Из зарослей боярышника выходит Венька.
– Взяли, – говорит он. Но лицо у него не веселое, а скорее печальное. И весь он какой-то измятый, не такой, каким мы видели его еще меньше часа назад.
– Ну, слава богу, – опять вздыхает Воробьев.
Венька подходит к начальнику, недолго разговаривает с ним, потом не запрыгивает, а устало залезает в седло. Вялый он, медлительный. И кепка надета уже как следует, козырьком вперед.
А начальник становится вдруг необыкновенно быстрым в движениях, натягивает повод, бьет лошадь по брюху толстыми ногами в стременах и кричит:
– Внимание! Выезжаем на большак. Голубчик, особо учти: без моей команды ни во что не соваться!..
Мы выезжаем на большак и поднимаемся на взгорье, окутываясь горячей удушливой пылью.
Навстречу нам громыхает телега, в которую запряжена мохнатая лошаденка, точно такая, на какой разъезжает старший милиционер Воробьев. На телеге сидят, свесив ноги, два мужика, а между ними лежит, распластавшись, третий, с окровавленной бородой.
– Убили? – спрашивает Веньку начальник, глядя на бородатого.
– Да нет, это не Воронцов, – отвечает Венька. – Это Савелий Боков. Оказал сопротивление. Ничего нельзя было сделать. И Кологривова сильно ранили. Наверно, умрет…
– Ну и пес с ним! – говорит Воробьев. – Прости меня, господи. Ведь как озорует, как озорует! Даже в царское время такого не было…
Я смотрю на проезжающую мимо нас телегу, на мертвого Савелия Бокова. Вот, значит, какой он, этот Савелий, именем которого мы зимой вошли в избу Кланьки Звягиной.
– Бывший прапорщик, – смотрит на него Воробьев. – Я с ним в одном полку служил в германскую – импери…стическую. – И кричит мужикам, сидящим на телеге: – Там внизу остановитесь! Я потом к вам подъеду. – И опять вздыхает, провожая взглядом телегу. – Тоже вполне порядочные бандиты, эти мужики, не гляди, что сейчас тихие. Я их обоих знаю. Братья Спеховы. У них и отец бандит, хотя и старичок…
Странно все это. Бандиты везут на телеге убитого бандита и подчиняются распоряжению старшего милиционера Воробьева.
Я оглянулся. Они действительно остановились внизу.
На взгорье я, наконец, все вспомнил. Вот мимо этого забора мы проходили на лыжах зимой. За забором лаяли и гремели цепями собаки. Они и сейчас лают. Но мы проезжаем дальше. И вот уже виден весь дом Кланьки Звягиной. Мы въезжаем в распахнутые ворота.
Во дворе на телеге на спине, на связанных за спиной руках, молча лежит босой, в разорванной шелковой рубахе красивый молодой мужчина с русой, аккуратно подстриженной бородой. Он жадно дышит раскрытым ртом, и широкая сильная грудь его, чуть поросшая рыжим волосом, нервно вздрагивает при каждом вздохе. На груди фиолетовой тушью наколота надпись: «Смерть коммунистам».
– Гляди, чего написал, – читает надпись Воробьев. И спрашивает: – Ты каким же местом думал-то, бандитская морда, когда эти слова писал? – И, послюнив палец, опасливо трогает надпись. – Это же вечное тебе будет клеймо. С этими словами и помрешь…
Бандит не удостаивает Воробьева даже взглядом. Он, не мигая, смотрит в голубое, нежно-голубое небо. На небе ни облачка.
В глубине двора, у высокой колоды, привязаны крупные, сытые лошади. Они спокойно хрумкают овес и поблескивают крутыми лоснящимися задами.
На этих лошадях приехали бандиты из глубокой тайги. На них они и уехали бы, если бы не случилось всего, что случилось.
– А этого куда? – спрашивает Бегунок, выходя из избы и показывая в распахнутые двери на бандита, лежавшего в сенях на соломе.
– Кончился он?
– Кончился.
– Кладите их рядом, – приказывает Воробьев.
– Но этот же мертвый, а этот живой, – вмешивается Коля Соловьев, подходя к телеге.
– Ничего, – говорит Воробьев. – Кладите их рядом. Они дружки. Им обоим одна дорога.
На крыльце появляется наш начальник. Он уже обошел весь двор, побывал в избе и вышел вспотевший, сердитый.
– Ты тут глупостей не устраивай, – выкатывает он глаза на Воробьева. – Ты представитель чего? Ты Представитель власти. Значит, что? (Воробьев испуганно и почтительно вытягивается.) Значит, глупостей творить не нужно. Живой пусть так и останется как живой. А мертвого надо на другую телегу.
Начальник отдает еще какие-то распоряжения Веньке и, взобравшись в седло, выезжает из ворот в сопровождении Пети Бегунка.
Мы остаемся во дворе без начальника. Нас остается всего пять человек: Венька Малышев, Иосиф Голубчик, Коля Соловьев, старший милиционер и я. А незнакомых во дворе становится все больше.
Мне еще непонятно, кто тут бандиты и кто просто жители этой заимки. И вообще непонятно, как это все произошло, кто связал «императора всея тайги», кто убил Савелия Бокова и кто смертельно ранил Кологривова. Многое еще непонятно.
В избе, в полутьме от задернутых на окнах занавесок, я не сразу узнал Лазаря Баукина. Он сидел у стены за столом, все еще уставленным бутылками, стаканами, тарелками с недоеденной едой, и негромко разговаривал с Венькой. Похоже, о чем-то договаривался.
Тут же у печки на табурете сидела, как мне показалось, немолодая женщина в темном платке, по-монашески повязанная. Она вставила в разговор мужчин какие-то слова, но Лазарь грубо ее оборвал:
– Ты, Клавдея, помолчи. Тебе самая пора помолчать сейчас…
Как же это я не узнал Кланьку? Будто тяжелая болезнь изменила ее. И она не показалась мне теперь такой красивой, как тогда, зимой. Даже странно, что я готов был жениться на ней в ту метельную, суматошную ночь.
Я услышал, как Лазарь сказал:
– Ты, Веньямин, ни об чем не тревожься. Как ты поступаешь, так и мы поступаем. Договор дороже денег. Мы проводим вас до самого места. И я сам в Дудари явлюсь. Ежли нужно меня судить, пускай судют. Я весь наруже. Был в банде, товарищи мои бандиты на меня не обижались. И ты не обижайся, что я тебя тогда подстрелил в Золотой пади…
– Об этом незачем теперь говорить, – отодвинул от себя пустую бутылку и стакан Венька и облокотился на стол. – Надо думать, Лазарь Евтихьевич, как дальше жить…
Наверно, всякого бы удивило, что они так, сравнительно спокойно, ведут какой-то разговор, когда в сенях на соломе все еще лежит мертвый Кологривов, а во дворе на телеге ворочается связанный Костя Воронцов и вокруг него толпятся неизвестные люди.
– Туман. Во всем туман. Во всей жизни нашей туман, – сказал Лазарь Баукин и стал вылезать из-за стола так, что загремела посуда на столе. – Но уж если дело сделано, об том тужить не надо. Все равно какой-то конец должен быть… – Он увидел на полу смятую фуражку-капитанку, наклонился, поднял. – Это чей картуз?
– Это… этого, – затруднилась с ответом Кланька.
– Кологривова, что ли?
– Да что вы, ей-богу, разве не знаете, чья это фуражка? – будто обиделась Кланька. – Это ж Константин Иваныча фуражка…
– Отнеси ему ее.
– Нет, уж вы сами относите. Сами вязали его, сами и относите…
– А ты что, невеста, жалеешь жениха?
– Никого я не жалею, надоели, осточертели вы мне все! – отвернулась Кланька и пошла в сени. – Вон как ухалюзили избу! Нахлестали кровищи, все забрызгали. Кто это будет замывать?
Мне подумалось, что Кланька словами этими, вспышкой мелочной ярости и хозяйственной озабоченностью и суетой хочет спрятать что-то в душе своей, старается не показать, что она чувствует сейчас. А ведь, наверно, она что-то чувствует. Ведь не корова же она.
Я вспомнил, что вот на этой печке зимой всю ночь стонал и кряхтел старик. Я спросил у Кланьки, где он. Она сделала любезное лицо и как будто даже улыбнулась.
– Крестный-то? Помер он. Зимой еще помер. Здравствуйте! А я и не признала вас второпях…
И ни тени огорчения не было на ее припухшем лице.
– Отнеси ему, Клавдея, картуз, тебе или кому говорят? – опять зачем-то приказал Лазарь. – И сапоги эти отнеси. Это его? – кивнул он на фасонистые коричневые сапоги.
– Да чего вы ко мне пристали! – отмахнулась она. И заискивающе заглянула в глаза Веньки. – Чего он ко мне пристал, товарищ начальник? Я-то тут при чем?
– Вот гляди, Веньямин, какие бабы бывают, – показал на нее Лазарь Баукин. – Пока Костя царствовал, она юлила вокруг него. Даже плакала, что Лушка его завлекает. А сейчас… Вот гляди на нее…
Но Венька промолчал. Он как будто стеснялся этой женщины и старался не смотреть на нее.
И только когда мы выехали из ворот, он оглянулся на окна ее дома под серебряной крышей и сказал:
– Да, бывает по-всякому.
21
Даже на большаке, когда мы далеко отъехали от Безымянной заимки, было слышно, как протяжно и грозно ревут медведи, справляя свои свирепые свадьбы в глубине тайги. Но теперь, наверно, никого уже не пугал и не тревожил этот рев.
Только, может быть, я один представлял себе, как самцы сейчас встают на дыбы, как рвут друг друга когтистыми сильными лапами, как летит с них клочьями линялая шерсть. А где-то в стороне сопит, стоя на четвереньках и поглядывая на них, красивая медведица, которая достанется победителю, которая будет любить победителя, – того, кто окажется сильнее, крепче.
Венька ехал рядом со мной, но все время молчал, задумавшись о чем-то. Лицо у него опять почернело, как тогда, после ранения.
Чтобы немножко взбодрить его, я сказал:
– Все-таки ты здорово это организовал…
– Что организовал?
– Ну, всю эту операцию. Никто ведь не думал, что вот так запросто к нам попадется в руки сам «император всея тайги». По-моему, даже начальник в это дело не сильно верил. Если б не ты…
– Да будет тебе ерунду-то собирать! – поморщился Венька. – Это и без меня бы сделали. Это все Лазарь Баукин сделал. Это мужик, знаешь, с какой головой!
– Ну, это ты можешь кому-нибудь рассказывать, – перебил я его. – А я сейчас многое понимаю…
– Ничего ты не понимаешь, – сказал Венька. – И давай не будем про это…
Говорили потом, что Венька ловко сагитировал этого упрямого, звероватого Лазаря Баукина и других подобных Баукину мужиков. Но это не совсем так. Мужиков этих мало было сагитировать. Мужики эти, рожденные и выросшие в дремучих сибирских лесах, могли быстро забыть всякую агитацию, могли еще много раз свихнуться, если бы Венька, презирая опасность, неотступно не ходил за ними по опасным таежным тропам, не следил за каждым их движением, не напоминал им о себе и о том, что замыслили они по доброму сговору сделать вместе с ним.
Он покорил этих неробких мужиков не только силой своих убеждений, выраженных в точных, сердечных словах, а именно храбростью, с какой он всякий раз готов был отстаивать свои убеждения среди тех, кто доблестью считал накалывать на груди, как у атамана, несмываемую надпись: «Смерть коммунистам».
А Венька был представителем коммунистов.
Он, конечно, хитрил – и еще как хитрил! – действуя, однако, во имя правды.
Нет, он не напрасно прожил всю весну и часть лета среди топких болот в душном комарином гуле Воеводского угла.
Он добился крупной удачи, самой крупной из всех, какие были у нас за все это время. Но удача теперь будто не радовала его.
Он сидел в седле по-прежнему вялый и какой-то безучастный, с почерневшим то ли от загара и ветра, то ли еще от чего лицом.
Дорога шла сначала через густой, однотонно шумевший лес, изгибаясь вокруг широкоступных деревьев, потом пошла напрямик через мелкий кустарник, по кочкам и скоро вышла на пыльный горячий тракт, поросший по бокам отцветшим багульником.
Воронцову было неудобно лежать на спине, на связанных за спиной руках под палящим солнцем. Но он так долго лежал без движения, будто умер или впал в беспамятство. Только крупные капли пота, выступавшие на лбу и заливавшие глаза, показывали, что он жив.

Наконец он грузно пошевелился, как медведь, лег на бок и вдруг громко и почти весело проговорил:







