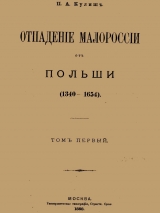
Текст книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"
Автор книги: Пантелеймон Кулиш
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Наливайко прислал из-за Синих Вод казака к брацлавскому старосте Струсю, прося его склонить коронного полевого гетмана к помилованию, и обещая возвратить пушки, захваченные, как в брацлавском, так и в других замках. «Я отвечал (доносил полевой гетман великому), что не жажду ни его крови, ни его соучастников. Это он может видеть из того, что, имея в руках немало его товарищества, не свирепствую (nie pastwie sie) над ними. Пускай только распустит свою купу да отдаст Максимилианово знамя и пушки. Если это сделает, обещал ему ходатайствовать у его королевской милости о пощаде его жизни. Раскаяние произошло в нем не от честности: привели Наливайка к нему, как донесено мне, бунты дружины. Несколько раз едва не убили его. Укоряют его, что погубил много людей своим неуменьем гетманить (za swazla sprawa), всех довел до голоду и поделал пешими. В самом деле (продолжает Жовковский) не подлежит сомнению, что бунт им надоел, и немного с ним осталось казаков; разбегаются от него беспрестанно. Не думаю, однакож, чтоб его раскаяние возимело последствия. Стелет себе он дорогу и на другую сторону. Гораздо вероятнее, что подобный подобному скорее будут (взаимно) верить (taki s takiem richley sobie beda wierzyc), нежели отдаться на милосердие его королевской милости, зная за собой столько злодеяний. Но, с другой стороны, он и казакам не доверяет: боится, чтобы отобрав у него все, не выкупились его горлом: этим давно уже ему грозили».
Таковы были паны-казаки, как назвал их князь Острожский. Но не лучше их были и паны-жолнеры, которых, в том же донесении, Жовковский просит Замойского не распускать за недостатком жалованья, чтоб они не присоединились к товариществу казацкому, как это сделали роты Плоского и Чонганского.
Безразличие знамени, под каким шляхта и все вольные люди искали боевого заработка, равно как и желание разобщить неприятелей, заставили полевого гетмана писать в Белую Церковь к Лободе, взваливая всю беду на Наливайка и обещая лободинцам исходатайствовать у короля прощение, если бы они прибегнули к его милосердию, выдали Наливайка и жили на прежних местах «стародавним способом».
В таборе Лободы знали уже о «погроме наливайцев», знали все, что произошло с Наливайком. Казацкая чернь хотела убить подателя письма, говоря, что он приехал на соглядатайство. Лобода также досадовал при черни и говорил посланцу: «Разве не мог ваш гетман прислать какого-нибудь знатного шляхтича, а не тебя, точно сказал этим, что негодяя к негодяям посылает»? Однакож отпустил его с миром и дал ему червонец, а письмо оставил без ответа. От этого посланца и от шпиона, который находился среди казаков, Жовковский узнал, что они намерены выступить из Белой Церкви к Киеву. Чернь настаивала, чтобы Белую Церковь разграбить и выжечь. Но Лобода, вместе с Саском и Шостаком, отвлек руинников от их намерения.
В это время у Жовковского образовался род авангарда из дружины местных жителей, предводительствуемой православным украинским землевладельцем, князем Рожинским, товарищем нынешних бунтовщиков по казацкому ремеслу, и приятелем памятного казакам бискупа Верещинского, весьма популярным в их среде под именем князя Кирика. Мелкие и потому темные в истории князья Рожинские делаются известны только в царствование Стефана Батория. В 1580 годах Остафий Рожинский является владельцем Коростышева. Один из его сыновей, Михайло, был державцем Рублевки, села князя Януша Острожского (1587), и владельцем Паволочи, перешедшей по его смерти к брату Николаю. Третий сын Остафия, Кириак, был паном на Рожине и Котельне, пожалованной ему за казацкую службу Стефаном Баторием в 1581 году.
Предприимчивый характер этого популярного князя Кирика виден из того, что он всю жизнь граничился и тягался с соседями панами, Котлубаями, Ильяшевскими, Горностаями, а также и с магнатами Тишкевичем коденским и князем Янушем Острожским, что и заставляло его быть ревностным королевским слугою-партизаном, вернее сказать, аристократом-казаком. Человек завзятый и хорошо знающий Украину, князь Кирик был своего рода гетманом пятисот украинцев, и обладал весьма значительною для пустынной страны артиллериею. Помогая теперь Жовковскому, он «разрывал» казацкие купы, подходил к ним «фортелем», нападал неожиданно, и у него в руках было всегда множество пленников-языков.
По словам Жовковского, казаки не смели оставаться в Белой Церкви. Он послал туда князя Рожинского, придав к нему несколько сотен своего войска, для увеличения страха и собирания вестей, а Рожинский, сделавшись из феодального барона предводителем летучей кавалерии, представил в распоряжение коронного гетмана штук пятнадцать своих пушек со всеми принадлежностями.
Теперь весь интерес похода сосредоточился на том, чтобы не допустить Лободу соединиться с Савулою. Но для нас важнее многих подробностей войны кроткий взгляд великого полководца на состав Наливайщины. «Здесь между пленных наливайцев (писал он Замойскому) есть некто Каменский. Слуга ваш Высоцкий, будучи его родственником, просил меня отпустить его. Не мог я доставить это удовольствие Высоцкому. Пускай он там просит вас о нем сам. По-моему, сделавши ему карбачем наставление, так как он еще молоденек (mlodziuchny), можно бы отпустить его, авось исправится, и будет из него что-нибудь хорошее».
Голод заставил Наливайка идти «с поля» к Корсуню. Уведомляя об этом Замойского, через восемь дней после предыдущего, Жовковский пишет: «Князь Рожинский наловил неожиданно под Паволочью гультяев из Саскова полка, и велел их обезглавить больше пятидесяти. Я до сих пор, кроме падших в бою, сохранил мои руки чистыми от их крови. Желал бы я, когда б это было возможно, лечить putrida membra [31]31
Зараженные члены.
[Закрыть], а не отсекать».
Во всю кампанию совершил Жовковский только две смертные казни, да и то в исполнение прошлогоднего королевского декрета: одну над брацлавским войтом Тиковичем, другую над означенным в том же декрете преступником, «которых выдали (доносил он) сами мещане».
Малочисленность войска и недостаток в военных снарядах лишили коронного полевого гетмана возможности разъединить неприятельские силы. Но и казаки колебались в своих намерениях: то их брала охота ударить общими силами и подавить многолюдством искусное в боях панское ополчение, то утешали они себя мечтою о бегстве за московский рубеж, куда еще волынцы Дашкович и князь Вишневецкий-Байда проторили им дорогу, где у них были знакомцы по Днепру и Дону, подобные славному казацкому предводителю Данилу Адашеву, и где северно-русское казачество процветало и буйствовало по-своему со времен отважных новгородских ушкуйников.
Гетман Матвей Савула беспрепятственно вступил в Киев. Отсюда вошел он в переговоры с давнишним товарищем по ремеслу, князем Кириком. Всего лучше подобало бы ему избрать посредника православного, как «борцу за веру» etc., согласно проповедуемой у нас выдумке. Нет, он послал доминиканского приора с письмом к единоверному казаку – князю. Из уст в уста, через доминиканца, Савула предлагал выдать панам готового присягнуть вновь запорожцам Наливайка, чего тот уже и боялся, и что наконец таки совершилось, а в письме спрашивал, может быть, для прикрытия цели посольства: за что паны собираются на казаков? Обо всем этом князь Рожинский донес немедленно коронному полевому гетману.
Жовковский стоял еще в Погребищах. Он, как мы видели, хлопотал всячески о разъединении казацких орд. Казацкие орды, по-видимому, сами распадались. Еще не вернулся посланный им к Лободе «казачек», как привели к нему и другого посланца.
Тот привез письмо от Наливайка к находившемуся при полевом гетмане брацлавскому старосте Струсю. Севериня просил через него помилования; писал, что томится голодом, что товарищи покинули его, и он, как дикий зверь, принужден скрываться в дебрях.
Жовковский, подумав немного, отвечал Струсю: «Бог с ним! пускай отдастся в наши руки. Я даю слово, что не будет наказан смертью, лишь бы возвратил коронные и забранные в панских замках пушки, а также Максимилиановы знамена».
Но Наливайко, по казацкому обычаю, «стлал себе дорогу на обе стороны», как сделал через 58 лет Хмельницкий, присягнув явно московскому царю, а тайно турецкому султану, и как делали следовавшие за ним казацкие гетманы, переходившие от русских к ляхам, от ляхов к татарам, туркам, шведам.
Оправдывая стих украинской песни, по которому запорожцы «повдавались один в одного», как родные братья, Савула, Лобода и Наливайко, в конце концов, соединились, и двинулись без шуму к Белой Церкви. Белоцерковский замок занимал тогда князь Рожинский. Жовковский осведомился уже о движении неприятелей, знал, что у них 7000 войска, и спешил на соединение с авангардом своим из Ходоркова по топкой мартовской дороге, сквозь ужасный снег, какого не бывало во всю зиму.
Но нам интересно читать реляцию самого полководца.
«Князь Рожинский (писал он) знал, что я так близко, и хоть во вторник, немного позже полудня, получил известие, что казаки идут к Белой Церкви, хоть их уже было и видать, но знать мне о том не дал. В среду рано утром услышал я боевой гул, и поспешил на место. Бились наши с казаками от полуночи, и могли бы дождаться меня в замке безопасно; замок здесь не из худших, и с таким гарнизоном, какой был у Рожинского, неодолимый. Однакож, пренебрегая казаками и не осведомившись ночью, что за войско, (бросились) к ним в поле, а казаки вошли другими воротами в город.
Побили наши в поле казаков, так что легло их до тысячи, но, когда вернулись в город, тотчас потеряли больше полсотни пехоты, а прочих много было переранено. Казаки, услыхав о приближении войска, двинулись обратно к Триполю. Были уже в доброй полумиле, когда я пришел под Белую Церковь. Там все решили преследовать их тотчас. Настигли мы казаков за Белою Церковью в одной миле. Шли не спеша в таборе, пустивши в пять рядов возы и телеги (wozy i kolasy).
Пушек у них было больше двадцати. Часа три смотрели мы так одни на других, подвигаясь медленно вперед, так как я поджидал людей, оставшихся сзади. Потом, когда уже склонялось к вечеру, ушло от них двое с поля, и один, который служил покойному пану подкоморию. Они донесли, что между казаками тревога. Тогда оставалось уже только попытать счастья. Построивши войско, ударил я на них с фронта и в тыл, и с обеих сторон. Никто не сомневался в успехе, так как я выдержал бой до удобной позиции. По милости Божией, стрельба их не сделала нам совсем никакого вреда. Рукопашная битва кипела в таборе. Однакож разорвать их, хоть и очень было на то похоже, Господь Бог не судил. Побили же мы их столько, что и сами они говорят, что никогда не понесли такой потери, как в этих (двух) сражениях. Савуле отшибло ядром локоть; Саско убит наповал, и других знатных между ними легло множество. Но и нам не без крови обошлась эта драка (burda). Убит ротмистр Вернек [32]32
По другим известиям, убиты были еще: Дульский, герба Паленч, радомский; Станислав Лащ, герба Правдич, белзский; Палчовский, герба Орел, заторский.
[Закрыть]: в таборе конь под ним упал, не перескочив через телегу (kon z niem przez kolase szwankowal), а товарищей в некоторых ротах легло трупом 32 [33]33
По другим известиям, 300.
[Закрыть]. Казаки тотчас выбрали на место Савулы Наливайка, также раненого, и двинулись на всю ночь к Триполью. А мы расположились на ночлег там же, где была битва, сегодня же пришли сюда, в Белую Церковь. Ночи очень морозные, и людям и коням великая беда, что делает большое ad rem gerendam impedimentum» [34]34
В военном деле препятствие.
[Закрыть].
Что Наливайко был избран гетманом предпочтительно перед Лободою, прославившимся на суше и на море, это показывает, что на его стороне была масса, ценившая в предводителе больше всего уменье ретироваться да отсиживаться в окопах среди зарослей и топей, – уменьем, доведенным впоследствии казаками до совершенства изумительного. Он повел войско к Киеву и переправился за Днепр; не остановил его и весенний ледоход. Туда Карпо Подвысоцкий, казак-шляхтич, доставил ему челны из-за Порогов. В казацких купах, по известиям Жовковского, преобладали два мнения: одни хотели бежать за московский рубеж, другие – к татарскому хану, с тем чтобы, отдавшись на «его ласку», воевать с татарами Польшу. Не смотря на выраженную королю готовность ходить войною на москаля так же, как и на татарина, Наливайко направил общее бегство за Днепр к Суле, которой роменские берега Москва называла своими.
К Жовковскому пришли между тем контингенты панов Потоцких и Ходковичей. Молодой Ходкович, в то время еще православный, в сообществе православного князя Кирика, захватил задний казацкий полк шляхтича Кремпского в Каневе, в день Воскресения Христова, и так как опустошители Волощины и других православных областей праздновали светлый праздник пьянством темным, как ночь [35]35
Украинская пословица: «пьяный, як ніч».
[Закрыть], то православные ходковичане и кириковцы перебили и перетопили в Днепре православных наливайцев. Вера здесь, как и во всех казако-панских усобицах, была ни при чем.
Жовковский уже и тогда знал, что казаки побегут в Лубны, хотя они стояли еще на Днепре в нерешимости, броситься ли им в счастливую для наливайцев Белоруссию, или в старинную Половецкую землю, в «поле незнаемое», по выражению варяжского певца. Казаки позаботились о том, чтоб отнять у своих преследователей все средства к переправе, и несколько перевозных суден затопили в Днепре. Но лишь только направились к Переяславу, киевские мещане указали панам затопленные казаками судна и предложили Жовковскому свои услуги. Казаки вернулись, под предводительством Лободы, отрядом, довольно сильным для наказания «киян» за измену казацкому делу; но было уже поздно. Тогда Лобода вступил в словесные переговоры с Жовковским, сидя в челне на Днепре. Жовковский согласился пощадить казаков только под условием выдачи Наливайка и его сообщников. Наливайцы были в казацком войске сильнее лободинцев, и переговоры не привели ни к чему. Зато старый сечевик, шляхтич Кремпский, с пятью сотнями запорожцев, послушался совета Жовковского и держался в стороне от наливайкова бунта, пока наконец был вынужден присоединиться к заднепровским беглецам. Другой шляхтич, Подвысоцкий, запорожский адмирал, не согласился оставить наливайцев без опоры и держался с морскими чайками на Днепре, готовый к их услугам. Для наблюдения за ним, коронный полевой гетман оставил на русском берегу Днепра каменецкого старосту, Яна Потоцкого, а сам перешел на татарский. В Переяславле был замок, построенный уже давно киевским воеводою Константином II Острожским. Но пограничные замки, под ведомством князя Василия, как известно, пришли в крайний упадок. Город, лежавший между болотистых речек, Альты и Трубежа, мог бы служить, пожалуй, точкой опоры для казацкой орды; но Жовковский с каждым днем увеличивал свое войско прибывавшими к нему в помощь панами, а казаки побросали склады припасов позади себя на русской стороне Днепра и набрали с собой казацких жен с детьми. Осада для них была бы гибельна. Наливайко и Лобода бежали далее, к реке Суле.
Истребленные на Днепре паромы и байдаки, сверх затопленных, не скоро могли быть восполнены новыми. Жовковский, как по этой, так и по другим причинам, простоял на киевских высотах несколько недель, наконец переправился через Днепр, и не застал уже в Переяславе казаков.
Тогда Лубны были еще молодою, едва шестилетнею колонией. Основал ее, на старинном урочище, воевавший с Косинским князь Александр Вишневецкий, и наименовал, по своему имени, Александровым. Не трудно было вытеснить казаков из новой колонии; но за местечком Александровым текла обильная затонами и мочарами река Сула, а через нее шел длинный деревянный мост, перемежаемый «греблями» и дививший тогдашних инженеров, как чудо строительного искусства. Казаки решили – перейти за реку, сжечь позади себя мост, воспользоваться замедлением панов для дальнейших своих «утеков». Из-за Сулы легко было им направиться и в московские придонецкие пустыни, куда через 42 года бежал прославленный у нас Остряница, и в низовья Днепра, куда мужественно ретировались его действительно славные соратники. Но Жовковский из своего становища под Супоем, писал, в половине мая, что будет преследовать казаков хоть бы «за московским рубежом, хоть бы и под Черным морем». Он просил только королевского на то соизволения. Не скоро пришло оно к нему; но достойно замечания, что реляцию о своей решимости Жовковский послал опять через того русина, галицкого каштеляна Гойского, на устное донесение которого так много рассчитывал при начале своей гонитвы, и которого родной брат сражался вместе с Вишневецким и другими панами против Косинского под Пятком.
Коронный полевой гетман настиг казаков еще в Лубнах. Зная все их замыслы, искусным распоряжением перевел за реку Сулу, через незабытый тогда еще Витовтов брод, часть артиллерии и конницы; под начальством того Струся, которому было так тесно от Наливайка в его старостве, и перегородил «утикачам» дорогу, как в Московию, так и в Татарию. Между тем как потомок воспетых в древних думах братьев Струсей совершал отважное, крайне рискованное дело свое, Жовковский занимал в Лубнах казаков заманчивыми для них переговорами; потом вытеснил их из местечка на левый берег Сулы, не дал им при этом зажечь моста и, преследуя по пятам, поставил бегущих между двух своих лагерей. Волей и неволей должны были они окопаться на урочище Солонице, верстах в пяти от Лубен. Одной стороной своего табора примкнули казаки к болотистому берегу Сулы; три остальные стороны четвероугольника выходили в чистое поле.
В конце русского мая борющиеся силы стояли одна против другой во всеоружии боевых средств и были готовы с обеих сторон на подвиги выносливости, которою казаки брали больше всего, по которой у соратников Жовковского было столько же, как и боевого искусства. Наливайко, Лобода и присоединившийся к ним Кремпский насчитывали у себя до 8,000 народу, кроме женщин и детей. Но Жовковский утверждал, что в казацких окопах не больше 2,000 добрых воинов; остальных называл он кашею.
Коней боевых и ездовых было у них 10,000, пушек 21; большой запас оружия и аммуниции. У панов набралось до 5,000 пехоты и кавалерии с 15 пушками: войско сравнительно многочисленное.
Задача осаждающих состояла в том, чтобы лишить казаков продовольствия и принудить голодом к покорности; задача осажденных – в том, чтоб утомить неприятеля вылазками, обмануть его бдительность и выскользнуть из панских рук, подобно тому, как Наливайко, царь казацкой завзятости и гений казацких «утеков», выскользнул из рук Жовковского в прилуцкой дуброве.
На Солонице, в том и другом становище, собрался цвет нашего малорусского рыцарства, составлявшего польскую славу и польское бесславие. На Солонице среди нас было весьма мало коренных поляков, за исключением людей, ополячившихся посредством веры. К числу таких полонусов принадлежал и сам панский фельдмаршал. Под его предводительством лучшие из нас бились против худших за древнюю культуру днепровских Полян, поднятую из упадка политическим слиянием их с поляками привислянскими, озаренную просвещением Италии и Германии, стремившуюся к высшим идеалам общественной свободы. Под знаменем конституционного государства и цивилизованного общества стояли здесь против домашней орды люди обеих национальностей, дослужившиеся впоследствии до высших дигнитарств. Были среди них и православные строители (или ктиторы) церквей и монастырей, этих единственных тогда устоев русского элемента в борьбе с объединителями двух несоединимых вер, оказавшейся гибельною для Польши.
Как в начале знаменитого похода отвечали паны на зазыв полководца равнодушным молчанием, так под конец спешили к нему с контингентами своими, уразумев ясно, чего должны ожидать в будущем от «украинского своевольства»... Только князья Острожские не прислали сюда своих всегда многочисленных почтов, находя, вероятно, что достаточно послужили королевской республике поражением первого бунтовщика, грозившего разорением Кракова, истреблением шляхетского сословия, опустошением панских домов и хозяйств с помощью азиатской дичи, а может быть, из практического соображения, что в феодальной Речи Посполитой Польской ни один панский дом не мог обойтись без готового безразлично к услугам казачества, а то, пожалуй, и из политического рассчета, что «Польша стоит неурядицею», что польский престол, может быть, очень скоро перейдет в другую династию, и что в этом весьма возможном перевороте, казаки пригодятся князьям Острожским, как пригодились они Яну Замойскому под Бычиною...
Долго держались казаки в блокаде, «закопавшись по уши в землю», питаясь кониною без соли, глядя на гибель своих жен и детей от панской артиллерии.
Приступом невозможно было взять отчаянных. Между волчьим бегством и медвежьим отпором средины у них не было. Много панов поплатилось головой за отважные попытки. Наконец усмирители бунта «обступили табор на конях и целую неделю, не слезая с коней, сторожили казаков», постоянно готовившихся к бегству.
Не помогала панам и такая блокада, пока не привезли из Киева тяжелой артиллерии. Тогда открылась по казакам убийственная пальба, продолжавшаяся без перерыва четыре часа, казаки выдержали и канонаду. Отняли у них воду, – они утоляли жажду в болотных копанках. Не стало у них топлива, – они превращали свои возы в дрова. Не стало, наконец, муки, соли и, что всего важнее, паши для лошадей. Падали кони с голоду сотнями. Привычные ко всякой нужде казацкие жены и дети умирали поминутно. Ворочавшимся в дымном аду казакам было не до погребения мертвых. Разлагающиеся под жгучим летним солнцем трупы заражали воздух. Но казаки соперничали гордо с панами в боевой выносливости, не хотели уступить им рыцарского превосходства, – презирая страх смерти, стыдились подчиниться победителям.
И однакож не устояли в гордом соперничестве, признали за панами превосходство решающего боя, со стыдом, горшим самой смерти, подчинились победителям, – все это потому, что наследственный со времен варяго-русских разлад преобладал в их дикой вольнице еще больше, нежели в панском феодальном обществе.
Ценя своих предводителей только по мере успеха, казаки перестали доверять «счастью» царя Наливая, и поставили гетманом затмеваемого им Лободу.
Малочисленные теперь приверженцы Северини видели в Лободе завистливого соперника, подкопавшегося под их божка, и заподозрили его в расположенности к «панам ляхам». В такой толпе, как солоницкие казаки, от подозрения до убийства был только один шаг. Лобода пал жертвою соревнования в «казацкой славе», которое не давало покоя царю Наливаю.
Но царь Наливай обнаружил предательскую мысль – воспользоваться своим талантом к бегству, – обнаружил себя таким героем, каким являлся перед королем в своем проекте уничтожить запорожцев. Поэтому гетманская булава перешла к старому сечевику, Кремпскому.
Дела, однакож, не пошли от этого лучше. Доведенные до последней крайности, казаки просили пощады у Жовковского. Снисходительный к казакам больше всех своих сподвижников, Жовковский готов был пощадить их, но требовал безусловной выдачи Наливайка с главными зачинщиками бунта. Казаки на это не согласились.
При всем упадке их мужества и силы, между ними много было таких людей, как те, которые, под предводительством полковника Мартина, будучи ранены, бросались в пылающее пламя. Решимость их пасть с оружием в руках поддерживала презрение к смерти в тысячах людей. Это были так называемые казаки невмираки, о которых сохранилось у поляков народное поверье, будто бы каждый из них, убитый наповал, вставал и сражался вновь до девяти раз. Напрасно жолнеры побивали солоницких невмирак. Не раз уже казалось им, что только ночь не дала победить завзятых окончательно; но утро следующего дня являло перед ними как бы воскреснувшие силы казацкого духа и тела.
Боясь довести панское войско до отчаяния, Жовковский спешил значительную часть конницы, чтобы в следующее утро вести ее в атаку вместе с пехотою. Во всю ночь в панском стане никто не смыкал глаз: Жовковский стоял на том, чтобы не выпустить из обложенного табора ни одного человека. А в казацком таборе разыгралась между тем отчаянная драма. Наливайко, с дружиною отважнейших людей, хотел пробиться сквозь казаков и панов на степной простор. Но попытка не удалась. Панские ведеты слышали крики: «Не пустимо! Ты нас довів до такого лиха, до й терпи його вкупі».
На рассвете панские хоругви почти без сопротивления заняли казацкий табор. Там открылось перед ними страшное зрелище: только ничтожные остатки десятитысячного войска стояли колеблясь на грудах падших. Теперь уже не встали казаки-невмираки приветствовать гостей. Жовковскому выдали Наливайка, Шостака, Савулу, Панчоху и Мазепу, как творцов и главных акторов разыгранной трагедии. Достались ему также пушки, знамена, булава, которую так долго царь Наливай оспаривал у Лободы, серебряные бубны и литавры. Но в кассе грабителей стольких городов и областей, к огорчению жолнеров, нашли едва 4.000 злотых.
Между жолнерами вспыхнул бунт: хотели истребить осажденных до ночи. Жовковский, всегда снисходительный относительно собственных и неприятельских воинов, показал себя львом в усмирении зверского бунта. Казня его зачинщиков, он в то же время приказал Кремпскому спасаться с «недобитками» бегством.
Окончательный результат борьбы панов с их ненавистниками был ужасен. Из кровавого солоницкого табора, по сказанию современников, преемник Наливайка вывел всего-навсего мужчин и женщин 1.500 душ.
Адмирал запорожской флотилии, Подвысоцкий, покорился правительству, и удалился к низовым лугарям, среди которых проживал уже пятнадцать лет в отчуждении от правоправящего сословия.
До новогродского подсудка, свидетеля Наливайщины в Белоруссии, дошла только глухая молва, что Лобода, отделившись от Саска, шел через Киевщину к Наливайку.
Солоницкое побоище со всеми своими ужасами и доблестями не заняло внимания ни лучшего из Наливайковых земляков, Евлашевского, ни худшего из них, князя Василия. По крайней мере после обоих представителей своего века и общества не осталось никаких в этом отношении известий.
Молва о знаменитом походе усыновленного Польшею русина, Жовковского, столь же глухо коснулась уха, и другой светлой личности среди тогдашней русской тьмы, боркулабовского священника. Он равнодушно и рассеянно записал в своей хронике следующее:
«А иж (а так как) казаки Наливайкиного войска начали творити шкоду великую замкам и панам украйного замку (очевидная описка), того ж року 1595 (1596) с войском литовским (следовало бы написать коронным) погодивши, в селе Лубны, на реце Суле, казаков побили. Первей Савулу стяли, Панчоху чвертовали, а Наливайка Северина поймавши, по семой суботе до короля послали. Там же его замуровавши, держали аж до осени, Святого Покрова. Там же его чвертовано.»
Ни люди чувствительные к страданиям ближнего, как Евлашевский и Боркулабовец, ни люди, скоплявшие миллионы с рассчетливым эгоизмом, как наш «святопамятный», не подозревали, что у них под ногами разразился вулкан, который через полстолетия произведет великую Руину на обширном пространстве между Ворсклом и Вислою.
Но зачем не казнили Наливайка столько месяцев? На этот вопрос могли бы отвечать клерикалы Сигизмундовы, прозвавшие малорусское православие Наливайковой сектою, воображая, как и наши историки, что у панских злодеев были на уме только церковь да вера. Без сомнения, производились расследования помимо обоих коронных гетманов, отличавшихся веротерпимостью. Дорогая королю да иезуитам уния имела столько противников между католиками, что полевой гетман незадолго перед «берестовским синодом», писал к великому: «Ксенз архиепископ гнезненский (примас королевства), которому сообщил было (об унии) иезуит Каспер Татарин, contempsit [36]36
Презрел.
[Закрыть] это дело и не захотел в него вдаваться».
Значение Наливайщины в будущем почуяли мстительным сердцем гораздо вернее те, которые больше кого-либо страдали от «римской веры», унии. Оди выдумали, будто бы Наливайка, ляхи сожгли живьем в медном быке, в отмщение за защиту православия. Кто первый прикрепил к бумаге эту позорную выдумку, не известно; но ее подхватили сочинители даже самых кратких «казацких хроничек», и она упорно держится в русской письменности до нашего времени.







