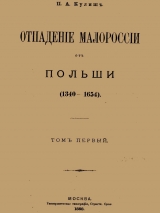
Текст книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"
Автор книги: Пантелеймон Кулиш
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Всего же больше настаивали коммиссары на том, чтобы «паны молодцы запорожцы» или вовсе не жили в имениях земских, духовных, светских, дедичных, или же, если будут иметь в них дома и оседлость, то чтобы оказывали послушание дедичным панам, под которыми будут иметь свои маетности, чтобы из подданства не выламывались и к иным «присудам» не отказывались.
Крайним сроком, к которому казаки были обязаны привести в исполнение свои обещания, назначался св. Илья русский 1620 года. К этому сроку все те, которые не хотят под кем-нибудь жить и быть своему пану подданными, должны были удалиться из его имения и жить где угодно. Те же, которые будут проживать в украинных королевских городах, должны оказывать всяческое почтение своим старостам и в случае надобности, «яко на Украине», действовать против неприятелей св. Креста, под предводительством панов-старост, или их наместников.
В заключение, коммиссары требовали, чтобы казаки, согласно Ольшанскому постановлению, приняли себе «старшего» из руки коронного гетмана, по образцу того, как при короле Стефане Батории был старшим Орышевский.
Казаки, как и в прошлом году, подчинились королевской воле, и благодарили за назначение им жалованья, но не могли определить немедленно свое число, так как брак и выпись ремесленников, торговцев, шинкарей и тому подобных людей потребует немало времени. «Это надобно делать по городам (изъясняли письменно их уполномоченные): таких людей, не принадлежащих к рыцарским занятиям, каковы эти шинкари, кравцы, торговцы и всякие ремесленники, кафанники, балакезы, рыбалты, [37]37
В комиссионных актах упоминаются в числе ремесленников и торговцев еще былачеи и капкаюки.
[Закрыть] и тех, которые, выломавшись лет пять назад из присуду своих панов, поделались казаками, мы от себя повыпишем и повыпрем. Пусть они не прикрываются нашими вольностями, пускай подчиняются власти своих панов-старост и их наместников, где кто будет жить. А какое число нас останется, мы доложим его королевской милости с просьбою о ненарушении этих вольностей, но покамест, постановили так: кто хочет оставаться с нами на службе его королевской милости и Речи Посполитой, то, хотя это сильно нарушает наши вольности, пожалованные нам привилегиями наияснейших королей, наших почивающих в Бозе государей [38]38
Достойно замечания, что казаки никогда не указали, кем именно и что было им пожаловано, равно как и казацкие историки, кроме тех, которые, как профессор Антонович, основываясь на Летописи Грабянки, объявляют, будто бы Сигизмунд I «признал их вечною собственностью те земли, на которых они были поселены по обоим берегам Днепра».
[Закрыть], и хотя мы должны будем обратиться к его королевской милости и Речи Посполитой, но, если его королевской милости не будет угодно оставить нас при наших вольностях и правах, чтоб выходил из шляхетских имений и искал себе спокойного жительства в имениях королевских, где кому любо; но где имеет или будет иметь оседлость, там будем оказывать старостам, подстаростиям и их наместникам надлежащее почтение. В случае вторжения неприятеля св. Креста должны мы действовать против него, как подобает нам, под начальством старосты, подстаростия или своего атамана, и все то делать, что нам будет следовать. Не сопротивляемся и назначению над нами старшего, вроде того как был некогда Орышевский. Но так как ныне его милость пан-канцлер и коронный гетман не наименовал старшего и отложил его назначение до ближайшего сейма, то и мы пришлем туда послов своих с нашими просьбами, отдаваясь на волю его королевской милости. Мы только просим, чтоб над нами был старшим такой человек, который был бы способен воевать вместе с нами против коронного неприятеля, к славе и пользе короля и Речи Посполитой, и умел бы исходатайствовать у его королевской милости все, что нам нужно».
Коммиссия приложила петицию казаков к своему акту в знак готовности правительства выслушать от их послов на сейме и такие заявления, которые противоречили государственному праву польскому.
Действия Ольшанской и Раставицкой коммиссий вообще отличались кротостью, непонятною для нас в предводителе обеих этих коммиссий, Жовковском, который уже в 1596 году доносил о казаках Сигизмунду III, что они мечтали о разорении Кракова, умышляли низложить короля и грозили истребить шляхетское сословие. Турецкая война, накликанная казаками, с трудом была отклонена Жовковским в 1617 году. В прошлом 1618-м турецко-татарское вторжение из-за казаков повторилось несколько раз, и обошлось не дешево, как защитникам Червоннорусского края, так и мирным жителям, которых множество уведено в неволю. Война с мусульманами предвиделась и в недалеком будущем. Недавно воцарившийся султан Осман II мечтал расширить на счет Польши Оттоманскую империю, и готовился к походу в небывалых размерах.
Но не одни запорожские казаки возбуждали турок против Польши. У подольских, брацлавских и червоннорусских панов завелось издавна свое домашнее казачество, отличавшееся от запорожского только тем, что содержалось на счет панских, а не королевских имений. Образчик такого казачества видели мы в дружине Наливайка, служившей князю Острожскому и потом присоединившейся к запорожцам.
Пограничные паны малорусского юга были мельче, но воинственнее князя Василия: они гетманили сами своими казаками, большею частью шляхтичами, и Подолия относительно польско-русских южных окраин была то самое, что была Киевщина относительно польско-русских восточных. Ее даже на сейме называли вооруженным шанцем.
Совершенно справедливо говорит один из польских историков: что в этой пограничной области Речи Посполитой столько было гетманов, сколько старост, сколько поселившихся здесь коронных панов, сколько военных гениев. Много панских имен вписано в хронику мелких и крупных битв, которыми сдерживался напор азиатчины на Европу. Эти битвы имели характер самозащиты и потому не нарушали мира с Турцией; но Молдавское Господарство, колебавшееся, в своем вассальстве, между турецким султаном и польским королем, вызывало походы казакующей шляхты со времен Сигизмунда Августа.
Князь Димитрий Вишневецкий, погубивший себя одним из таких походов (1564), показывает нам, как много было общего между рыцарством днестровским и днепровским. Ходить за Днестр на разорение турецких городов и татарских уймаков, – было в обычае, как у днестровских, так и у днепровских казаков не только в эпоху Жовковского, но и в последовавшее за нею время.
После Московских походов, днепровские казаки пристрастились к морскому гостеванью, к «верстанью добычного пути» по Черному морю, и правда, что возбуждали турок на войну с Польшею. Но в то самое время, когда горел Синоп и падала руиной Кафа, князья Корецкие и паны Потоцкие, с казаками днепровскими, вторгались, вопреки мирным договорам, в так называемую Волощину, и король Сигизмунд III давал им на то свое тайное дозволение, совершенно так, как это делал он относительно панов, провожавших названного Димитрия в Московию. Он следовал правилу: чего нельзя воспретить, то надобно дозволить, а смысл этого правила был тот, что, в случае успеха предприятия, правительство могло им воспользоваться, в случае же неудачи, нарушение мира можно было взвалить на людей своевольных.
Зная это и даже служа посредником в сообщении королевской воли вельможным пограничникам, предводитель казацкой коммиссии не мог обращаться с днепровскими добычниками, в виду казачества днестровского, ни слишком сурово, ни слишком требовательно. Они же притом сослужили службу польскому оружию в тяжкое для Москвы время внутренних смут, и не дальше как в прошлом 1618 году помогли королевичу Владиславу примежевать к Польше Смоленск и часть Северщины. В предстоявшем отражении турок надобно было опять на них рассчитывать. И таким образом коммиссия, долженствовавшая погасить страшный домашний огонь, в искрах, только присыпала искры пеплом.
Но казаки были недовольны панами. Еще до столкновения с землевладельцами под предводительством Косинского и Наливайка, еще до 1590 года, когда правительство заявило свою решимость не терпеть казацких вторжений в соседние государства, казацких разбоев и грабежей над купеческими караванами, казацкого покровительства злодеям и государственным преступникам, запорожцы называли панов неблагодарными.
С кочевой точки зрения, они были нравы. Пограничные паны в начале были не что иное, как мелкие и крупные казацкие вожаки, и в панской среде было много таких, которые посвящали себя войне с неверными «на вечную память казацкого имени».
Польско-чешский геральдик XVI века говорит о них, точно о религиозных подвижниках, которые «презрели богатство и возлюбили славу защиты границ. Оставив земные блага (пишет он), претерпевая голод и жажду, стояли они, как мужественные львы, и жаждали только кровавой беседы с неверными».
Потомки рыцарей, внушивших Папроцкому красноречивое сравнение, явились в эпоху московских смут предводителями разбойников, но, воспитанные в одних боях и набегах, не сознавали себя ниже предков, а заслуги их перед королем и Речью Посполитою были между тем очевидны.
В результате опустошительного казацкого промысла получались такие события, как занятие московской столицы польским войском и примежевание к Польше московских областей. В награду за это паны предлагали тысяче казаков по червонцу да по поставу каразии на человека, и повелевали им выписать из казацкого реестра всех ремесленников и торговцев, состоявших в помещичьем подданстве или у самого короля с его старостами да державцами, или у королят, как называли казаки товарищей его правительственной власти.
Исполнив это повеление, казаки поставили бы себя в невозможность продолжать промысел, который обеспечивал их насущные потребности, и поневоле должны были бы претерпевать голод и нужду, которым славные предшественники их подвергали себя добровольно. Придавленные самою малочисленностью своею, казаки еще больше были бы стеснены запрещением проживать, в качестве самосудных людей, в королевских и панских имениях. Им не было дела до вреда, который вечно терпела бы шляхта, допустив казацкую республику гнездиться в недрах республики шляхетской.
Наливайков «кусок хлеба», который они имели бы в панских местностях на правах никому неподвластного рыцарства, по их воззрению на собственность, не должен был даже ставиться в счет, а отзываться к войсковому суду в своих обидах со стороны панов, это казалось им столь же естественным, как сами паны находили естественным составлять вооруженные съезды против экзорбитанций своих собратий.
Что в XVII столетии панские хозяйства держались уже не отдачею в аренду дубовых лесов для выпаса свиней, не конскими табунами, не стадами и отарами, не пасеками, бобровыми гонами да рыбными входами, как в XV-м и XVI-м, – этого казаки не соображали, и хотя видели, что продукты земледелия перевесили в панских имениях все прочие статьи дохода, но это им не нравилось. «Эй вы дуки, дуки! позабирали все луги и луки (говорили они): негде бедному казаку-нетяге и коня попасти» [39]39
Из старинной казацкой песни.
[Закрыть]. А надобность в обороне границ была еще так велика, что наполнять житом гумна казалось им столь же недостойным рыцаря, как это герольдик Папроцкий находил лет пятьдесят тому назад, когда колол глаза зажиточным польским панам убогою воинственностью панов русских.
Наконец, мир с турками, заключенный под условием уничтожения казаков, казался им повторением панской лиги с крымцами, устроенной против низовцев Стефаном Баторием. Если панскими силами предводительствовал не такой искусный гетман, как Жовковский, казаки наверное попытались бы завоевать себе то положение, в котором паны отказывали им при Наливайке. Но, как им ни было досадно панское полноправство на отвоеванной у татар сообща земле, не смели они ринуться на полководца, который с малыми силами побеждал массы москалей и отражал турецко-татарские полчища. «Мы ни под каким видом не согласны на такое огромное число казаков, какое ныне оказалось», говорили им на последней коммиссии землевладельцы устами коронного гетмана, а он был способен подтвердить решительное слово железными доказательствами (zelazne гасуе).
За невоможностью поставить на своем в Королевской земле, казаки обратились туда, где в их услугах нуждались больше. Месяца через два после Раставицкой коммиссии, атаман Одинец с 15 товарищами повез в Москву татарских языков и, от имени Запорожского войска вместе с гетманом его Сагайдачным, представил царю: что казаки «все хотят ему служить головами своими по-прежнему, как они служили прежним российским государям и в их повелениях были, на недругов их ходили и крымские улусы громили. А ныне (докладывал царю думный дьяк) ходили они из Запорог на крымские улусы, а было их с пять тысяч человек, и было им с крымскими людьми дело по сю сторону Перекопа, и Божиею милостью, а государевым счастьем, татар они многих побили, и народ крестьянский многий из рук татарских высвободили, и с тою службою и с языки присланы они к государю, и в том волен Бог да царское величество, как их пожалует. А они вместе головами своими хотят служить его царскому величеству, и его царские милости к себе ныне и вперед искать хотят».
К чести Москвы и её государственной политики надобно сказать, что боярская дума ни при царе Михаиле Федоровиче, ни при его сыне, Алексее Михайловиче, не переманивала к себе казаков из польских владений: она желала, чтобы южная Русь пришла к самоуразумению всею землею. Путивльские воеводы получили даже выговор за пропуск Одинца к столице без испрошения царского на то указа. Но предложения со стороны недавних своих разорителей служить великому государю по-старине Москва не отвергла.
Что касается казаков, то они виновными в Московском Разоренье себя не признавали. Они были добычники, терпимые всеми соседними народами, как и татары, по невозможности их уничтожить. Они служили из-за добычи каждому, кто ее за ними обеспечивал. Опустошив государство ради своего казацкого промысла, они теперь были готовы промышлять в его пользу, все равно как промышляли бы в пользу его врагов, даже в пользу самих татар и турок, если бы благосклонность крымского хана и турецкого султана понадобилась им так, как через двадцать восемь лет при польском Яне Казимире и через восемьдесят девять лет при нашем Петре Великом.
Так и смотрела на них Москва. Еще задолго до своего Смутного времени, в эпоху между бунтом Косинского и бунтом Наливайка, она высказала императорскому посланнику свое мнение о малорусских казаках. «Это люди дикие, необузданные, не имеющие страха Божия, и на верность их нельзя рассчитывать», говорили тогда думные дьяки в Посольском Приказе. Во времена московских смут и бедствий, запорожские казаки, наравне с польскими лисовчиками, московскою северскою вольницею и не признавшими еще московского подданства донцами, назывались у Москвичей ворами, а 1618 год не возвысил составившегося тогда о них понятия.
Тем не менее, однакож, Москва должна была иметь в виду, что Запорожское войско состояло преимущественно из людей православных, были ли то беглецы северно-русских, или же южно-русских украин, была ли то дворянская молодежь, или же была то кабацкая голь всех племен и состояний. Днепровские казаки, со времен героя Данила Адашева, часто избирали своими атаманами людей происхождения московского, и в свите атамана Одинца могли находиться такие люди. Во всяком случае царским советникам следовало предполагать, что запорожское товарищество относится не совсем равнодушно к событиям унии, которая православные церкви и монастыри передавала в руки папистов. Поэтому, похвалив казаков за то, что они ищут царской милости, думные дьяки спросили Одинца и его товарищей: нет ли от польского короля какого посягательства на их веру?
Вопрос этот был возбужден дошедшими до Москвы слухами, что польский король примирился с турецким султаном. В Москве знали, что Сигизмунд III состоит в дружбе с немецким императором Фердинандом II, великим поклонником римского папы, и что Фердинанд начал теснить у себя иноверцев. Поэтому думали: не находится ли в связи с начавшеюся в Чехии религиозною войною окончательное подавление православия в Польше? Но казаки отвечали, что «про цесаря и про папу ничего им неведомо, и от них тот край отдален, а посяганья на них от польского короля никоторого не бывало».
Такой ответ должен был поразить думных дьяков Посольского Приказа, то есть членов тогдашнего министерства иностранных дел. Им было известно, что по смерти отступника Михаила Рогозы киевским митрополитом сделан Ипатий Потей; что по смерти Потея митрополия, с приписанными к ней имуществами, предоставлена такому же униату, Иосифу Велямину Рутскому, и что при этом митрополите, Полотской архиепископии, обрезанной в пользу иезуитов еще Стефаном Баторием, грозило окончательное совращение в унию. Недавняя уступка Польше Смоленска сделала Москву больше прежнего чувствительною к успехам папизма на древней русской почве.
С своей стороны паписты направляли все усилия свои преимущественно к тому, чтобы на границах Польши с Московским царством поставить крепкие устои завоевательной римской церкви. С этою целью для киевской митрополии был воспитан специально в Риме сын московского подданного Велямина, взятого пленником в 1578 году, под рекою Улою, и поселенного в Литве на правах шляхтича, а для полотской архиепископии образован местными средствами иезуитов сын новоград-волынского мещанина, Иосафат Кунцевич.
Превращение православия в униатство велось чрез посредство этих агентов двумя различными, но параллельно идущими путями. Рутский, пребывая на Волыни, в Червонной Руси и в Киевщине, привлекал к унии основанием народных школ, образованием трезвых и набожных монахов базилиян, дружеским общением с православными и кроткою проповедью домашнего благоустройства. Этим он уничижал, в глазах порядочных шляхтичей и мещан, невежественную и запальчивую толпу православных монахов и попов, заключавшую в своем составе чрезвычайно мало людей, не то что благовоспитанных, но хотя бы чуждых общему на пограничьях пороку пьянства.
Напротив Кунцевич апостольствовал в Белоруссии посредством казуистического принуждения к перемене веры. Иезуиты поддерживали при дворе его казуистику и подавали королю к подписанию мандаты против мещан, сопротивлявшихся введению унии, как против нарушителей общественного спокойствия. С ним было страшно состязаться на суде и мирянам, и духовенству. Всюду имел он благоприятелей, задобренных, или же фанатизованных иезуитами. Искусно и вместе дерзостно «подводил он под криминалы» непослушных своим распоряжениям, по внешности законным. Даже православная проповедь, утверждавшая народ в религии предков, истолковывалась им, как поджиганье черни к мятежу. Искренно веруя в святость римского папы, как Христова наместника и главы церкви, он, как бы в подражание политике немецкого императора, домогался изгнания из государства всех отвергающих единство двух церквей.
Ни православная, ни союзная с нею протестантская шляхта не смела тягаться с Кунцевичем за церковные имущества. Правда, земские послы вопияли на сеймах, что приходские церкви противившихся унии мещан стояли запечатанными; что изгнанные из приходов священники скитаются в нищенстве; что православное богослужение отправляется в шалашах; что и самые шалаши подвергаются разрушению от униатов; что городской народ, разлученный с приходскими священниками, собирается для общественной молитвы под открытым небом в поле; что православным мещанам запрещают рыть могилы рядом с могилами предков; что погребенных по православному, без униатского священника, выбрасывают из гробов; что многие, из-за гонений на православный обряд, остаются некрещенными, и вступают в брачное сожительство без церковного благословения. Но королевская партия отделывалась – то отсрочками, то обещаниями, то публикациею сеймовых постановлений, которые по-старому оставались мертвою буквою, а православная церковь между тем пустела и уничтожалась.
Полотск, древнерусский Полтеск, сделавшийся притоном иезуитов еще во времена Иоанна Грозного, сильно пропагандировал сочиненную иезуитами унию, и в Смоленске, уступленном Польше царем Михаилом, появились уже православные попы, готовые идти по следам отступника Кунцевича.
В этот критический момент малорусского православия, когда знаменитые слова Иоанна III о Киеве и других отчинах московских государей обращались в ничто, Москва была поддержана в своей церковно-государственной политике появлением среди царских советников двух важных деятелей. С Запада прибыл в столицу ростовский митрополит Филарет Никитич Романов, с Востока – иерусалимский патриарх Феофан.
Отец избранного на царство в 1612 году Михаила Романова в монашестве Филарет, сделался польским пленником в 1609 году вместе с братьями Шуйскими и другими знатными московскими людьми. Он был заключен в Мариенбургской крепости, и только по Деулинскому договору получил наконец свободу. Один из наших историков, повторяя письменные предания Смутного времени, выставляет в характере ростовского митрополита черты двуличности и изменчивости, которых отнюдь не замечает в «святопамятном» князе Василии. Но он забыл упомянуть, что в 1618 году, когда в Деулине шли переговоры с польскими уполномоченными, Филарет Никитич прислал из своего заточения наказ: чтобы для освобождения его из плена не уступали полякам ни одной пяди русской земли. На наш взгляд, один этот поступок достаточно говорит о нравственном темпераменте церковно-государственного подвижника. Филарет Романов, после девятилетнего плена, воспользовался переменою обстоятельств не так, как это сделал бы человек, способный к двуличности и изменчивости. Он помышлял не о собственном благоденствии, а о таких великих делах, как подъём на русском юге приниженной папистами православной церкви. Проведя столько времени среди иноверцев, он лучше прежнего знал, как поддержать падающее в земле Мономаха православие.
События церковной унии в Польше и Смутного времени в Московском царстве разобщили было Русский мир с восточными патриархами. Но лишь только Москва оправилась после своего Разорения, снова сделалась она упованием турецких славян и греков, а восточные патриархи опять стали помышлять о возобновлении с нею сношений. Общим собором избрали они иерусалимского патриарха Феофана для путешествия к «единому православному царю» и для устройства «обоих пределов» (Русской земли), как говорится об этом в современном московском сказании. Опасно было путешествие, как это мы видели на греке Никифоре, и трудно было выполнить задачу его. Но, по словам московского сказания, товарищи патриарха видели в Феофане «воеводу крепка и сильна, могуща тещи путь от Востока до Запада, ни оруженосцев, ни броней мужеских, но токмо едино слово Божие во устех имуща, могущее разорити тверди неодолеваемыя». Неодолеваемыми для Москвы твердями были, в данном случае, иезуитские происки, отделившие посредством унии одну русскую церковь от другой и устремившие южных Русичей, под польскими знаменами, на Русичей северных.
Первым делом Феофана было заместить московский патриарший престол, остававшийся праздным с 1612 года после Гермогена, о котором, как и о Филарете, тот же историк собрал в одно месиво современные россказни, но который явил себя героем-мучеником веры и народности в самый опасный для России момент её борьбы с Польшею. Никто не мог наследовать великодушному Гермогену достойнее того, кто, будучи царским отцом, готов был скорее умереть в заточении, нежели купить свободу уступкою врагам хотя бы одной пяди Русской земли. Воссев на патриаршем престоле, Филарет Романов сделался новым органом великой мысли русского воссоединения, которая проявилась уже во времена Иоанна III так выразительно, что не могла исчезнуть ни в эпоху безумия Грозного, ни в Смутное время, порожденное кознями Бориса Годунова с одной стороны и Римской Курии с другой.
Утраченные документы тогдашней деятельности Москвы по этому предмету, без сомнения, заключали в себе указания на способы, которыми была обновлена связь, державшая в совокупности всю древнюю Русь, разъединенную уделами. Уцелело только свидетельство, что малорусских казаков расспрашивали в Москве о работе римской политики. Для нас очевидно, откуда шли расспросы. Царствование Михаила Феодоровича имело характер теократический. Патриарший престол стоял тогда рядом с царским, и вопросы иностранной политики делались вопросами церкви. Начавшаяся в Западной Европе тридцатилетняя война не могла оставить без своего влияния Москву Романовых. Погром чехов на Белой Горе, публичные казни чешских борцов за веру, сожжение всех чешских книг и рукописей среди Праги, запечатание всех иноверческих церквей в годовщину сожжения Гуса и многочисленная эмиграция чешских утраквистов по фанатическим узаконениям Фердинанда II – должны были вдохновлять вернувшегося из польского плена Филарета на противодействие папскому главенству в Малороссии.
Хотя казаки отозвались о королевской нетерпимости исчужа, но к ним, как видно из последовавших явлений, приступили с новыми расспросами и к расспросам, без сомнения, присовокупили внушения. Казацкие сердца был доступны, если не той религии, которая выражает себя делами милосердия, то – религии ужаса перед карающим Божеством. На них, как мы догадываемся, подействовали в Москве с этой стороны. Окруженный почетом в царском обществе, Феофан мог возыметь на атамана Одинца и его товарищей такое могущественное влияние, какое римский первосвященник оказывал на жестокосердых рыцарей католичества. Еще вчера чуждый интересам православной церкви полудикий наездник мог сделаться сегодня ревностным её слугою и казацкие послы, хлопотавшие в Москве о войсковых интересах своих, могли вернуться к своему гетману с миссиею церковною, а недовольные королевским правительством казаки-шляхтичи, назло правительственным панам и официальным пастырям их душ, могли заговорить о своей вере, на которую, по словам Одинца и его товарищей, от короля никоторого посяганья не бывало.
Мы ничего не знаем об этом положительно; но нам известно, что в 1618 году казацкий гетман Петр Конашевич Сагайдачный, ради польского королевича, разорял Московское царство, не щадя в нем ни церквей, ни монастырей, а в 1620-м сделался в Польском королевстве передовиком православного движения.
Он был воспитанник Острожского училища, и хотя бежал в казаки от горькой в те времена «школьной чаши», но хлопоты православников при дворе князя Василия могли заронить в душу юноши мысль о бедственном положении отеческой церкви, и эта мысль выразилась теперь деятельным покаянием. Обратный путь свой Феофан направил через Малороссию и был конвоирован казаками Сагайдачного от ближайшего к московскому рубежу Густынского монастыря до Киева. В Киеве Сагайдачный, в противоположность князю Острожскому относительно грека Никифора, делал долговременное пребывание патриарха совершенно безопасным от всяких посягательств королевской партии, которая готова была объявить его как Никифора, да и объявила таки в последствии, турецким шпионом.
Феофан медлил с возвращением в Грецию. Он, очевидно, имел в виду смелое дело, обессмертившее его в истории, и выжидал только событий.
События сложились благоприятно для его важной миссии. Воинственная часть польско-русского общества, подкураженная недавними успехами Московского похода, побудила Сигизмунда III предупредить войну, которою грозил ему молодой Осман и вооружить против турок Волощину, с тем чтобы, поддерживая господаря своим войском, защитить Польшу его княжеством, точно щитом. К воинственным мечтаниям одних панов присоединились интриги против Жовковского других. Король настоятельно потребовал от него похода, обещая прислать ему подкрепление. Но подкрепления посланы не были. Турки и татары окружили коронное и панское войско во время его отступления с долины Цецоры и разбили наголову. Знаменитый полководец пал в битве; его товарищ, полевой коронный гетман, Станислав Конецпольский, был отведен пленником в Стамбул. Мир с Турцией Польша нарушила, а продолжать войну было ей нечем. Из Царьграда приходили между тем вести о громадных приготовлениях Османа II к походу. Речь Посполитая находилась под гнетом страха. Присмирела и королевская партия, добивавшая малорусское православие посредством униатских иерархов.
Этим моментом воспользовался Феофан, и с сентября 1620 года начал посвящать ревностных к отеческой вере архимандритов и игуменов на опустевшие для православных владычества. Октября 6 посвящен им на перемышльское епископство Исаия Копинский; октября 9 – на киевскую митрополию Иов Борецкий, а на епископство туровское и пинское грек Аврамий; в начале декабря – на полоцкую архиепископию Мелетий Смотрицкий; наконец, в январе 1621 года – на епископство владимиское и берестовское Иосиф Курцевич, на епископство луцкое и острожское Исакий Борискович, а на епископство холмское и белзское Паисий Ипполитович.
Все эти кафедры были заняты панскими ставленниками, архиереями униатскими, во владении которых находились и приписные к владычествам церковные имущества.
Православные архиереи оставались всё теми же архимандритами и игуменами убогих монастырей, которых не захватили еще униаты. Но иезуиты были сильно встревожены появлением православной иерархии в виду созданной ими иерархии униатской. Не успел патриарх Феофан удалиться из пределов Польши, как они заставили короля подписать универсал об изловлении и предании суду самозванных архиереев, нарушителей общественного спокойствия. Великое дело восстановления киевской митрополии готово было рухнуть столь же внезапно, как внезапно совершено оно.
Но движение турецких сил к Днестру представлялось правительству, по преувеличенным слухам, повторением Ксерксова похода в Грецию, и в самом деле Осман II грозил стереть Польшу с лица земли. Опасность была велика. Король с большим трудом собрал тысяч тридцать защитников днестровской границы. Этого войска было недостаточно. Пришлось обратиться к казакам.
Казаки, как и татары, с начала и до конца своего существования, разделялись на несколько не только независимых одна от другой, но и враждебных орд. Соединить их и направить к одной цели мог только популярный и вместе грозный для соперников атаман-предводитель, каким был Сагайдачный. Он это знал. Знали это и королевские агенты, трудившиеся в Украине над вербовкою Запорожского войска.
Когда им было объявлено, что казаки не пойдут на турок, если мандаты против новых архиереев не будут отменены, король нашелся вынужденным сделать попятный шаг в церковной унии, которая была его гордостью, его любимою мечтою.
Так уцелела киевская митрополия, противозаконная в глазах правительства и не поддержанная ни одним польско-русским магнатом, хотя многие великие паны исповедовали еще православную веру. Только глава протестантов, князь Христофор Радивил, сын Христофора, прозванного Перуном, по фамильной политике своей, оказал покровительство новому киевскому митрополиту, Иову Борецкому, – и замечательно, что Иов Борецкий, в письмах к Радивилу, называет его заступничество таким подвигом, который «достоин памяти всех грядущих веков».








