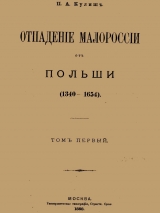
Текст книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"
Автор книги: Пантелеймон Кулиш
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
В числе избранных особ, с которыми князь Василий беседовал наедине, были два агента иезуитской факции, Кирилл Терлецкий и Ипатий Потей. Каждый из них происходил из знатного панского дома, и оба считались «головами не малыми» среди православников. Терлецкий был сперва протопопом в Пинске, а с 1585 года, по протекции князя Василия, король сделал его владыкою луцким и острожским; а Потей, будучи родственником князю по жене, получил место брестского каштеляна, а в 1593 году сделали его Владимирским владыкою. Они пользовались свободным доступом к «верховному хранителю и защитнику православной церкви», как величали князя Василия духовные панегиристы, и при всяком удобном случае преподавали ему, точно катехизис, те мысли, которые иезуит Скарга высказал в посвященной ему книге.
Могущественный князь не оспаривал того, что церковная уния дело спасительное, а собеседники распространяли благосклонные слова его в обществе и настраивали общественное мнение так, как того желали католические клерикалы. Но, зная, как зыбок Начальник Русского Православия в своих намерениях, и видя его тесную дружбу с протестантами, не смели открывать ему всех своих замыслов, а вели дело так, чтобы поставить его в невозможность противодействовать им. Король Сигизмунд III поощрял тайком обоих епископов своими милостями и обеспечивал своею властью. В заговоре с ними был и киевский митрополит Михаил Рогоза, воспитанный в иезуитской школе высших наук и приготовленный к предстоявшей ему роли заблаговременно. Но этот не высказывался вовсе, и держал себя неопределенно между папистами и православными, как и сам князь Василий. Прочих малорусских архиереев приготовляли иезуиты к отступничеству обещанием королевских пожалований. Но православных иерархов, сравнительно с католическими убогих, не столько прельщали бенефиции и даже обещанное им заседание в «сенаторской лавице», как то, что соединение с католиками под верховною властью римского папы освободит их от вмешательства в духовные дела светских панов, которые, в качестве патронов, держали высшее духовенство, как и низшее, в полной от себя зависимости и, вписываясь в братства под именем старших братчиков, передавали письменно свой авторитет братчикам младшим, а младшие братчики, будучи торгашами, чеботарями, воскобойниками и т. п., верховодили в церковной иерархии на основании купленных у константинопольского патриарха грамот.
Терлецкий и Потей не раз писали к князю Василию, советуясь, как бы великое и спасительное дело церковной унии довести до конца без особенной тревоги в обществе, наконец повернули круто, и в 1595 году, получив от короля субсидию, отправились в Рим просить папу от имени «всех христиан» простереть свое главенство и на Русь. Этот поступок оскорбил князя Василия смертельно.
Возненавидев унию, которую до сих пор лелеял, как практик-эквилибрист, он отправил посла на протестантский съезд в Торне, и в инструкции послу написал такие угрозы королю и католической шляхте, как будто готовился идти на них войною. Инструкция каким-то случаем очутилась в руках у короля. Вельможный защитник православия испугался своей смелости, и дал королевской партии тем легче довести дело церковной унии до конца.
В октябре 1596 года, в городе Бересте, или Бресте, который в Москве называли Литовскою Брестью, собрался синод из представителей греческой и римской веры.
Много было говору и крику между православниками и в самом Бересте, и по всей польской Руси. Думали, что князь Василий, обладавший миллионами наличных денег, являвшийся на варшавский сейм с артиллериею и многочисленным войском, имевший возможность призвать к оружию десятки тысяч своих подданных и вассалов, думали, что он и совершит в самом деле что-то чрезвычайное на защиту веры знаменитых предков своих. Но «верховный хранитель и защитник православной церкви» не в силах был оборонить даже берестовских попов и мещан, которые, в уповании на его могущество, выступили против королевской партии с такими смелыми речами, что их посажали в тюрьму и объявили банитами. Еще больше посрамил себя «святопамятный» тем, что, пригласив на собор протопотария константинопольского патриаршего престола, Никифора, допустил противной партии сделать из него турецкого шпиона и посадить в мариенбургскую крепость, где он и скончался. Титул протектора русской церкви носил Острожский из одной панской гордости да для острастки своих политических противников. Но, когда они показали, что не боятся той Руси, которую он якобы представлял в своей особе, тогда он сделался настолько смиренным и бессильным, насколько прежде казался гордым и могущественным. Борясь до упадка с утвержденною уже и обнародованною королем униею, львовские мещане спрашивали у него, что же им наконец делать? И князь Василий отписал им: «Терпеть, терпеть и терпеть».
Так исчезла надежда православников на поддержку со стороны дома Острожских.
Так низко пало знаменитое начальство этого древнего княжеского рода над нашею церковью. Спустя десятилетие по обнародовании церковной унии, в числе православных панов не осталось ни одного Острожского. С другой стороны, протестантское движение ознаменовало себя у нас только тем, что испуганные церковными братствами иерархи должны были искать у римского папы защиты от грубого вмешательства мещан в церковные дела. Между тем наши паны, сделавшись протестантами, перестали быть в глазах русского народа Русью, так точно, как и те, которые совратились в католичество. Озлобленное папистами духовенство стало указывать на отступников, как на своих гонителей, и безразлично называло ляхами всех исполнителей правительственных распоряжений, так что слова лях и пан сделались у нас на Руси синонимами [5]5
В тогдашнем языке слово лях означало у нас русина, отпавшего от православия; исконных же католиков называли мы поляками. Поэтому и в современной московской письменности встречаем поставленные рядом слова ляхи и поляки, как названия не однозначащие.
[Закрыть]. Земские послы, законодательствовавшие вместе с королевскими сенаторами на дворянских сеймах или вечах; земские и замковые судьи, охранявшие общественное право; коронные ополчения, навербованные свободно не только в католическом, но и в православном населении Польши для отражения татар и турок, для войны со шведами и Москвою, все это были у нас ляхи. С другой стороны, раздраженные русскою закоренелостью проповедники более человечной, как они думали, веры прозвали православие религиею волчьею, и потешали себя выходками против неё школьников своих. Но клерикальное деление наших предков на ляхов и русинов не осталось достоянием одного келейного фанатизма. Из уст поповских оно перешло в сердца мирян, и повело к таким комбинациям, в силу которых задача религиозного единения Польши должна была разрешиться её социальным раздвоением.
Под влиянием иезуитски религиозно проповедуемого единства, идея русской народности до того была наконец подавлена в Малороссии, что уже князь Василий, отправляя сына в заграничное путешествие, напутствовал его словами: «Помни, что ты поляк». При его наследниках, на Днепре и Днестре водворилась Польша, или то, что народ называл Ляхвою, и вскоре иезуиты раскинули свои преобразовательные училища от Полотска до Переяслава, от Ярослава Галицкого до Новагорода Северского. Ни наука, ни литература, ни высшее общежитие, ни даже богатство не представляли в себе русского элемента. Он держался только там, где, по невежеству, не умели говорить и писать по-польски, или где церковная обрядность не доспускала польщизны и латыни. Но именно этим отособлением господствующей части малоруссов от подчиненной, которое составляло главную заботу иезуитской педагогии, правительство Речи Посполитой Польской выдвинуло на сцену действия те силы, которые обратили в ничто и темные интриги Римской курии в Польше, и подвиги непричастных к ним, представителей польской народности в Малороссии.
Глава II.
Польские мещане и польская шляхта. – Земледелие и городская промышленность. – Польско-русские крестьяне. – Столкновение европейского хозяйства с азиатским. – Малорусские крестьяне в новых колониях. – Соперничества между мещанами и шляхтою. – Колонизация малорусских пустынь. – Украинные города. – Зарождение казачества. – Вражда казаков к мещанам и к панскому правительству. – Мысль об уничтожении казачества.
В то время, когда иезуиты трудились над созданием единой веры и единой национальности в составе польского дворянства, это дворянство обратило свою хозяйственную деятельность на извлечение доходов из роскошных пустынь малорусского края, не тронутых плугом со времен татарского лихолетья.
Экономическая сторона польско-русской истории сама по себе интересна. В связи с событиями, к которым привела польских и наших малорусских панов хозяйственная деятельность, интерес её делается трагическим.
Коренная или старая Польша [6]6
По её образу и подобию сформировалась Новая Польша, как называли современные польские политики нашу Малороссию.
[Закрыть] делилась весьма выразительно на городскую и сельскую. Городская принадлежала почти исключительно выходцам из других, более цивилизованных или более беспокойных стран. Сельская составляла почти исключительную собственность туземцев. По наследственным рыцарским понятиям, для шляхтича было унизительно заниматься мещанскими промыслами и торговлею. Только война да земледелие были ему приличны. С другой стороны, польский мужик был так прост и патриархален, что в городском быту не мог выдерживать соперничества с пришельцами. Остальное состояние обоих этих сословий, сравнительно с обитателями европейского Запада и Юга, соединяло нравственные и вещественные силы их в нераздельную, вольную и невольную предприимчивость. Пан, в качестве землевладельца, должен был увеличивать рабочие средства мужика. Мужик в качестве зверолова и номада, интересовался привольем и обширностью панских угодий. Свидетельством взаимного согласия этих двух состояний, или естественного сродства их до времен Ягайла, служит нам необыкновенно густое население Краковской, Сендомирской, Мазовецкой, Великопольской и Малопольской земель, почти не увеличивших количества своих сил с XII и XIII столетий до XVIII-го.
Это согласие, имевшее, конечно, свои печальные исключения, начало нарушаться разными обстоятельствами, вытекавшими из той личной свободы, которой искони домогались, которою всего больше дорожила и гордилась польская шляхта. Оттягав у своих государей существенную часть древнего княжеского права (jus ducale), но не развив общественности в соответственной степени, сарматские землевладельцы не умели водворить мир и порядок в своем привилегированном сословии, делали взаимные захваты земли, полевых урожаев и всякого иного имущества, а съезжаясь на свои сеймы, или веча, превращали их в такие побоища, какими отличалось вечевое время наших удельных князей и их дружинников. Отсюда у «низшей шляхты», или мелких дворян, возник обычай «отдавать себя под панский щит», то есть собираться вокруг воинственного землевладельца и общими силами домогаться боевого правосудия, а у людей побогаче или позавзятее – выставлять свой щитовой герб, называвшийся проклямою, иначе зазывом, и обязывавший всех родных и всех принявших тот же герб в знак союза, или «клейнотничества», являться на клич своего предводителя. Обычай этот имел то практическое значение, что воинственные и предприимчивые шляхтичи, с помощью своих вассалов, увеличивали наследственные имения свои или фактическим захватом, или перевесом вооруженной силы на судебном вече. Наконец, и безо всяких неправд, люди с характером гордым должны были заботиться о крупности своего землевладения и увеличении доходов своих для того, чтобы не сделаться игралищем загребистого соседа. Имения и доходы увеличивались, как исходатайствованием у короля пожалований и особых привилегий, так и покупкою земли у мелких владельцев, которые предпочитали продать свои ланы и леса одному шляхетному «дуке», нежели видеть их присвоенными другим.
Так, в отдаленные времена, было положено начало польскому можновладству, или вельможеству, которое, в видах сохранения между панами политического равновесия, образовало в Польше несколько десятков удельных княжеств, под названием панских добр, ключей, волостей, и поделило шляхту на несколько вассалствующих партий. По свидетельству Длугоша, уже в XII веке было в Польше семьдесят таких панских домов, которые «поднимали щит» от собственного имени и, пренебрегая, в сознании силы своей, именем шляхтичей, называли себя панами.
Перевес на ту или другую сторону боевой силы и достатков борющихся землевладельцев побуждал крестьян перебегать к тому пану, у которого было им побезопаснее и попривольнее. Так как было бы напрасно требовать от соседей, чтоб они не принимали к себе перебежчиков, то шляхта уже в конце XIV столетия пришла к необходимости налечь законодательными правами своими на крестьян, и добилась того, что вольным до тех пор кметям было запрещено переходить с места на место. В польских займищах происходило таким образом нечто подобное верхнему и нижнему течению воздуха. Требования жизни и быта велели крупным землевладельцам расширять свои имущества на счет мелких, и те же требования побуждали крестьян из имений мелких стремиться туда, где было попривольнее.
Подобное же движение происходило в Польше и относительно соседних племен.
Смешанное население Немецкой Империи, томимое феодальными смутами и сознававшее превосходство в промыслах над отсталым поляком, постоянно выселялось в полудикую Сарматию, как в старину сравнительно тихую и обещавшую больше прибыли. Здесь, как и в дотатарской Малороссии, хлопотали издавна о заселении городов немецкими выходцами, и представляли немцам (как называли и немецких славян) сохранять законы и обычаи родного их края. Но сельское население смотрело на пришельцев, как на людей нечестивых. В праздничные дни немцы устраивали у церквей торги с кабаками, музыкой, песнями, которые нарушали чин богослужения и отвлекали молодежь от молитвы. При этом ремесленные цехи, всегда враждебные друг другу, заводили обыкновенно драки, в которые вмешивали и подпоенных мужиков. Если же после драк запивали мировую, то общее согласие цехов было еще вреднее для сельских жителей, чем их раздоры. Пользуясь коммерческой организацией своею, мещанские цехи устанавливали произвольные цены привозимым на рынки товарам. Напрасно местные воеводы и старосты публиковали собственный тариф; оборона от немецких торгашей была не по силам для отсталых в культурном пройдошестве поселян.
Чувство отвращения сельской Польши к городской увеличивало еще распущенность семейного и общественного быта, не виданная ни в панских домах, ни в селах. Было известно, что немцы, независимо от церковных браков, заключали новые браки посредством обливанья, то есть попойки, и что этим способом держали по нескольку жен. Было также известно, что городские цехи, называвшиеся братствами, собирались в свои частные заседания не для разбора дел, а для безобразного бражничанья, которое называлось Вruderbier. При этом, как и во время ремесленных работ, немцы одевались в такие короткие и странные одежды, что даже смотреть на них считалось непристойностью. Празднуемый же немцами понедельник отличался крайним буйством и распутством, точно языческая вакханалия.
Все это было возмутительно уже само по себе, как для помещиков, так и для степенных крестьян. Но города, наполненные и организованные немцами, досаждали полякам еще больше тем, что заманивали к себе на заработки сельскую молодежь обоих полов, которая, заразившись привычками разгульной жизни, норовила оставить сельский быт навсегда. Каждый дурной член сельского общества, совершая свои проказы, имел в виду укрывательство среди мещан, под их одеждой, делавшей беглеца неузнаваемым. А хотя бы перебежчик и был узнан в городе, то польские немцы имели обычай не выдавать пришельца; в случае же крайности, спроваживали его в другой город и даже за границу. По мере того, как заграничные города извергали из себя все им ненужное, тягостное или вредное в сельскую Славянщину (ибо не лучшие, а можно сказать, одни худшие немцы переселялись в Польшу), они из сельской Славянщины привлекали молодых людей, поставленных в необходимость работать им за кусок хлеба, то в виде бесприютных бродяг, то в виде ремесленных учеников. Кроме того, перед началом каждой жатвы, заграничные немцы, чрез посредство польских граждан, вербовали в Польше сельских работников, и подрывали таким образом сельское хозяйство польское.
Убыль рабочей силы от соседства полунемецких городов и от вербовки крестьян для заграничных заработков заставляла землевладельцев принимать противодейственные меры. На шляхетских съездах выработался наконец закон, дозволявший отлучаться в города и за границу только тем членам крестьянских семейств, которые составляли в них как бы излишек. Положение сельского мужика затруднялось, но затруднялось в соразмерности с тем, как нарушал он обязательства своего подданства, первоначально добровольного. За невозможностью в том веке принять меры более человечные, одно зло нейтрализовалось другим. Оба, соединенные нуждой, сословия искали выхода из местных обстоятельств, и каждое находило его в том, что зависело от него.
Недовольный паном мужик бежал к его соседу, или в городские цехи. Обманутый мужиком пан ограждал свое хозяйство строгими мерами закона.
Когда экономические дела находились в таком натянутом положении, оба хозяйственные класса, эти, можно сказать, две руки одного и того же промышленного тела, напали на такой из него выход, который обещал им восстановление согласия, нарушенного соблазнами грубой свободы. Этим выходом было заселение малорусских пустынь, открывшихся перед нами после соединения Литвы с Польшею, или гражданской унии, совершившейся в Люблине 1569 года. Но здесь и паны и их подданные встречали новые препятствия к экономическому благоденствию.
Землевладельцам Польской короны в её соединении с Великим Княжеством Литовским открылся простор для сбыта сельских произведений в порте Балтийского моря и для устройства землевладельческих хозяйств на обширных пространствах, бывших до тех пор ареною пограничных наездов и сшибок с литовскою Русью. В бедственную для Польши эпоху, когда Литва была еще свирепой язычницей, поляки, содействуя распространению христианства и желая развить силы хищных соседей, уступили свое балтийское поморье тевтонским рыцарям, как воинам Св. Креста.
Тевтоны, или Крыжаки, отплатили за это полякам войнами, заставившими их искать союза с той же, уже полуправославною Литвою. Результатом соединения двух племен в одно государство было подчинение Крыжаков польскому владычеству и открытие свободного доступа водою в Балтийское море. Это море, почти не нужное Польше во времена оны, теперь, с развитием её экономического быта, вернулось к ней, словно доходное имение после убогих в своем невежестве предков. Панские добра, облегченные от общественных тягостей привилегиями, стали приносить неслыханные до тех пор доходы. Громадные состояния вырастали при одних и тех же рабочих силах, а избыток денежных средств дал новое движение экономической предприимчивости.
Тогда-то пригодились польским панам нетронутые плугом пустыни соседней Литвы, вернее сказать – Литовской Руси, сделавшейся Русью Польскою.
Но не вдруг оправдались надежды польских экономистов. Турки давно уже грозили Европе завоеванием, и это требовало от неё чрезвычайных усилий самосохранения.
Как передовой пост европейской культуры, Польша больше других стран подвергалась опасности. Уже сын Ягайла, Владислав III, пал в бою с Алуратом II под Варною (1444).
При его преемнике, Казимире IV, подвластные турецкому султану крымцы уничтожили на Черном море принадлежавший Польше, чрез посредство литовской Руси, порт Кочубей (ныне Одесса), который, во времена существования Византийской империи, снабжал Царьград и греческие острова подольскою пшеницею. Литворусские займища в устьях Днепра и Днестра сделались турко-татарскими. В 1482 году хан Менгли-Гирей сжег и заполонил пограничный польско-литовский город, столицу дотатарской Руси, Киев. Через десять лет отстроен крымцами, по распоряжению турок, Очаков, стоящий на польско-русской земле, а потом и Тегиль (в старину, как и ныне, Бендеры), которую литовские государи, в спорах с ханами, называли своею отчиною. Черноморская торговля русским и польским хлебом уступила место татарской торговле русскими и польскими пленниками. Напрасно король Ян Альберт пытался отнять у турок Волошину или Молдавию, которая, будучи ленным владением Польской Короны, закрывала Подолию и Червонную Русь, «как щитом». Войско его, заведенное предательски в так называемые Буковины (непроходимые леса горной Молдавии), было побито до остатка (1498), и открыло туркам, татарам и переменчивым волохам дорогу в Подолию, откуда пожары и полон разлились до самого Львова. Только чрезвычайно морозная зима того года, истребившая десятки тысяч наездников, спасла Польшу от азиатского завоевания.
При таких обстоятельствах подвигаться с хозяйственными займищами к востоку было делом не одного экономического рассчета, но и рыцарского геройства. В конце XV и начале XVI столетия татар видали не только на правой, но и на левой стороне Вислы, у Сендомира и Опатова. Небезопасен был от них даже Пацапов, и в самом Кракове не раз бывал переполох от их близости; а в 1578 году Орда окружила было свадебную компанию князя Василия, праздновавшего брак старшей дочери своей с Радивилом Перуном.
В эти времена борьбы с азиатцами за безопасность панского плуга, экономический быт польско-русской республики, называемой Речью Посполитою Польскою, представлял замечательное противоречие между юридическим гнетом чернорабочего, пахарского класса крестьян и фактическим согласием его с органами законодательной власти, землевладельцами. Мы читаем в сеймовых постановлениях драконовские законы о панских подданных, а под теми же годами находим постановления об учреждении новых поветов и новых воеводств в украинной Польше, «по причине сгущения рыцарской людности» на всем пространстве от Карпат до Нарева и от Днестра до Случи. Рыцарская людность, то-есть шляхетчина, на пограничье, выставленная против азиатских добычников, шла не одна: ее сопровождали те самые кмети, крестьяне, или подданные, против которых на шляхетских съездах придумывались все более и более стеснительные меры.
Это движение происходило в силу давления можновладцев на мелкопоместную шляхту, которая, вместе с своими подданными, приходила в упадок по мере того, как землевладельцы крупные, путем получаемых от короля привилегий, захвата и подкупа, увеличивали имущества свои. Обеднелые, или теснимые шляхтичи, вместо того, чтобы делаться слугами и вассалами собратий своих, хотели в новых займищах, в дешевых приобретениях и на заслуженных у короля, или у магната, пустопорожных местах, доказать справедливость гордой пословицы: «Шляхтич в огороде равен воеводе».
Составляя аванпосты польско-русской колонизации пустынь от Вислы к Днепру, они вели с собой крестьян, лишенных всякой свободы и даже собственности по букве панского законодательства, но вели не насильственно. Эти крестьяне были частью беглецы из соседних имений, рассчитывавшие на пустынность пограничного края, недоступную для сыщиков, но частью и такие подданные, которые смотрели на побеги сельской молодежи и сельских негодяев глазами своего пана. В обоих случаях сближение их с землевладельцем было не только естественное, но и необходимое.
Праздность в новозанятых пустынях показывалась голодом, а недостаток повиновения набегами крымцев, ногайцев и самих волохов, которые с подчинением азиатскому господству сделались для полякоруссов такими же хищниками, как и татары.
Пограничный землевладелец был глава хозяйственной ассоциации и вместе с тем – предводитель боевой дружины. По существу факта, он был не столько дедич новозаселенного займища, сколько его завоеватель. Посредством выселения шляхты в украинные земли, к старому, или сравнительно старому, краю прирастал новый, основанный на том же начале шляхетской вольности, но без её произвольных и вынужденных обстоятельствами злоупотреблений, – край, обещавший быть настолько лучше старого, насколько колонии всегда бывают лучше метрополий своих. Но турки, стремясь занять славянскую почву Европы, в авангарде своего движения к западу посылали беспощадных опустошителей, татар, которые, зарабатывая свой насущный хлеб грабежом и ясыром, выжигали опустелые села и покинутую разбежавшимися пахарями жатву из любви к дикому простору. Все, что могли предпринять против азиатских набегов мелкие владельцы в своих колониях, оказывалось недостаточным.
Свободолюбивые шляхтичи, бредившие равенством с магнатами, сами были готовы молить вельможных притеснителей о принятии их под свой могущественный щит. Но шляхетские дуки, в свою очередь, страдали от можновладства, которым подавляли низшую шляхту. Изнурясь в борьбе с людьми более сильными, или же искусными в придворных происках, они искали поприща для своих талантов на окраинах польско-русской республики, в стране, которую молва сравнивала с Индиею и Новым Светом.
Они выпрашивали себе у короля пожалование так называемых пустынь, под условием защиты их от азиатцев, а не то – покупали эти пустыни у владельцев бездейственных, или же захватывали по праву сильного; высылали в опасные места осадчих с компаниею вооруженных людей и с огненным боем; иногда являлись лично в виде королевского старосты пограничного городка, например Канева или Черкасс, в виде воеводы такого разоренного города, каким был Киев после 1482 года; и этим способом среди вольной, равноправной шляхты, с её свободными подданными, возникало то же самое можновладство, которое томило шляхту в её стародавних, исконных осадах.
Так как в человеческих делах низшего порядка полезное постоянно преобладает над истинным, а умственное над нравственным, то энергию заселения малорусских пустынь мы должны приписать в меньшей пропорции таким щедрым и милосердым людям, каким был отец князя Василия, а в большей таким, каковы должны были быть потомки домашнего наездника, известного в Польше XIV столетия под характерным прозвищем Кровавого Дьявола из Венеции. И вообще, едва ли мы ошибемся, если поразительные успехи экономического развития Полыни в XV-м и XVI веках будем объяснять себе не столько умственным превосходством культиваторов, сколько их жадностью к захвату чужого имущества, дерзостью силы и талантливостью в делах домашнего разбоя.
Мы знаем например, что современный гетману Острожскому, князю Константину I, киевский воевода, Юрий Монтовтович, поступал с Печерским монастырем не лучше татарского баскака. Мы знаем, что и ставленник тогдашних придворных панов, архимандрит печерский, Вассиан, был не лучше обыкновенного жида арендатора, а добродетельный по своему веку князь Константин I Острожский, при своем всемогущем значении у короля, терпел Монтовтовича на его важном посту и покровительствовал Вассиану, не взирая на вторжение в монастырь одного и церковное обдирательство другого. Совокупность подобных явлений заставляет думать, что тогдашнему экономисту, достигавшему предположенной цели наперекор всем препятствиям, была известна только правда сильного над слабым; что другой правды в экономическом быту тогдашней Малороссии не знали, а если она иногда и встречалась, то не уважали. И вот эта-то грубая первобытная правда управляла польским и нашим родным плугом в малорусских пустынях. Она вела вперед хозяйство, промыслы, торговлю трудными, непроторенными, опасными путями, и насколько умела пользоваться ею наша сбродная Русь, настолько приняла участия в добыче земледелия, которое было и самым выгодным, и самым общим занятием колонистов.
Видя и зная все эти обстоятельства, надобно согласиться, что можновладство, эта антипатичная нашему веку и опровергнутая политической экономией система землевладения, было в тот век для шляхетского народа единственно возможною хозяйственною системою, которая двигала вперед колонизацию пустынного края, составлявшую необходимость не только для независимой, самодеятельной, талантливой части польско-русского шляхетства, но и для всего составного государства.
Оно привело Речь Посполитую к несчастному концу, превращая украинную шляхту, если не в вассальную, то прямо в служилую силу, и вырабатывая в этой убогой и завзятой шляхте – или преданных магнатам людей, или таких, которые были способны воспользоваться первым случаем, для уничтожения своих вельможных повелителей; но оно исполнило дело свое, защищая столько времени культивированные области и целые государства европейские от разлива азиатчины.
Как панские вассалы, владевшие сравнительно малыми вотчинами, так и панские «рукодайные слуги», распоряжавшиеся землями крупных помещиков, несмотря на все постигавшие их бедствия, шли вперед мужественно и неуклонно по трудному пути колонизации малорусских пустынь. Играя смелую роль начальников магнатских аванпостов, они, в свою очередь, окружали себя служилой боевой силою низшего разряда. Врожденное высокомерие этих наместников и официалистов, этих осадчих и губернаторов не уступало панскому.
Их идеал сословной свободы был никак не ниже панского. Гордясь личными подвигами меча и плуга, они так точно рвались на волю и простор в украинные земли, как и те гордые заслугами предков магнаты, которые не хотели уступить первенства королевским избранникам. Воспитанные вне правил и обычаев гражданственной соподчиненности, они были готовы свергнуть с себя всякую зависимость от благосклонности и власти людей, предвосхитивших в Речи Посполитой поземельную собственность и высокие дигнитарства. Но впереди у них кочевала Орда, слишком сильная для того, чтоб им было возможно не отдавать себя под панский щит, не идти к панам в рукодайные слуги, не обеспечивать судьбы своих семейств покровительством человека знатного и могущественного. Напор азиатской дичи консолидировал их с магнатами, наперекор древним преданиям о шляхетском равенстве, нарушенном вельможеством, и люди, бывшие притеснителями мелкопоместной шляхты в одном случае, делались её прибежищем в другом. Так развивалась в «Новой Польше» шляхетчина, заключая в себе задатки революции против Польши старой.
Что касается панских и королевских подданных, то, каково бы ни было их положение в глубине польско-русского края, они не были и не могли быть угнетаемы в новых слободах и хозяйствах среди украинных пустынь. Основывая слободу за чертой старопольской и старорусской оседлости, паны, или их осадчие, прежде всего объявляли, что поселенцы будут пользоваться в ней 10-летнею, 20-летнею, 30-летнею, а местами и 40-летнею волею или слободою ото всех повинностей и платежей. Пока не истекал условленный между панами и их свободными подданными срок, господствующему и подчиненному классам было необходимо сблизиться на таких пунктах взаимной услуги или одолжения, которые, с одной стороны, не допускали суровости землевладельческого панованья, а с другой, не слишком низко нагибали шею подданного перед его, как называли здесь «пана», добродеем. Неверный обещаниям землевладелец обуздывался тем обстоятельством, что новые осады, воли, слободы (все это синонимы) основывались беспрестанно в соседних имениях; что каждый недовольный мог туда перебежать, а вернуть перебежчика из чужого имения – значило бы то же самое, что взять его в плен путем войны с соседом. Война панов с панами и без того шла беспрестанно за взаимные вторжения в чужие пределы, и она была мерилом уменья землевладельца привязать к себе подданных. От их численности, от их усердия, от совпадения их выгод с выгодами помещика зависел успех не только хозяйства, но и тех вечных драк, которыми сопровождалось определение границ каждого нового займища. Поэтому-то, чем дальше было вглубь малорусских пустынь от центров старой шляхетчины, тем больше изменялся характер помещичьих и крестьянских отношений, тем меньше зависело убожество быта от подчиненности крестьянина воле помещика, тем проще и независимее держал себя подданный в присутствии своего пана.








