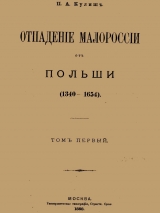
Текст книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 1"
Автор книги: Пантелеймон Кулиш
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Потоцкий напрягал последние силы своего изнуренного и перекалеченного войска, чтобы не дать казакам уйти за Пороги, или переправиться с русского берега Днепра на татарский. К его счастью, широкая река покрылась плавучим льдом, и не представляла беглецам никакой возможности спастись от преследования.
Павлюк и Скидан заперлись, вместе с характерником Гунею, в местечке Боровице. Потоцкий прискакал сюда по свежим следам выписчиков. Начали готовиться к приступу. Закипели мелкие битвы. Казаки были всё еще опасны в виду Днепра, который мог в одну морозную ночь сделаться мостом для соединения павлюковцев со скидановцами. Слышно было, будто бы на Заднеприе перебрался как-то киевский полковник Кизим с сыном. В довершение беспокойства кумейских победителей, Гуня и Скидан умудрились ночью пробиться сквозь блокаду.
Опасаясь бедственного поворота военного счастья, Адам Кисель, как единоверец казаков, открыл с ними переговоры, представил им, что виновность Павлюка и прежнего казацкого старшего, Томиленка, могут иметь оправдание в глазах снисходительного к Запорожскому войску короля, и, присягнувши перед казацкими уполномоченными, что жизнь обоих будет пощажена, склонил казаков выдать своих предводителей, в знак покорности. Так несчастные представители Речи Посполитой, не обеспеченные в своей государственной деятельности соответственными средствами, должны были вечно играть в рискованную игру, выпутываясь из затруднительных обстоятельств не только рискованными, но часто бесчестными и потому вредоносными поступками.
Покорившиеся казаки были призваны панскими литаврами в раду. Королевские коммиссары, Адам Кисель и Станислав Потоцкий, осыпали их упреками за их измену и, что хуже самой измены, за попытки призвать под свои бунчуки против христиан татарскую орду; а казаки, по воле победителя, представили им письменное обязательство, в котором говорилось:
– что они (казаки) забыли Куруковскую коммиссию, писанную их кровью, забыли свою присягу, умертвили старшину свою, приняли к себе простой народ сверх семитысячного числа казаков, напали на коронное войско (об Орде, «ради великой гнусности дела и чтобы не было вредной памяти», говорит реляция, в обязательстве не упоминалось); но святым и справедливым судом Божиим, коронное войско разорвало казацкий табор, овладело арматою, хоругвями, бунчуками и всеми украшениями, заслуженными с давних времен от королей и Речи Посполитой, а большую часть положило трупом;
– что остаток Запорожского войска полевой гетман настиг в Боровице, и на том месте, где казаки умертвили свою старшину, окружил их шанцами и хотел взять приступом, но они выпросили себе у ясновельможного пана гетмана помилование, и выдали своих старшин, которые вовлекли их в такой упадок и во все злое, Павлюка, Томиленка и несколько других, а зачинщика бунта, Скидана, обязались все вместе найти и также выдать;
– что им не дозволено избрать старшего, а только полковников, старшинство же вверено пану Ильяшу, переяславскому полковнику, который постоянно находился при коронном войске, не участвуя в бунтах;
– что казаки обязываются идти на Запорожье, сжечь морские челны и выпроводить из Запорожья чернь, которая окажется лишнею против количества, назначенного для сторожи.
«Относительно реестровиков» (сказано в заключение унизительного обязательства) «отдается на милосердие и волю его королевской милости и Речи Посполитой, и обещаемся быть в таком комнуте, какой их милости паны коммиссары нам оставили, и в таком устройстве, какое укажет нам самое милосердие его королевской милости, нашего милостивого пана, и пребывать в полной верности, цноте и подданстве Речи Посполитой на все грядущие времена. В чем во всем, поднявши руку, присягаем, и на то все для вечной и бессмертной памяти о каре над нами за наши преступления, чтобы на будущие времена не было больше подобных бунтов, а равно и об оказанном нам помиловании, даем сие писание и кровавое наше обязательство под войсковою печатью и за подписью нашего войскового писаря».
Этим писарем и составителем обязательства был Богдан Хмельницкий, воспользовавшийся, через десять лет, бунтом Павлюка и Скидана, как программою для одоления польско-русских панов с помощью татар.
Глава X.
Скитальческий быт малорусских поселян. – Запугиванье бунтовщиков казнями. – Триумф, устроенный киевскими мещанами и митрополитом усмирителю казаков. – Попытка казаков призвать на помощь татар. – Трагическое в казако-панской усобице. – Отсутствие единодушия между казаками. – Блокада казацкого становища на «Устье Старца». – Казаки покоряются панам. – Зловещее положение победителя.
Между тем как на русской стороне Днепра была решена судьба павлюковцев, на татарской ничего о том не знали. В отсутствие Скидана, там властвовал полковник киевских казаков, Кизим. Торжество над местною шляхтою, безнаказанные разбои и насилия над казацкими ворогами, а ими были все зажиточные люди, даже попы и монахи, непробудное пьянство в кабаках, оглашаемых звоном кобз и пронзительным криком кобзарей, до того поглощали умственную энергию беспутной толпы, что она и не думала устроить правильное сообщение с русским берегом, а плывущий по Днепру лед отбивал у неё и последнюю к тому охоту.
Притом же в казацких купах, титуловавших себя Запорожским войском, кроме вражды к панам, не было ничего общего. Не только новобранцы казачества, но и выписчики, называвшие себя старинными казаками, – в самом начале Павлюковщины, в случае неудачи затеянного бунта, имели в виду или Дон, или белгородские пустыни Московского царства, где уже много панских и королевских подданных поселилось на вечной, как им казалось, «воле». Кроме того, они легко могли найти приют в новых панских осадах по реке Ворскло, за которою к востоку шли уже необитаемые степи.
Новые Санжары, Кобыляки, Лучки, Переволочня и другие слободы, или воли, против запрета самих осадчих и собственников, служили убежищем тысячам голышей, оставлявших полуопустелыми сравнительно старые осады, из одной мечты о полной независимости. Поэтому воспреобладать над панами для заднепровского скопища значило пьянствовать на счет зажиточных людей, а быть побежденными значило разбежаться по своим притонам и перебиваться кой-как до новой усобицы с украинскими землевладельцами.
Не дорожить ничем, кроме движимости, было тогда свойственно не только казакам, и татарам, но и многому множеству шляхты. Стих украинской песни:
Ой мала я журитися, —
Нехай на Петрівку:
Та заберу дітей в торбу
Та піду в мандрівку.
или такой стих:
Ой весна красна, ой весна красна:
Та із стріх вода капле.
Ой уже ж тому та козаченьку
Та мандрівочка пахне, —
выражает бытовую действительность украинской массы. Целый народ, на пространстве от Вислы до Сейма, от псковской и смоленской границы до Днестра мандровал [57]57
Извращенное wandern, странствовать, бродить.
[Закрыть], переселяясь беспрестанно из одной осады в другую [58]58
В «Наставлении выборному от Малороссийской Коллегии в Коммиссию о Сочинении Проекта Нового Уложения» (пункт 18) говорится: «Простой народ мнимым в свободе своевольством доведен до крайнего нерадения от своей собственной лености и распутства, ибо многие, оставляя свои пахотные и другие земли, бродят из места на другое, и чтоб удобнее провождать жизнь праздную и разгульную, остаются навсегда без грунтов, под именем подсуседков, работая лениво за корм и напой вином».
[Закрыть]. Но больше всякого иного сословия мандривка была свойственна казакам. Германия, Швеция, Сибирь, Персия, Рим – вот круг, описываемый радиусами казацкого забродничества.
Отсюда вечная готовность казаков к бунту и драке; отсюда их сторожевая и боевая служба вотчинникам и поместным владельцам, как светским, так и духовным; отсюда их продажность не только единоверцам, но католикам и протестантам, не только государям христианским, но и магометанским. Побитые под Кумейками и втоптанные в землю под Боровицею, казаки мало дорожили тем, что делает нас осмотрительными в словах и поступках, – до того мало, что Потоцкий не позволил своим жолнерам въезжать в местечко из опасения нового бунта, а чтобы никому не было повадно, не въезжал сам, и встретил рождественские святки среди лагеря.
Слыша о похождениях казацкой орды за Днепром, он порывался спасать от последнего разорения свое нежинское староство и прислужиться королю да коронному великому гетману восстановлением порядка в их заднепровщине. Но переправа через «казацкий шлях» была крайне затруднительна. Наконец ледоход на Днепре превратился в плотную массу, и дал полевому коронному гетману возможность, в самый день польского Рождества Христова, выслать в одну сторону полковника Станислава Потоцкого с легкими хоругвями, а в другую – Ильяша Караимовича с покорившимися казаками.
Казаки выступили за Днепр в числе трех тысяч, и такой имели вид, как будто над ними не совершилось никакой катастрофы. Это была реестровая конница, которая под Кумейками загребла жар чужими руками. Это были те люди, которые завидовали домовитой шляхте и ухищрялись вырвать у неё господство над Украиной, подучивая на панов-ляхов ленивую и пьяную голоту. Это были отцы тех, которые, чрез двадцать лет по отпадении Малороссии от Польши, вписывали в свои местности сыновей той голоты, которая с таким самозабвением гибла для них под нидерландским огнем и шляхетскими саблями.
Глядя теперь на них, не один землевладелец, по словам участника похода, видел в них новых бунтовщиков. Но следом за реестровиками переправился по льду Потоцкий с артиллериею, которая дала себя казакам знать и в Медвежьих Лозах, и под Переяславом и, наконец, под Кумейками. Хотя казаки и сами были недурные пушкари, но стратегия и тактика шляхетского рыцарства торжествовала над их боевою рутиною, а недостаток единства действий уничтожал их численное превосходство.
Двадцатитысячное войско, которым павлюковцы давно уже хвалились на татарской стороне Днепра, разделялось на несколько самовольных орд, из которых каждая имела в виду собственную добычу. Еще не зная, что постигло их сообщников на русской стороне, Павлюковцы, под предводительством Кизименка, овладели Лубенским замком, разграбили имущество князя Вишневецкого, вырезали его слуг шляхтичей и шляхтянок вместе с торговцами жидами, сожгли костел, пили горилку из его престольной чаши, а состоявших при костеле бернардинов обезглавили, и бросили тела их на съедение собакам, строго запретивши погребать их. Священнические аппараты и церковная утварь из других костелов беспрестанно попадались Потоцкому в кабаках. Содержатели кабаков приносили их сами, как товар, от принятия которого за пропой было и страшно отказываться, и соблазнительно.
При наступлении жолнеров на казацкие купы, засевшие в таких замках, как Лубенский, не было встречено отпора нигде; напротив, и Кизименко, и множество других ватажков были выданы жолнерам самими казаками, старавшимися принять вид людей благомыслящих, но запуганных запорожцами. Схвачен был и сам Кизим среди его сообщников.
Имея на своей стороне реестровиков, Потоцкий хотел показать заднепровским гайдамакам наглядно, что эти соблазнители не только не защитят их от заслуженной кары, но еще будут присутствовать при их казни. Он решился поступить с пойманными разбойниками так строго, как поступлено было с Карвацким и другими зачинщиками жолнерского бунта в 1613 году: велел всех без пощады сажать на колья по городским рынкам и на перекрестных дорогах.
Но он ошибся в своем рассчете. В глазах попов и монахов, которым было всё теснее и теснее в Малороссии от папистов, сидящие на кольях мертвецы были не разбойники и святотатцы: они были мстители за поруганное благочестие. Так смотрели на них и многие миряне. При всей очевидности истины, упорно держался в Малороссии слух, что казаки воюют из-за унии. Даже такие люди, как игумен Филипович, твердили всюду, что «казацкая война была за унию». Даже лучший из украинских летописцев, названный мною самовидцем, говоря, что поспольство в Украине жило во всем обильно, тем не менее приписывает начало и причину войны Хмельницкого только гонению от ляхов на православие и отягощению казаков.
Только монахи могилинских монастырей, или вернее сказать – поставленные Петром Могилою игумены, не участвовали в распространении такого слуха. На расспросы Москвичей: за что поляки побивают черкас и грабят их животы? они отвечали, что казаки стали своевольничать, побивали по городам урядников да ляхов да жидов, да стали жечь костелы, – «за то-де их, казаков, и побивают, а не за веру» (записали Москвичи в своих свитках-столбцах, для сведения).
В устах антимогилинской партии (а к ней принадлежало все убогое, невежественное, загнанное духовенство) казаки были борцами за православие и за то, что мы теперь называем русскою народностью. По их воззрению, в Украине боролась вера с верою, а не казаки с панами, не номады с колонизаторами пустынь, не чужеядники да голыши с людьми трудолюбивыми и запасливыми. По одной украинской легенде, грехи некоторых гайдамак были так велики, что, когда покаявшийся разбойник причащался, так два человека должны были держать под руки попа, чтобы не упал от гайдамацкого духу. По другой легенде, гайдамака перебил нескольких попов одного после другого за то, что они не находили покуты соответственной великости его злодеяний. Из монастырских сочинений Павлюкова времени мы знаем, что монахи исповедовали не одного казацкого вождя, обремененного грехами чрезвычайными, и не сомневаемся, что внушали им то самое, что столетние старики сообщали мне самому о монахах-исповедниках эпохи Железняка и Голты. [59]59
См. «Записки о Южной Руси».
[Закрыть]
Жолнерские вожди, преследуя разбойников, считали нужным заворачивать в местные монастыри «для молитвы» несмотря даже на свое католичество, и, помолясь, твердили монахам, что побивают казаков совсем не за веру, до которой им нет никакого дела, а за грабежи, убийства, за сожжение костелов, за поругание святыни. Их, очевидно, беспокоила молва, распускаемая в Украине то простодушно, то злостно. Они щупали пульс простонародной жизни, и своим почитанием православных святилищ старались успокоить лихорадочное возбуждение умов. Но и тут им портили дело просветители полско-русской республики. С ревнивою подозрительностью походные капелланы и местные ксендзы нашептывали им, будто монахи снабжают казаков порохом, а казаки рассылают монахов и монахинь по всей польской Руси, чтоб они возбуждали против ляхов не только простой народ, но и шляхту греческой веры.
Это заставило Николая Потоцкого призвать к себе игумена Мгарского монастыря с десятью монахами для допроса. Он отпустил неповинных иноков, не сделав им никакой неприятности; но монашеское перо вписало по сему случаю в Густынскую летопись такие слова, которые, в своих практических последствиях, выместили сугубо за переполох честной братии не на одних ксендзах, но и на людях, вовсе не причастных церковной политики Рима: «Тогда попусти Бог в земле гнев свой, си есть междоусобная рать: восташа бо ляхи на род российский, глаголемых казаков, и нещадно резаху мечи своими благочестивых и невинных человек, а наипаче же вооружи их сатана на иноческий род: глаголаша бо вси, как калугоры исполняют казаком своим порохи, и яряхуся зело».
Раздуваемое церковным соперничеством с одной стороны, а разбойничаньем «благочестивых и невинных человек» с другой, пламя социальной усобицы достигло уже в то время таких размеров, что погасить его могло бы только возвращение всей русской шляхты с её магнатами из католических костелов и протестантских «зборов» к заброшенным в течение столетия или преданным в руки иноверцев древнерусским церквам. Днепровские и днестровские русины низших классов стали смотреть на всех польско-русских землевладельцев, каковы бы ни были их верования и добродетели, как на врагов своего племени, ляхов, а представителям высших классов польско-русского общества, с их депендентами, весь оказаченный и добровольно и насильственно люд представлялся заговорщиками против короля и республики, против установленного веками права, против всего благородного и священного.
И там и здесь работали не столько явно, сколько келейно, люди, обидчивые по самой профессии своей и влиявшие на мнения мирян освященным церковью авторитетом своим. Одни, повторяя с ненавистью и злобой роковое слово ляхи, придавали ему значение иноверного деспота и вместе отступника, предателя родного племени своего; а другие, не зная, чем объяснить упорство нашего духовенства в принятии такой благословенной по их воззрению выдумки, как соединение под главенством папы церквей, прозвали наше православие Наливайковой сектою, волчьей религией, и внушали шляхетно урожденным питомцам своим свойственную фанатикам и деспотам подозрительность.
Как ни воздержны были победители казаков под Кумейками в обвинении сословия, которое князь Збаражский назвал genus sceleste hominum, но внушения католических патеров, без сомнения, возымели свое влияние на расположение духа полевого коронного гетмана относительно заднепровских павлюковцев и скидановцев.
«Не для чего иного приехал я в Нежин», писал он к великому коронному гетману, «как для того, чтобы видеть этих злодеев на кольях собственными глазами. Не стоит их возить в Варшаву: пусть возьмут плату в тех местах, где заслужили. Но эта плата не соответствует тому, что у меня перед глазами. Какие тиранства, убийства, грабежи! Еслиб я казнил всех виновных так, как они заслуживают, то пришлось бы все Поднеприе и Заднеприе без изъятия вырубить в пень. Но казнь немногих поразит ужасом толпу. расставив по дорогам сторожами перекрестков десять сотен казненных, я покажу на них пример сотне тысяч. Теперь такое время, что из них можно вылепить, что угодно, как из воску, чтоб уж больше это зло не появилось в недрах Речи Посполитой».
Он ошибался горестно. В его время статистика не сделала еще поучительного наблюдения, что большая часть уголовных преступников совершала свои злодейства непосредственно после казней, которых они были свидетелями.
Усмирив Заднеприе, Николай Потоцкий распределил своим жолнерам зимние квартиры, вверил над ними главное начальство племяннику своему, Станиславу Потоцкому, а сам поспешил на контрактовую ярмарку в Киев, чтобы отдать в аренду некоторые имения и, «уплатив старые долги, искать новых кредиторов». Это его собственные слова.
Можновладные паны были постоянно в долгах, исключая таких «доматоров», каким был князь Василий, и это не от страсти к роскоши, в которой обвиняют их у нас поголовно. Они были государи в своих владениях, и несли государственные расходы не только по делам военным, политическим, административным, но и по делам народного просвещения. Им дорого стоила независимость, которой завидовали мелкие шляхтичи и казаки, а еще дороже – та зависимость, в которой они были принуждены держать своих вассалов, во что бы то ни стало. Обширные владения принадлежали им только юридически. За громкие титулы и за влияние в Посольской и в Сенаторской Избах они нуждались в деньгах больше своих поссессоров, и подвергались таким беспокойствам, каких не знал ни один из их клиентов.
В то время, как панегиристы свивали Потоцкому венки бессмертной славы, он видел всю шаткость устроенного им компромисса с казаками и все бессилие свое довершить победу, от которой зависела целость республики. По выражению современного наблюдателя Украины, умитворенные и приведенные к сознанию своего долга казаки смотрели на жолнеров так покорно, как волк, попавший в западню. Между тем в новых осадах над Ворсклом, в этих «рассадниках казацких бунтов», как называл их сам Потоцкий, сидели люди, бежавшие из старых слобод после падения Павлюка и Скидана. В порубежных московских городах также было много казаков, приютившихся до нового случая «варить с ляхами пиво». Потоцкий сознавал необходимость идти на Ворскло, в притоны мятежной черни, прямо из-под Боровицы, тем более, что для всего войска в голодной и обобранной Украине не хватало сытных стоянок, но не пошел потому, что не осмелился сделать этого без разрешения коронного великого гетмана; а коронный великий гетман не мог дать ему разрешения потому, что Варшава понимала вещи иначе, не так как те, которые по самому положению своему в виду казацких и татарских кочевьев, чуяли, откуда придет великая беда для государства.
Король, между тем, продолжал мечтать о Турецкой войне, и давал завистникам коронного гетмана надежный способ останавливать его распоряжения относительно казаков. Легкомысленно зловредные люди не хотели принять во внимание, что это была та пора года, в которую представлялась возможность подавить окончательно казацкий мятеж. Отложить расправу с бунтовщиками до весны – значило увеличить их военные средства в сто крат.
Потоцкий понимал это лучше, нежели кто-либо другой, и в письме к Конецпольскому говорил, что необходимо разогнать скопища черни из новых осад, пока у него под рукой войско, и пока не наступила весна; а его походный капеллан, в дневнике похода, объяснил нам, почему именно следовало предупредить наступление весеннего времени. «Военные люди», пишет он, «прибегают к разнообразным средствам для торжества над неприятельскими силами. Одни возлагают свои надежды на стены и окопы, другие на запасы и огнестрельное оружие; но надежды и мужество казаков, живущих на Дону и на Днепре, поддерживают вода, река, болото. Где у казака нет болота или яра, там ему беда. Много может он сделать при этих условиях; много у него тут искусства, мужества. В противном случае он – глухой немец, ничего не умеет, и гибнет, как муха. Потому-то зима – жестокий враг его: зимой нельзя уж ему ни рыть окопов, ни уходить водою. Плохо ему воевать в эту пору года. Но весна, лето и отчасти осень – это его хлеб, его скарб, его достатки и всяческая фортуна».
Но землевладельческая, хозяйственная Украина была в восторге от быстрых успехов Потоцкого, и всех больше радовался сам великий коронный гетман, Станислав Конецпольский. На его колонизаторский взгляд, Потоцкий сделал для общего блага столько же, сколько, на взгляд Фомы Замойского, сделал, в отсутствие Конецпольского, Стефан Хмельницкий, и даже больше. Чуждый того славолюбия, который заставляет быть скупым на похвалы товарищу, он объявил, что полевой коронный гетман великим своим подвигом проложил себе дорогу не только к высшим наградам из королевской руки, но и к бессмертной славе, которая не умолкнет (прибавил он с бессознательной иронией) «до тех пор, пока будет существовать Речь Посполитая».
Одно только десятилетие суждено еще существовать славолюбивой республике шляхты до того рокового момента, когда она, вместе с нынешним победителем, пала во прах перед казако-татарскою ордою, чтобы не встать уже из своего позорного упадка.
В Киеве предводителя казаков и творца широкой, небывалой еще в Королевской земле казни встретили мещане и шляхта со всевозможною торжественностью. Киевские мещане вечно враждовали с окрестными помещиками в силу старинного антагонизма между городским и сельским населением, вечно с ними тягались, как и другие города, за обширные некогда мещанские займища, но в казатчине видели они такое же разлагающее начало общественной и экономической жизни, как и хозяйственная шляхта. Они приветствовали Потоцкого искренно.
С одинаковой искренностью приветствовал его и митрополит Петр Могила, в качестве архипастыря, но нуждающегося больше в казацких «слезных мольбах об успокоении древней греческой церкви», и в качестве хозяина, терпевшего в наследственных и ранго-церковных имениях своих казацкие буйства наравне с экономистами светскими. Могила поспешил поздравить коронного полевого гетмана с победой у него на дому, а могилинские коллегианты сочинили в честь кумейского героя латинскую орацию, превратив Павлюка в Катилину.
В следующее затем утро, схваченные за Днепром бунтовщики, Кизим и его сын, были посажены на кол среди киевского рынка, а их сообщнику, Кущу, отрублена голова. Павлюка и Томиленка Потоцкий отослал в Варшаву.
По праву победителя, он отправил в свои замки взятые у казаков пушки, в числе которых находились и заслуженные некогда казаками у немецких императоров. На одной из них была надпись: Ferdinandus me fecit (может быть, памятник поражения, в сообществе лисовчиков, чешских утраквистов); на другой: Rudolphus Secundus Imper.; на третьей: Rudolphus Secundus Imperator, Bogemiae Rex etc.; на четвертой была арабская надпись; на пятой не было никакой надписи. Шестую пушку Потоцкий возвратил киевской мещанской муниципии, так как она была из числа киевских, захваченных казаками на Кодаке; седьмую подарил своему сподвижнику, коронному стражнику Лащу Тучапскому, а восьмую позволил удержать у себя реестровикам.
Но беспокойства, возникшие за Днепром, показывали, что торжество противников казатчины было преждевременное. Королевские коммиссары, Адам Кисель и Станислав Потоцкий, с нетерпением дожидались верных вестей из Запорожья. Туда давно уже было послано несколько чигиринских казаков с универсалом, который объявлял о поражении бунтовщиков под Кумейками, об осаде Боровицы, о выдаче Павлюка и Томиленка с двумя другими казацкими вождями, и приглашал всех, кто дорожит казацким званием, покориться правительству, по примеру городовых реестровиков. Посланцы не возвращались. Отправлены были другие, – и другие пропали без вести.
Между тем по Украине разнесся слух, что Скидан и Чечуга собрали вокруг себя тысяч пять отважных людей на днепровских островах, и готовились к морскому походу по первой весенней воде, с тем, чтобы, вернувшись из похода, вторгнуться в королевские и панские имения. Поразили эти слухи Киселя и Станислава Потоцкого, тем более, что, как они писали, «еще не слеглись могилы кумейские, и в недрах Украины сидели творцы этих могил, готовые подавить всякое волнение черни».
Но причины глухого внимания оказаченной массы были очевидны. С одной стороны наши монахи, пугаемые сомнительными действиями Петра Могилы и подстрекаемые партиею Копинского, готовились уходить за московский рубеж со всею движимостью и даже с монастырскими крестьянами, чтобы спастись от насильственного обращения в унию и латинство. С другой, раздраженное казацкими разбоями и святотатствами католическое духовенство, предупреждая события, хвалилось недалеким торжеством «истинной» веры над греческою схизмою, и ободряло такое же бравурство со стороны расквартированных по Заднеприю жолнеров, которые, в своих попойках и в драках с казаками, являлись борцами за католичество, тогда как наши пьяницы горланили про свое «благочестие».
Сидящие на кольях мертвецы отнюдь не уменьшали раздражения ни в духовенстве, ни в мирянах, – тем более, что настроенные своими исповедниками жолнеры указывали на них православникам, как на вывеску зловредной схизмы. На свою беду, ксендзы и ярые паписты вообще своими россказнями делали из казненных злодеев, в глазах нашей черни, праведных мучеников. Во многих городах, казацкие головы, выставленные на позорных столбах, среди рынка, неизвестно как исчезали. Розыски и допросы по таким случаям вели вовсе не к тому, к чему были направляемы. Но королевские коммиссары поняли это только весною 1638 года. Покамест, они все еще надеялись уладить дело посредством преследования строптивых и благосклонного обращения с людьми покорными.
Произведя тщательную ревизию по всем семи полкам, так чтобы никто не вписался под именем убитого, или чтобы сын падшего бунтовщика не занял места своего отца, коммиссары открыли, что число реестровиков убыло с прошлого года всего только на 1.200. Реестровики воспользовались этим открытием, чтобы весь бунт взвалить на выписчиков, которые де насильно вовлекли их в войну с панами. «Нет», отвечали им коммиссары, «мужики не бунтовали бы, когда бы вы их к тому не подстрекали. Поднявши мужиков, одни из вас поджидали дома, как им послужит счастье, а другие, явившись на конях под Кумейками, разбежались в наших глазах».
Уличенные в недавней измене реестровики кричали, что не желают больше подвергаться кровавой каре и докорам из-за изменников и своевольников и дали новую торжественную присягу в том:
– чтобы не изменять правительству и не поднимать на него руки;
– не посягать на жизнь старшин, и не сзывать казаков в черную раду;
– не ходить за Пороги и на Черное море без воли коронных гетманов, сжечь все чайки и истреблять всех бунтовщиков.
Последняя статья присяги была всего важнее для правительства. Немедленно были разосланы приказания схватить мятежников, укрывающихся в Полтавщине, и в том числе славного в наших летописях Остряницу. Но Остряница подкупил и местных урядников и прикомандированных к ним казаков. Его представили умирающим, даже покойником, и дали ему возможность выйти за московский рубеж со всем родом своим и со всеми своими соумышленниками, причем бунтовщики угнали в придонецкие пустыни и всю слободу, в которой гнездились. А сыщики, понаделавши тревоги среди местного населения и вынудив у многих зажиточных людей окуп, расположили умы вовсе не в пользу правительства.
Между тем коммиссары, воображая, что решимость казаков разорвать связи с мятежниками, не уступит новым соблазнам, отправили их на Запорожье, под начальством Ильяша Караимовича и полковника коронного войска, Мелецкого, придав последнему значение королевского коммиссара. В городах оставили на страже только по сотне казаков из каждого полка. Полки Чигиринский и Белоцерковский предназначались оставаться за Порогами для содержания очередной стражи; но голод не позволял собрать съестных припасов разом на все время очередной стоянки, то есть на три месяца, и потому было приказано им явиться под Крылов только в половинном составе.
Прибыв к ознаменованному уже Павлюковщиною Микитину Рогу, где кочевала запорожская вольница, Мелецкий послал в Сечь универсал, приглашавший проживающих там реестровиков воспользоваться королевскою милостью, по примеру их украинских братий, а оказаченной черни, бежавшей из королевских и панских имений, дозволявший свободно вернуться домой со всею своею добычей. В противном случае универсал грозил лишить жизни оставленных ими в Украине жен и детей.
Сколько известно из актовых книг и других точных свидетельств, подобные угрозы никогда не были приводимы в исполнение; но они давали такое убедительное основание для сочинителей ложных слухов о ляшской тирании, что эти слухи и теперь еще кажутся справедливыми людям несведущим и несообразительным.
В настоящем случае они оправдывали распространяемые умышленно за Порогами рассказы об избиении казацких поселений в Корсуни и других городах и селах по реке Роси. Озлобленные и без того сечевики приняли универсал Мелецкого с яростью, изорвали в клочки, и приковали посланцев к пушкам.
Прождав несколько дней ответа в своем стане, Мелецкий нашел однажды утром на берегу Днепра угрожающее письмо. Оно подействовало, точно чары, на реестровиков, боявшихся запорожского террора пуще всякой грозы со стороны правительства. Реестровики перебегали в Сечь толпами, а в стане Мелецкого происходило такое волнение, что он и его товарищ Ильяш боялись очутиться в плену у собственных подчиненных.







