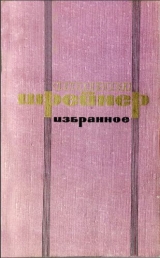
Текст книги "Африканская ферма"
Автор книги: Оливия Шрейнер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Глава VII. …Расставляет силки
– Можно мне войти? Надеюсь, я не помешал вам, мой дорогой друг? – говорил Бонапарт однажды поздним вечером, приоткрыв дверь в каморку немца-управляющего.
Прошло два месяца, как Бонапарт Бленкинс обосновался на ферме тетушки Санни в качестве домашнего учителя. Его влияние здесь росло день ото дня. Теперь он уже не заходил к старому Отто, проводил вечера с тетушкой Санни за чашкой кофе либо величественно прогуливался, заложив руки в карманы… Туземцев, почтительно желавших ему доброго здоровья, он даже не удостаивал взгляда. Вот почему старик немец был безмерно удивлен, заметив в дверях красный нос Бонапарта.
– Входите, входите, – радостно приветствовал он его. – Вальдо, сынок, посмотри, не осталось ли там чашечки кофе. Нет? Разведи огонь. Мы уже отужинали, но…
– Любезнейший, – сказал Бонапарт, снимая шляпу, – Я пришел не ужинать, не земных благ вкушать. Я хочу усладить себя общением с родственной душой. Уверяю вac: только груз обязанностей и бремя забот мешали мне изливать сердце столь глубоко симпатичному мне человечку. Может быть, вы интересуетесь, когда я верну вам те два фунта?..
– О нет! Разведи огонь, Вальдо, разведи же огонь. Сейчас приготовлю по чашечке горячего кофе, – прервал его немец, потирая руки и оглядываясь. Он явно не знал, как выразить свое удовольствие по поводу такой приятной неожиданности.
Вот уже три недели, как ответом на робкие приветствия немца были надменные поклоны. С каждым днем Бонапарт задирал нос все выше, и в последний раз немец видел его у себя дома, когда тот приходил занять два фунта.
Немец подошел к изголовью кровати и снял с гвоздя синий холщовый мешочек. Этих синих холщовых мешочков у него было десятков пять. В них лежали разного рода камешки, семена, ржавые гвозди и части конской сбруи – и всем этим он очень дорожил.
– Что у нас здесь? А, кое-что вкусное! – сказал немец с интригующей улыбкой. Сунув руку в мешочек, он вытащил горсть миндальных орешков и изюма. – Я берегу это угощение для моих цыпляток, для моих девочек. Они уже подросли, но все равно знают, что у старика всегда найдется для них что-нибудь сладкое. Да и старикам – все мы большие дети, – почему бы и старикам иногда не полакомиться, можем мы себе это позволить? Хе-хе!.. – И, смеясь собственной шутке, он насыпал миндаль на тарелку, – А вот и камушек, – два камушка, чтобы колоть орехи, – не последнее слово техники, а только ведь и Адам, поди, так же орехи щелкал! Ну и нам сгодится, обойдемся без щипцов!
С этими словами управляющий сел за стол, а Бонапарт Бленкинс устроился напротив него; тарелку с орехами немец поставил посредине, а перед гостем и перед собой положил по два плоских камешка.
– Не беспокойтесь, – сказал немец, – не беспокойтесь, я не забыл о сыне; наколю ему орешков, их у меня полный мешок. Ах, вот чудо! – воскликнул он, расколов крупный орех. – Три ядрышка в одной скорлупе! Сроду такого не видывал! Надо сохранить – это редкость! – С самым серьезным видом он завернул орешек в бумажку и заботливо спрятал в кармашек жилета. – Вот чудо! – говорил он, покачивая головой.
– Ах, друг мой, – заметил Бонапарт Бленкинс, – какая радость снова быть в вашем обществе!
У немца посветлели глаза, а гость схватил его руку и горячо пожал ее. Затем они снова принялись за орехи.
Некоторое время спустя Бонапарт Бленкинс процедил, отправляя себе в рот горсть изюма:
– Сегодня вы поссорились с тетушкой Санни. Я очень огорчен, мой дорогой друг.
– О, право, не стоит огорчаться, – сказал немец. – Пропало два десятка овец. Я покрою убытки. Отдам дюжину своих, а за восемь остальных отработаю.
– Какая жалость, что вам приходится покрывать убытки, хотя вы ничуть не виноваты! – проговорил Бонапарт.
– О, – вздохнул немец, – видите ли, какое дело, вчера вечером я сам пересчитал овец в краале – не хватает двадцати. Спрашиваю пастуха, говорит – они в другом стаде. Так уверенно сказал. Кто мог подумать, что он лжет? Сегодня к вечеру отправляюсь считать другое стадо, и что вы думаете? Их там нет. Возвращаюсь, нет ни пастуха, ни овец. Но я не могу, не хочу поверить, что он украл их! – вспыхнул немец. – Кто угодно, только не он! Я знаю этого паренька три года. Он добрый малый. Ах, как он заботился о спасении своей души. А хозяйка хотела послать за полицией! Нет уж, пусть лучше спишет за мой счет все убытки, я этого не допущу. Полиция! Он и бежал со страху. Я знаю, душа у него добрая. Ведь я сам… – Здесь он замялся. – Я сам внушал ему любовь к Господу.
Бонапарт Бленкинс, продолжая щелкать орехи, зевнул и с подчеркнутым равнодушием спросил:
– Ну, а жена его куда подевалась?
Тут немец снова вспыхнул.
– Жена! У нее на руках младенец шести дней от роду, а хозяйка собиралась прогнать ее. Это… – Старик даже поднялся, задыхаясь от негодования. – Это жестоко… так я скажу… дьявольски жестоко! Этого я не могу стерпеть. Я готов пронзить ножом человека, способного на такое! – Серые глаза его засверкали гневом, черная с проседью косматая борода затряслась. В это мгновение у него и впрямь был свирепый вид. Но тут же успокоясь, он сказал: – Все уладилось. Тетушка Санни разрешила ей пока остаться. А я завтра наведаюсь к дядюшке Миллеру, не у него ли наши овцы? Нет так нет, отдам своих.
– Тетушка Санни – женщина необычная, – сказал Бонапарт Бленкинс, принимая от немца кисет с табаком.
– Что верно, то верно, сердце у нее доброе, – согласился немец. – Я живу здесь не первый год и питаю к ней, надеюсь, как и она ко мне, искреннее чувство привязанности. Могу сказать, – добавил он потеплевшим голосом, – могу сказать, что нет здесь на ферме ни одной живой души, к которой я испытывал бы недоброе чувство.
– Ах, милейший, – молвил Бонапарт, – бог ниспосылает свою благодать всем без изъятья. Разве не любим мы червя последнего у нас под ногами? Разве делаем мы различие между людьми разного племени, пола или, может быть, цвета кожи? Нет!
В моей душе, в моей крови
Огонь божественной любви.
Помолчав, он продолжал уже не таким пылким тоном:
– Не представляется ли вам, что цветная служанка тетушки Санни – особа вполне добропорядочная, вполне?..
– О да, – перебил его немец. – Я имею к ней полное доверие. Душа у нее чистая, можно даже сказать, благородная. Некоторым богатым и знатным господам, которые смотрят на всех свысока, не мешало бы заимствовать у нее этих качеств.
Немец подал Бонапарту Бленкинсу уголек из очага, тот раскурил трубку, и они еще долго беседовали. Наконец Бонапарт Бленкинс выбил трубку и сказал:
– Пора мне и честь знать, мой любезный друг. Не закончить ли нам этот милый приятный вечер, проведенный в братском общении, молитвой? О, сколь целительно и сколь сладостно единение для братьев по духу, оно подобно росе на горах Гермонских, там господь ниспослал свою благодать.
– Еще чашечку кофе, – предложил немец. – Посидите.
– Благодарствую, мой друг, – отказался Бонапарт. – У меня еще кое-какие дела. И ваш славный сынок уже спит. Завтра ему на мельницу. Молодец он у вас, маленький мужчина.
Вальдо и вправду клевал носом у очага, но он еще не спал и присоединился к общей молитве.
Когда все поднялись с колен, Бонапарт Бленкинс потрепал его по щеке.
– Покойной ночи, малыш, – сказал он. – Тебе ведь завтра на мельницу, так что мы несколько дней не увидимся. Покойной ночи – и до свиданья. Да благословит тебя господь и да наставит он тебя на путь истинный! Надеюсь, за время твоего отсутствия ничто не изменится. – На этих последних словах он сделал ударение. – Ах, мой дорогой друг, – прибавил он с удвоенной любезностью, – долго-долго буду я возвращаться воспоминаниями к этому вечеру, вечеру освежения душ наших пред лицом господа, блаженного общения с братом во Христе. Благослови вас господь, – прибавил он с еще большим пылом, – и да почиет на вас его благодать.
Он отворил дверь и исчез в ночи.
«Хи-хи-хи, – потешался Бонапарт Бленкинс, спотыкаясь во тьме о камни. – Будь я неладен, если эта ферма – не самое редкостное сборище дураков, каких еще свет не видывал. Хи-хи-хи! Вот уж поистине, на ловца и зверь бежит». Бонапарт расправил плечи, приосанился. Даже наедине с собой он обожал держаться величественно.
Он заглянул на кухню. Готтентотка, служившая ему переводчицей в беседах с хозяйкой фермы, ушла, и сама тетушка Санни уже отправилась спать.
«Ну ничего, Бон, мой мальчик, – сказал он, огибая угол дома и направляясь к себе. – Завтра так завтра. Ха-ха-ха!»
Глава VIII. …проводит на мякине старого воробья
На другой день, часа в четыре, немец-управляющий ехал верхом по вельду, возвращаясь после безуспешных поисков пропавших овец. С самого рассвета он был в седле и порядочно устал. Послеполуденный зной сморил лошадь, и она лениво ступала по песчаной дороге. Ничто, кроме больших красных пауков, то и дело перебегавших через дорогу, чтобы тут же исчезнуть в кустах, не нарушало унылого однообразия пути. Неожиданно за высоким кустом молочая немец заметил чернокожую женщину: она, видимо, пряталась от палящего солнца в его скудной тени. Немец повернул к ней. Не в его натуре было проехать мимо живого существа, не сказав доброго слова. Подъехав ближе, он узнал жену бежавшего с фермы пастуха. За спиной у нее, с помощью куска красного грязного одеяла, был подвязан ребенок. Другой кусок, примерно такой же величины, служил ей набедренной повязкой. Это была угрюмая, мрачного вида женщина.
Немец полюбопытствовал, как она туда попала. Та пробормотала на местном наречии, что ее прогнали с фермы.
– Чем-нибудь провинилась? – спросил он. Она отрицательно замотала головой. – Хлеба хоть дали на дорогу? – Она проворчала, что нет, и отогнала мух от ребенка. Велев ей непременно дождаться его, он ускакал бешеным галопом.
«У нее нет сердца! – возмущался он жестокостью тетушки Санни. – Нет сердца, так ли поступают люди милосердные?»
«О-о-о!» – восклицал он, пока лошадь мчала его по дороге. Но постепенно гнев его остыл, лошадь перешла на шаг, и к тому времени, когда она остановилась у его двери, он уже мирно кивал, как бы в ответ своим мыслям, и улыбался.
Соскочив с лошади, немец прошел в свою каморку и открыл ларь, где хранилась провизия. Он расстелил синий носовой платок, насыпал туда немного муки и завязал платок узелком; затем приготовил еще два таких узелка – один с маисом, другой с лепешками. Все это он сложил в парусиновый мешок, перекинул его за спину и выглянул за дверь. При одной мысли, что его могут заметить, – а доброе дело, по его понятиям, следовало совершать тайком от всех, – он покраснел до самых корней волос. Но вокруг не было ни души, он вскочил на коня и поехал обратно. Чернокожая женщина сидела под тем же кустом молочая. «Истинная Агарь, – подумалось ему, – изгнанная своей госпожой». Он велел ей снять платок с головы и свалил на него все, что привез. Женщина все также угрюмо и молча связала все это в узел.
– Постарайся добраться до соседней фермы, – посоветовал немец.
Женщина покачала головой: нет, она переночует здесь.
Немец раздумывал. Туземным женщинам привычно ночевать под открытым небом. Но у нее на руках новорожденный, а после жаркого дня ночь часто бывает холодная. Ему так и не пришла в голову простая мысль, что под покровом темноты она намерена вернуться в хижину, откуда ее изгнали. Он снял с себя старую коричневую куртку и протянул ее женщине.
Женщина молча приняла куртку и положила ее себе на колени. «Ну вот, теперь им будет тепло спать, неплохо придумано, а?» – сказал себе старик и повернул лошадь домой. Покачиваясь в седле, он кивал и кивал, да так истово, что у любого другого на его месте давно бы закружилась голова.
– Только бы он сегодня не попался им на глаза, – говорила Эмм, заливаясь слезами.
– Завтра будет то же самое, – сказал Линдал.
Девочки сидели на пороге каморки управляющего, ожидая его возвращения.
Прикрыв ладонью глаза от слепящих лучей вечернего солнца, Линдал смотрела по сторонам.
– Едет, – крикнула она. – Вот он едет и насвистывает. Слышишь? «О, Иерусалим прекрасный».
– Может быть, он нашел овец.
– Найдешь их! – сказала Линдал. – Просто такой уж он человек, в свой смертный час будет вот так же насвистывать.
– Любуетесь, как солнышко заходит, а, цыплятки? – вскричал немец, осаживая лошадь. – Ах, и правда, какая красота! – Спешившись, он замер, продолжая держать руку на луке седла и глядя на широкий веер багряно пламенеющих лучей и легкие золотистые облачка. – Эй, да вы плачете? – воскликнул немец, когда девочки подбежали к нему.
Но они не успели еще ничего ответить, как раздался голос тетушки Санни:
– Ах ты, сукин сын, ах ты, сукин сын, пожалуй-ка сюда!
Немец оглянулся. Он подумал, что хозяйка вышла подышать вечерней прохладой и кричит на кого-нибудь из провинившихся слуг. Но, кроме тетушки Санни на крыльце кухни, худощавой служанки и Бонапарта Бленкинса, возвышающегося в дверях, – руки у него были заложены за фалды сюртука, взгляд устремлен на заходящее солнце, – он никого не увидел.
– Ты что, старый проходимец, оглох?
Старик уронил седло на землю.
– Что за ерунда! Ничего не понимаю, – пробормотал он, направляясь к дому.
Девочки последовали за ним. Эмм заливалась слезами, Линдал была бледная, с широко раскрытыми глазами.
– Ты говорил, что у меня сердце дьяволицы! Говорил, что готов меня убить! – кричала голландка. – Неужели ты в самом деле вообразил, что я не выгоню служанку, потому что боюсь тебя? Ах ты, старый оборванец! Неужели ты в самом деле думаешь, будто я в тебя влюблена, мечтаю выйти за тебя замуж?! Паршивый кот, шелудивый пес! Если я увижу тебя завтра утром возле моего дома, я прикажу своим слугам выпороть тебя. И уж можешь быть покоен, защищать они тебя не станут, хоть ты и молился вместе с ними!
– Я удивлен, я удивлен, – сказал немец, приблизясь к ней и приложив руку ко лбу. – Я н-не понимаю…
– Спроси его! Спроси его! – вопила тетушка Санни, показывая на Бонапарта. – Он все знает. Ты думал, что он не сумеет мне открыть глаза на тебя. Но ты просчитался, старый болван. Я немножечко знаю английский язык… Если завтра утром я увижу тебя здесь, то велю своим слугам переломать тебе все кости, старый попрошайка. И хотя все твое тряпье не стоит и медяка, я заберу все в уплату за овец. Я не разрешу тебе взять даже подкову. Да и лошадь моя. Ты растерял всех моих овец, негодяй!
Она вытерла рот ладонью.
Немец перевел взгляд на Бонапарта Бленкинса, который любовался с крыльца закатом солнца.
– Не обращайтесь ко мне, не приближайтесь ко мне, заблудший человек, – произнес Бонапарт, не удостаивая его взглядом и еще выше задирая подбородок. – Есть преступления, от которых содрогается природа; есть преступления, само упоминание о которых отвратительно уху человеческому; имя вашему преступлению – неблагодарность. Эта женщина – ваша благодетельница. На ее ферме вы жили, за ее овцами вы смотрели, в ее доме вам разрешали служить богу, – честь, коей вы никогда не были достойны, – и чем же, чем вы отплатили ей? Подлостью!
– Но все это ложь, обман, наговор. Я должен, я хочу объяснить, – растерянно оглядываясь, начал старик. – Не сон ли это? Вы в своем уме? Что все это значит?
– Прочь, собака! – вскричала голландка. – Я была бы теперь богатой дамой, если б не твоя леность да не вечные твои моления с черномазыми слугами! Прочь!
– В чем дело? Что случилось? – воззвал немец к служанке, сидевшей у ног своей хозяйки.
Уж она-то ему друг верный, скажет всю правду. Но ответом ему был звонкий смех.
– Так его, миссис, так его!
До чего приятно смотреть, как повергают ниц человека, еще вчера распоряжавшегося их судьбами! Служанка отправила в рот дюжину кукурузных зерен и захохотала.
Лицо старика внезапно изменилось. Оно уже не выражало ни гнева, ни волнения. Он повернулся и медленно пошел по тропинке к своей пристройке. Он шел сгорбясь, ничего перед собой не видя и чуть не упал, споткнувшись о порог собственной двери.
Эмм разрыдалась и хотела было идти за ним, но голландка остановила ее такими отборными выражениями, что служанка скорчилась от хохота.
– Пошли отсюда, Эмм, – сказала Линдал, гордо отворачиваясь. – Нам не пристало слушать такую брань.
И она посмотрела тетушке Санни прямо в глаза. Та поняла смысл если не слов Линдал, то ее взгляда. Толстуха, переваливаясь, подошла к ним и схватила Эмм за руку. Однажды, – это было давно, – голландка ударила Линдал, но больше на это не решалась. Однако Эмм она не щадила.
– И ты туда же, уродина! – закричала она и, с силой притянув голову девочки к своему колену, влепила ей две затрещины. Но тут Линдал перехватила ее руку. Тонкие пальцы девочки оказались так сильны, что уже перед сном тетушка Санни обнаружила их отпечатки на своем жирном запястье. У тетушки Санни хватило бы сил одним движением отшвырнуть девочку прочь. Но ее остановил взгляд ясных глаз и трепет побелевших губ.
Линдал взяла Эмм за руку и повела прочь.
– Пропустите! – бросила она Бленкинсу, стоявшему в дверях. И сам непобедимый Бонапарт, в час своего триумфа, посторонился, давая ей дорогу.
Служанка оборвала смех. Последовало сконфуженное молчание.
Едва войдя в детскую, Эмм опустилась на пол и залилась горькими слезами. Бледная как мел Линдал прилегла на кровать. Она лежала без движения, закрыв глаза ладонью.
Эмм рыдала.
– О-о-о! Они не позволяют ему взять лошадь… Вальдо уехал на мельницу… О-о-о! И они не разрешат нам попрощаться. О-о-о!
– Сделай одолжение, перестань! – накинулась на нее Линдал. – Не доставляй этому Бонапарту удовольствие слышать твой рев! Мы и спрашивать ни у кого не станем. Сейчас они сядут ужинать. Как только услышишь, что накрывают на стол, – бежим прощаться.
Эмм подавила рыдания и прислушалась, сидя у двери. Внезапно раздались шаги и кто-то закрыл ставни.
– Кто это? – вздрогнув, спросила Линдал.
– Наверно, служанка, – отозвалась Эмм. – Почему она закрыла ставни раньше обычного?
Линдал вскочила с кровати, бросилась к двери и, ухватясь за ручку, дернула изо всех сил. Дверь не подавалась. Линдал прикусила губу.
– В чем дело? – сказала Эмм, ничего не видя в темноте.
– Нас заперли, – тихо ответила Линдал.
Она повернулась и пошла к своей кровати. Немного погодя она опять поднялась, влезла на подоконник и долго ощупывала оконную раму. Потом скользнула вниз, пошла к кровати и отвинтила металлический шар с одной из ножек. Еще раз забралась на подоконник и выставила, с силой нажимая на шар, все до одного стекла в раме, начав с самого верхнего.
– Что ты дедаешь?! – удивилась Эмм.
Ее подруга не отвечала. Покончив со стеклами, она расшатала и выломала поперечины оконного переплета. И нажала плечом на ставень. Ставень подался бы, – если б, как она предполагала, он был закрыт только на деревянную щеколду. Но по звуку Линдал поняла, что снаружи его закрыли еще и на железный засов. Поразмыслив, она слезла и, отыскав на столе перочинный ножичек, вернулась к окну и стала проделывать дыру в твердом дереве.
– А сейчас что ты делаешь? – спросила Эмм. Она заинтересовалась так сильно, что перестала плакать.
– Пробую сделать отверстие, – коротко объяснила Линдал.
– Ты думаешь, это тебе удастся?
– Попытка не пытка.
Эмм, сгорая от любопытства, ждала, что будет. Линдал удалось пробуравить небольшую лунку, но тут стальное лезвие разлетелось на кусочки.
– Что случилось? – спросила Эмм и всхлипнула.
– Ничего, – ответила Линдал. – Принеси ночную сорочку, бумагу и спички.
В полном недоумении Эмм принялась шарить в темноте, пока не нашла все, что нужно.
– А это тебе зачем? – прошептала она.
– Чтобы поджечь окно.
– Но ведь сгорит весь дом.
– Да.
– Это же очень скверная шалость – сжечь дом.
– Очень, но мне все равно.
Линдал тщательно скомкала в углу подоконника свою сорочку, а сверху уложила щепки от сломанной рамы. В коробке оказалась всего одна-единственная спичка. Она осторожно чиркнула спичкой о стену. Спичка вспыхнула голубым огнем, осветив ее бледное лицо и блестящие глаза. Линдал медленно поднесла спичку к бумаге, – бумага вспыхнула, но тотчас же задымила. Линдал попыталась раздуть огонь, но это ей не удалось. Тогда она бросила бумагу на пол, затоптала ее, кинулась к постели и стала раздеваться.
Эмм подбежала к двери и принялась барабанить в нее кулаками.
– Тетушка Санни! Тетя Санни! Выпустите нас! – кричала она. – Что же нам делать, Линдал?
Линдал слизнула кровь с прикушенной губы.
– Я ложусь спать, – сказала она, – а ты, если тебе так нравится, можешь реветь до утра. Правда, я не слышала, чтобы от слез была какая-нибудь польза. Но тебе лучше знать.
Эмм уже засыпала, когда Линдал встала и подошла к ней.
– Вот, возьми, – сказала она, сунув ей в руку баночку с пудрой. – Щека-то, наверно, горит от удара?
Линдал ощупью вернулась на свою кровать. Вскоре Эмм уснула, а она еще долго лежала с открытыми глазами, дрижав руки к груди, и шептала: «Придет день, когда я стану сильной, тогда я буду ненавидеть всех сильных и помогать всем слабым». И она снова закусила губу.
Немец в последний раз выглянул за дверь, прошелся из угла в угол, вздохнул. Затем достал перо, лист бумаги и сел к столу. Но прежде чем начать писать, он костяшкой пальца провел по своим старым глазам.
«Птенчики мои, – вывел он.
Вы так и не пришли проститься со стариком. Не могли, верно? Ах, какая радость, что есть мир, где нет разлук, где властвуют бессмертные праведники. Я сижу в одиночестве, а мысли мои с вами. Ведь вы не забудете старика? Когда вы проснетесь, он уже будет далеко. Старик, хоть и леноват, но в руках у него трость. Это его третья нога. Придет день – и он вернется с золотом и алмазами. Примете ли вы его? Поживем – увидим. Иду встречать Вальдо. Он уйдет вместе со мною. Бедный мальчик! Знает бог, есть страна, где всем воздается по справедливости, но эта страна не здесь.
Служите, дети мои, Спасителю, вручите ему сердце свое. Помните, что жизнь коротка.
Сказал бы я: Линдал, возьми мои книги, Эмм возьми мои камешки. Но в этом доме мне не принадлежит ничего. Потому я молчу. Видит бог, все это несправедливо. Но я молчу, да будет так, но только это несправедливо, несправедливо!
Не плачьте о старике. Он идет искать удачи и, может статься, воротится с полным мешком.
Я очень люблю своих малюток. Думают ли они обо мне? Ваш старый Отто идет по свету искать свое счастье.
О. Ф.»
Закончив это необычное послание, немец положил его на видное место и стал собираться в путь. Он и не думал протестовать против утраты всего, что накопил. Но на глазах у него были слезы. Ведь он прожил здесь одиннадцать лет и тяжело вот так взять и уйти. Старик расстелил на постели большой синий платок и стал выкладывать на него все самое, по его разумению, необходимое: мешочек с какими-то удивительными семенами, придет день – он их непременно посеет; старый немецкий псалтырь; три камешка-уродца, безмерно дорогих его сердцу; Библию; рубаху и пару носовых платков. Узелок он положил на стул у кровати.
– Это немного, они не посмеют сказать, что я взял слишком много, – проговорил он, глядя на узелок.
Он положил рядом свою сучковатую палку, синий холщовый кисет, трубку и задумался, что надеть из верхнего платья. Из того, что осталось, предстояло выбрать между траченным молью пальто и черным, прохудившимся на локтях, альпака.[6]6
Альпака – одежда из шерсти млекопитающего альцака.
[Закрыть] В конце концов он решил взять пальто; конечно, в нем жарко, но ведь можно просто перекинуть его через руку и надевать только при появлении встречных путников. Да, да, в пальто решительно приличней. Он повесил его на спинку стула. Подумал еще и сунул в узелок кусок черствой лепешки. На этом приготовления были закончены. Старик стоял с довольным видом. За удовольствием, которое ему доставили сборы, печаль почти развеялась. Но тут тоска пронзила его с новой силой. Левой рукой он схватился за бок, а правой – за сердце.
– Ах, опять боль! – пробормотал старик.
Он побледнел, но через несколько мгновений к его щекам вернулся прежний цвет, – и он решил прибрать комнату.
– Я оставлю все в полном порядке, так чтобы они не посмели ворчать, что я оставил все в беспорядке, – сказал он себе. Он тщательно сдул пыль с мешочков и выложил их в ряд на каминной доске. Прибравшись, он разделся и лег. Привычным движением нащупал под подушкой книжку, достал и решил дочитать ее перед сном. События, изложенные в книгах, были для него столь же реальны и важны, как если бы случились с ним самим. Он не мог покинуть этот дом, не узнав прежде, смягчился ли нрав жестокого английского графа и сочетались ли счастливым браком барон и Эмилина… Старый немец надел очки и принялся читать. Время от времени он восклицал в избытке чувств: «Ах, так я и думал! Каков негодник!», «Вот, вот! Я с самого начала предвидел, что так будет!» Немец читал более получаса и только тогда, взглянув на часы, сказал себе: «Пора кончать: мне предстоит завтра долгий путь». Он снял очки и заложил ими страницу, на которой остановился. «Дочитаю в дороге, – решил он, засовывая книжицу в карман пальто, – очень занятная история». Улегшись, старик поразмышлял несколько минут о собственных невзгодах, гораздо дольше о двух девочках, затем о графе, Эмилине и бароне и наконец уснул – мирным сном младенца, невинной душе которого чужды заботы и печали.
Все стихло. Уголья в очаге едва высвечивали красных львов на одеяле и бросали тусклые блики на пол. К одиннадцати часам в каморке воцарилась полная тишина. А к часу ночи в очаге потух последний уголек и стало темно. Мышь, ютившаяся в норе под ящиком с инструментами, выбежала на середину комнаты, забралась на мешки в углу, а затем, обманутая тишиной, забралась на стул у кровати. Она погрызла лепешку, торчавшую из узелка, тронула зубами свечку и замерла на задних лапках. Некоторое время мышь прислушивалась к ровному дыханию спящего, к торопливым шагам голодной дворовой собаки, рыскавшей по ферме в поисках забытой кости, затем внезапно юркнула в нору под ящиком с инструментами, напуганная громким кудахтаньем белой наседки, у которой дикий кот утащил цыпленка.
Настало два часа. Небо затянуло тучами, и ночь стала еще темнее. Дикий кот вернулся в свою нору на каменистом холме; дворовая собака нашла кость и принялась ее грызть.
Кругом царило спокойствие. И только у себя в спальне стонала и шумно металась на постели тетушка Санни; ей снилось, будто над домом парит зловещая черная тень.
Тишина, еще более глубокая, чем в спящей природе, стояла и в каморке старика. Не слышно было даже его дыхания. Но он еще не покидал дома, его старое пальто – то самое, которое он приготовил в дорогу, все еще висело на спинке стула; и узелок и палка тоже лежали на месте. И сам старик покоился на постели, на подушке раскинулись его волнистые черные с проседью волосы. Лицо сияло в темноте детской улыбкой – и было в нем умиротворение.
Есть некая странница, чей постук у дверей хуже худшего из мирских зол, мы с трепетом сторонимся и бежим ее. Но к иным она приходит, как добрый друг. Мнилось, будто смерть знала и любила старика – так ласково она с ним обошлась. Да за что ей было терзать этого сердечного, простодушного и невинного, как малое дитя, человека?!
Она разгладила морщины на его челе, запечатлела на устах улыбку, сомкнула ему глаза, – никогда больше не блеснут в них слезы, – и короткий земной сон превратила в вечный, беспробудный.
– Как он помолодел за эту ночь! – удивились те, что вошли к нему на следующее утро.
Да, милый чудак! Таких, как ты, время не старит. Волосы твои тронула седина, но свой последний час ты встретил чист и невинен, словно младенец.





