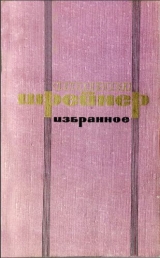
Текст книги "Африканская ферма"
Автор книги: Оливия Шрейнер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
– Конечно, этот сюртук сшит не по последней моде и не от лучшего портного. Но он еще сгодится, еще послужит. Примерьте, примерьте, – сказал он, и его серые глаза засветились от удовольствия.
Бонапарт Бленкинс поспешно встал и примерил. Сюртук сидел великолепно. Спинку жилета пришлось распороть, лишь тогда удалось застегнуть его на все пуговицы. Брюки пришлись в самую пору. Только башмаки портили общий вид. Но немца это не смутило. Он снял с гвоздя пару сапог с отворотами, тщательно вытер с них пыль и поставил их у ног Бонапарта Бленкинса. Теперь глаза старого немца просто сияли восторгом.
– Надевал всего один раз. Уж они-то послужат, им сносу не будет.
Бонапарт Бленкинс натянул сапоги и выпрямился. Голова его едва не упиралась в потолочную балку. А немец смотрел на него с глубоким восхищением. Новое оперение совершенно преобразило птицу.
Глава V. Воскресные молитвы
Первая молитваВальдо коснулся страниц книги губами и поднял глаза. Посреди равнины небольшим пятнышком виднелся одинокий холм. Мирно паслись овцы. Воздух еще не нагрелся, и все вокруг было затоплено тишиной раннего воскресного утра.
Мальчик снова посмотрел на книгу. По странице ползла черная букашка. Он поймал ее, посадил на палец и, опершись на локоть, стал, улыбаясь, наблюдать за движениями крохотной твари, смешно шевелившей усиками.
– Даже тебе, – шептал он, – не дано умереть без воли Его. Даже тебя Он любит. И примет в свои объятия, когда придет время, и воздаст тебе сторицей за все благое.
Когда букашка улетела, Вальдо бережно разгладил страницы своей Библии. Страницы эти некогда исторгали у него кровавые слезы. Они омрачили его детство, наполняя его воображение кошмарными образами, которые не давали ему спать по ночам. Как ядовитые змеи с раздвоенными жалами, гнездились в его уме коварные, хоть и простые на вид вопросы, на которые он не находил ответа:
Почему в Евангелии от Марка говорится, что женщинам предстал лишь один ангел, у Луки же – что два? Может ли быть два лика у истины? Может ли? И еще: Сказано: доброе и дурное одно для всех во все времена. Так ли это? Как могло статься, что Иаиль, жена Хевера Кенеянина, «взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою» и подошла тихонько и вонзила кол в висок спящего; а дух господень пел ей громкие гимны, – так сказано в Писании, – и никто не возвысил голоса против этого, ведь нет ничего более подлого, чем убивать спящих? И как могло статься, чтобы некто взял себе в жены родную сестру, и Бог не проклял его за это; а ведь поступи кто-нибудь так теперь, ему прямая дорога в ад. Разве доброе и дурное не одно для всех во все времена?
Когда-то эти страницы заставляли его проливать кровавые слезы, ложились тяжким бременем на сердце. Это они лишили его всех радостей детства; и вот теперь он ласково водит рукой по этим страницам.
– Бог, отец наш, все знает, – говорил Вальдо себе. – Нам не понять, а Он все знает. – Мальчик задумался и прошептал, улыбаясь: – Я слышал сегодня утром Твой голос. Я лежал, не раскрывая глаз, и чувствовал, что Ты рядом. Отец наш, за что Ты меня так любишь? – Лицо Вальдо засияло еще ярче. – Вот уже четыре месяца меня не мучают сомнения. Я знаю, что Ты добр. Я знаю, что Ты всех любишь. Знаю, знаю, знаю! Ты всех любишь. Знаю, знаю, знаю! У меня не было больше сил терпеть. Не было сил. – Он тихонько рассмеялся. – И все то время, пока я изнемогал в мучениях, Ты смотрел на меня с любовью, тольдо я этого не знал. Но теперь я знаю, теперь я чувствую, чувствую душой, – сказал мальчик и снова тихонько засмеялся.
Чтобы как-то выразить переполнявшую его радость, Вальдо читал нараспев разрозненные строки псалмов. А овцы смотрели на него своими ничего не выражающими глазами.
Наконец Вальдо умолк. Он лежал, глядя на песчаную, поросшую кустами равнину, и грезил наяву… Вот он переправился через реку Смерти и идет по земле обетованной; ноги тонут в темной траве, а он все идет и идет. Наконец кто-то появляется вдали. Но кто же? Ангел божий? Нет. Это сам господь. Все ближе и ближе подходит Он и, когда раздается громовой голос: «Добро пожаловать!», сомнениям уже не остается места. Вальдо простирается ниц, крепко обнимает его ноги. Потом поднимает глаза на склонившийся над ним лик; перехватывает сверкающий, полный любви взгляд; и нет никого вокруг, только они двое…
Вальдо рассмеялся радостным смехом, а потом вскочил, как внезапно разбуженный человек.
– Боже! – крикнул он. – Я не могу ждать, не могу ждать! Я хочу умереть, я хочу видеть Его. Хочу коснуться Его. Умереть! – Весь дрожа, он сложил руки. – Неужели я должен ждать еще много лет? Я хочу умереть, чтобы видеть Его! Пусть он возьмет меня к себе.
Мальчик припал к земле; тело его сотрясали рыдания… Прошло много времени, прежде чем он поднял голову и сказал:
– Ну что ж, я буду ждать. Я буду ждать. Но недолго. Не заставляй меня долго ждать, Господи Иисусе. Ты мне так нужен! Так нужен!
Вальдо сидел на песке, глядя перед собой полными слез глазами.
Вторая молитваТетушка Санни сидела в кресле посреди гостиной, держа в руке толстый псалтырь с медными застежками, ноги у нее удобно покоились на скамеечке, на шее белел чистый платок. Здесь же рядом, в опрятных передниках и новых башмаках, сидели Эмм и Линдал, а чуть поодаль – нарядная служанка в туго накрахмаленном белом чепце. За открытой дверью стоял и ее муж. Волосы у него были густо смазаны маслом и тщательно причесаны. Он не отрывал глаз от своих новых кожаных ботинок. Слугам тетушка Санни не разрешала присутствовать на молитве, считая, что в спасении души они не нуждаются. Все же остальные были в сборе и ждали управляющего.
Немец появился под руку с Бонапартом Бленкинсом, щегольски одетым в черную суконную тройку и в сверкающую белизной сорочку с белоснежным воротничком. Немец в потертой, темного с ворсом сукна куртке бросал на своего спутника взгляды, полные робкого восхищения.
У парадной двери Бонапарт Бленкинс с достоинством снял шляпу и поправил воротничок. Он прошествовал к столу посреди комнаты, торжественно возложил на него свою шляпу рядом с семейной Библией и склонил голову в безмолвной молитве.
Тетушка Санни посмотрела на служанку, а служанка на тетушку Санни.
Ничто не вызывало в тетушке Санни такого глубокого почтения, ничто не впечатляло ее с большей силой, ничто не могло пробудить в ее душе более благородные чувства, нежели новое блестящее черное сукно. Оно воскрешало в ее памяти фигуру predikant'a,[5]5
Проповедник (африкаанс).
[Закрыть] почтенных старейшин, восседающих в церкви по воскресеньям в переднем ряду, таких благочестивых и респектабельных в своих черных фраках с узкими длинными фалдами, оно неразрывно связывалось в ее воображении с заоблачными высями, где все так свято и чинно и где ни на ком не увидишь грубого домашнего тканья, и даже ангелы и серафимы все сплошь в черных фраках. Она уже сожалела, что назвала столь почтенного человека вором и римским католиком. Оставалось надеяться, что немец не передал ее слов. Непонятно только было, почему он появился в лохмотьях. Однако нет никаких сомнений, мужчина он представительный, истый джентльмен.
Немец начал читать псалом. В конце каждой строки Бонапарт Бленкинс всхлипывал, а в конце каждого стиха даже дважды.
Тетушка Санни не раз слышала, что некоторые люди всхлипывают на молитве. Старый Ян Вандерлинде, например, ее дядя по матери, всегда всхлипывал, с самого своего обращения, но она не видела в этом особого проявления благочестия. Но всхлипывать во время чтения псалмов? Тетушка Санни была поражена. А ведь вчера она грозила этому святому человеку кулаком! Неужели он не забыл ее грубости?
Молящиеся преклонили колени. В тетушке Санни было двести пятьдесят фунтов весу, и она не могла последовать их примеру. Сидя в кресле и прикрыв лицо руками, она поглядывала на чужестранца. Слов ей не удавалось разобрать, но по всему видно было, что он ревностно молится. Вот он ухватил стул за спинку и стал его трясти, да так, что из-под ножек на земляном полу взвились струйки пыли.
Когда все поднялись с колен, Бонапарт Бленкинс чинно уселся на стул и открыл Библию. Он громко высморкался, поправил воротничок, провел рукой по странице, будто разглаживал ее, одернул жилет, снова высморкался, торжественно огляделся и начал:
– Ложью же осквернившие себя будут низринуты в озеро, горящее пламенем и серою, и будет им это вторая смерть.
Прочитав эти слова, Бонапарт Бленкинс сделал выразительную паузу и оглядел всех в комнате.
– Я не стану, мои дорогие друзья, – продолжал он, – утомлять вас и отнимать ваше драгоценное время, мы уже употребили его во славу Господу. Мне остается сказать вам немного, всего несколько слов, – да будут они подобны биту железному, отрешающему кости от мозга! Итак, ответьте: что есть лжец?
Вопрос был задан таким многозначительным тоном и сопровождался такой долгой паузой, что даже муж служанки-готтентотки оторвал взгляд от своих ботинок, хотя ни слова не понял.
– Я повторяю, – сказал Бонапарт. – Что есть лжец?
Его вопрос произвел глубокое впечатление. Присутствующие застыли в напряженном ожидании.
– Доводилось ли кому-либо из вас встречать лжеца, мои дорогие друзья? – И снова пауза, еще более продолжительная. – Надеюсь, нет. От всей души надеюсь, нет. Но я расскажу вам, что такое лжец. Я знавал одного, это был маленький мальчик и жил он в Кейптауне, в переулке возле Шорт Маркет-стрит. Однажды, когда мы с его матушкой сидели, рассуждая о спасении души, она позвала его.
«Эй, Сэмпсон, – сказала она, – вот тебе шесть пенсов, ступай купи персиков у малайца за углом».
Когда он возвратился, она спросила, сколько ему дали на шесть пенсов.
«Пять персиков», – ответил он.
Он боялся, что если скажет правду: пять с половиной, она попросит у него половинку. И он солгал, друзья мои. Половинка застряла у него в горле, он умер, и его похоронили. Куда же попала душа этого маленького лжеца, друзья мои? В пылающее серное озеро, так-то. Перейдем теперь ко второй части рассуждения, а именно: что есть озеро, горящее пламенем и серою? Попытаюсь объяснить вам и это, друзья мои, – проронил он снисходительно. – И хотя воображение само по себе бессильно постичь сие, постараюсь с божьей помощью просветить вас.
Случилось мне как-то путешествовать по Италии. И прибыл я в большой город, называемый Римом. Недалеко от него огнедышащая гора. Имя ей – Этна. И жил в этом городе Риме некий юноша, который не питал должного страха перед богом, и любил он женщину. Когда же эта женщина умерла, взошел он на огнедышащую гору и бросился в провал, что на самой ее вершине. На другой день поднялся туда и ваш покорный слуга. В душе моей не было страха, ибо господь хранит слуг своих; и на руках вознесет он их, если случится упасть, пусть даже в вулкан. Пока я взбирался туда, спустилась ночь. В страхе божием приблизился я к самому краю зияющей бездны и глянул вниз. То, что я увидел, вовеки не изгладится из моей памяти. Я увидел раскаленное озеро среди тьмы кромешной, огнь расплавленный, море кипящее; и по волнам носился белый скелет самоубийцы. Подобно легкой пробке, метался этот скелет по огненным волнам. Одна рука скелета была поднята и перст указывал на небо; другая опущена – устремленный вниз перст как бы говорил: «Мне в преисподнюю, тебе же, Бонапарт Бленкинс, в выси небесные!» Я смотрел, зачарованный и потрясенный. И в тот же миг разверзлись волны, затем вздыбились, закипели и поглотили самоубийцу, сокрыв его навсегда от ока людского.
Бонапарт Бленкинс сделал передышку и продолжал:
– Озеро из расплавленного камня поднималось все выше и выше, оно заполнило кратер и готово было выплеснуться за края. Не теряя присутствия духа, я взобрался на близлежащий утес, и через мгновение вокруг меня забушевал огненный поток. И всю ту долгую и ужасную ночь я простоял один на утесе, среди кипящей лавы, словно символ долготерпения и милосердия господа бога, пощадившего меня, дабы я мог сегодня свидетельствовать во славу его. А теперь, друзья мои, подумаем, какие уроки должно вынести из этого повествования. Урок первый: воздержитесь от самоубийства. Лишь последнему глупцу, друзья мои, лишь тому, кто не в своем рассудке, друзья мои, придет фантазия, друзья мои дорогие, добровольно покинуть этот мир. Жизнь дарит нам наслаждения столь неисчислимые, столь разнообразные, что нам нелегко их постичь. Хорошая одежда, друзья мои, мягкая постель, вкусная пища – не прекрасно ли все это?! Не для того ли и дана нам плоть, чтобы мы лелеяли и берегли ее? Так не станем же держать плоть в небрежении, но ублажим ее и позаботимся о ней, друзья мои!
Все были глубоко взволнованы, а Бонапарт Бленкинс продолжал:
– Урок второй: воздержитесь от безрассудно-пылкой страсти. Не люби этот молодой человек так страстно, он бы не спрыгнул в провал. В доброе старое время праведные мужи так не поступали. Был ли одержим страстию Иеремия, или Эзекииль, или Осия, или хотя бы кто-нибудь из младших пророков? Нет. Так и нам это не пристало. Тысячи людей кипят сейчас в огненном озере. И ввергла их туда греховная страсть. Так будем же всегда помнить о спасении наших собственных душ!
Тебе хвалы пою, Господь!
Внемли же, Вседержитель, —
И мой бессмертный чистый дух
Прими в свою обитель.
О, возлюбленные друзья, помните же маленького мальчика и историю с персиками. Помните молодую девушку и юношу, помните также озеро, горящее пламенем и серой, и скелет самоубийцы на черных, как смоль, волнах Этны; помните глас, предостерегающий вас ныне; повторяю еще раз: берегитесь, и да ниспошлет нам господь свое благословение!
Тут он с оглушительным треском захлопнул Библию.
Тетушка Санни сняла с шеи белый платок и вытерла слезы. Зашмыгала носом и ее служанка. Они ни слова не поняли из проповеди, но это лишь сильнее растрогало их. Так уж устроена душа человеческая: все непостижимое и таинственное извечно полно для нее очарования. Когда пропели последний псалом, немец подвел новоявленного проповедника к тетушке Санни, и та любезным жестом предложила ему кофе и пригласила сесть на кушетке. Тем временем немец поспешил к себе в пристройку посмотреть, не готов ли плумпудинг. Тетушка Санни заметила, что день жаркий. И так как при этом она принялась обмахивать себя концом фартука, Бонапарт Бленкинс без труда уловил ее мысль. Вежливым наклоном головы он выразил свое согласие. Последовало продолжительное молчание. Тетушка Санни заговорила снова. Но Бонапарт не слушал, его взгляд был прикован к небольшому портрету, висевшему на стене. На портрете изображена была тетушка Санни в зеленом муслиновом платье, сшитом накануне конфирмации, пятнадцать лет назад. Бонапарт порывисто поднялся, подошел к портрету и замер. Будто стараясь что-то припомнить, он долго всматривался в портрет, и все легко могли заметить, как глубоко он взволнован. И вот, как бы не в силах больше сдержать наплыв чувств, он схватил портрет, снял его с гвоздя и поднес ближе к глазам. Рассмотрев его получше, он с волнением повернулся к тетушке Санни и растроганным голосом сказал:
– Надеюсь, вы извините меня, мадам, за этот невольный порыв, но этот… этот портрет так живо напомнил мне мою первую и единственную любовь, мою дорогую покойную супругу, которая теперь, без сомнения, умножила собой сонм святых!
Тетушка Санни не поняла. Но служанка, сидевшая на полу у ее ног, старательно, как сумела, перевела английскую речь на капское наречие.
– Ах, моя первая любовь, возлюбленная моя, – чувствительно продолжал Бонапарт Бленкинс, не отрывая глаз от портрета. – О дорогие, прелестные черты! Ангельская моя супруга!.. Это, несомненно, ваша сестра, мадам? – прибавил он, переводя взгляд на тетушку Санни.
Та покраснела, отрицательно покачала головой и показала на себя.
Бонапарт переводил пристальный, сосредоточенный взгляд с портрета на тетушку Санни и обратно, как бы сравнивая черты, и лицо его постепенно светлело. Он в последний раз почтительно посмотрел на тетушку Санни, потом на портрет и расплылся в лучезарной улыбке.
– О да, ну как же я сразу не сообразил! – вскричал он, одаряя голландку восхищенным взглядом. – Глаза, губы, нос, подбдродок, само выражение лица! Как я не заметил этого прежде!
– Еще чашечку кофе, – предложила тетушка Санни. – Вот вам сахар.
Бонапарт с величайшей тщательностью повесил портрет на место и хотел уже было взять чашку, когда вошел немец и сказал, что пудинг готов и жаркое уже на столе.
– Он человек богобоязненный и хорошо воспитанный, – изложила свое мнение тетушка Санни, когда Бонапарт вышел. – А что он некрасив, так ведь на все воля божья. Можем ли мы насмехаться над творением рук господних? Пусть лучше урод, да праведник, чем писаный красавец, да грешник!.. Хотя, что и говорить, приятно, коли человек и душой и лицом хорош, – договорила она, любуясь своим портретом.
После обеда немец и Бонапарт Бленкинс молча курили возле двери в пристройку. В руках у Бонапарта была книга, но он только делал вид, что читает, глаза у него слипались. Немец энергично попыхивал трубкой и, то и дело отрываясь от своей книги, поглядывал на безоблачное небо.
– Вы, кажется, говорили, – внезапно выпалил немец, – будто ищете место?
Бонапарт широко раскрыл рот и выпустил целое облако дыма.
– Допустим, – сказал немец, – я говорю, конечно, только предположительно, – что кто-нибудь, не будем называть имен, сделал бы вам предложение поступить учителем к двум детям? К двум прелестным девочкам – за вознаграждение в сорок фунтов в год? Приняли бы вы такое предложение? Я говорю, конечно, только для примера.
– Видите ли, милейший, – ответил Бонапарт Бленкинс, – все зависит от обстоятельств. Деньги для меня не самое важное. Жену я обеспечил на год вперед. Но здоровье у меня подорвано. И если б я нашел место, где джентльмен мог бы рассчитывать на соответствующее обращение, то меня не остановила бы ничтожность вознаграждения. Потому что, – повторил Бонапарт, – деньги для меня не главное.
– Так вот, – проговорил немец, сделав несколько глубоких затяжек. – Пойду-ка я повидаю тетушку Санни. По воскресеньям я всегда посещаю ее. Мы с ней болтаем. Обо всем и ни о чем. Такая уж у нас привычка.
Старик сунул книгу в карман и направился к хозяйскому дому с хитрым и довольным выражением лица.
– Наивный человек, он и не подозревает, что я надумал, – бормотал немец. – Не имеет ни малейшего понятия. Вот будет приятный сюрприз для него!
Человек, которого он оставил у порога, посмотрел ему вслед и подмигнул, состроив неописуемую гримасу.
Глава VI. Бонапарт Бленкинс вьет гнездо
С грудой овчин на плече Вальдо остановился у лестницы, ведущей на чердак хозяйского дома, и через отворенную дверь бывшей кладовой увидел Эмм. Она сидела там одна на скамье, настолько высокой, что ноги у нее не доставали до пола. Пристройка, прежде использовавшаяся под кладовую для зерна, была разделена теперь штабелем мешков с маисом на две половины – заднюю отдали Бонапарту Бленкинсу под спальню, а переднюю превратили в классную комнату.
– Что случилось? – участливо спросил Вальдо, видя заплаканное лицо девочки.
– Его рассердила Линдал, – ответила девочка, – а он в отместку задал мне четырнадцатую главу от Иоанна! Сказал, что научит меня вести себя, пусть Линдал лучше ему не досаждает.
– Что она натворила? – полюбопытствовал Вальдо.
– Когда он что-нибудь рассказывает, она смотрит на дверь, как будто и не слушает, – ответила девочка, удрученно листая страницы книги. – А сегодня она спросила про знаки зодиака. Он сказал, что удивлен ее вопросом, девочкам не пристало об этом знать. Тогда она спросила, кто такой Коперник, а он сказал, что это римский император; он жег христиан и за это его черви заживо съели. Не знаю почему, – плаксиво прибавила Эмм, – но Линдал взяла вдруг свои книги под мышку и сказала, что не будет ходить на его уроки, а ведь все знают: как Линдал решила, так она и сделает. Теперь мне придется каждый день сидеть здесь одной. – Из глаз Эмм покатились крупные слезы.
– Может, тетя Санни еще вытурит его, – пробормотал мальчик, стараясь ее утешить.
Эмм посмотрела на него и покачала головой.
– Нет. Вчера вечером служанка мыла ей ноги, а он и говорит: «Какие у вас красивые ноги, посмотреть приятно. Мне всегда нравились полные женщины». А она велела подавать ему к кофе свежие сливки… Нет, теперь он у нас навсегда останется, – грустно заключила Эмм.
Мальчик свалил овчины на землю, порылся у себя в карманах, извлек оттуда маленький сверточек и протянул ей.
– На, это тебе. Бери, бери.
Эмм развернула бумажку. Но даже при виде кусочка застывшей камеди, а ведь дети так любили ее жевать, – она не утешилась, и несколько крупных слезинок упали на подарок Вальдо.
Вальдо окончательно расстроился. Сам он столько плакал за свою недолгую жизнь, что чужие слезы надрывали ему сердце. Он неловко перешагнул через порог, подошел к столу и сказал:
– Если ты перестанешь плакать, я тебе расскажу тайну.
– Какую? – подхватила Эмм, чувствуя мгновенное облегчение.
– А ты не скажешь ни одной живой душе?
– Ни одной.
Он наклонился к ней и торжественно произнес:
– Я изобрел машинку!
Эмм смотрела широко раскрытыми глазами.
– Да, машинку для стрижки овец. Она почти готова, – сказал мальчик, – только одна вещь не ладится, но я скоро сделаю. Знаешь, – с таинственным видом прибавил он, – если все время думать, думать, дни и ночи только и думать о чем-нибудь, то тебя непременно осенит…
– А где она, эта машинка?
– Здесь! Я ее всегда вот здесь ношу. – Вальдо показал себе на грудь, где у него было что-то спрятано под одеждой. – Это модель. Когда она будет готова, ее сделают в полную величину.
– Покажи!
Мальчик покачал головой.
– Только когда будет готова. А до тех пор не могу.
– Какая чудесная тайна, – сказала Эмм, и Вальдо стал собирать брошенные овчины.
Вечером отец и сын ужинали в своей каморке. Старик сокрушенно вздыхал. Наверное, думал о том, что Бонапарт Бленкинс совсем забыл к нему дорогу. Сын ничего этого не замечал, он перенесся душой в мир, где нет места воздыханиям. Трудно сказать, что лучше; быть ничтожнейшим глупцом, но уметь взбираться по лестнице воображения в мир мечты, или же мудрейшим из людей, но видеть лишь то, что открыто глазам и ощущать только доступное прикосновению. Мальчик ел хлеб из непросеянной муки, запивал его кофе. Мысли его всецело были заняты машинкой; вот сейчас он придумает, как довершить свое изобретение. В мечтах он уже видел, как ее пускают в ход; она стрижет на удивление ровно и гладко… Все время, пока он жевал хлеб и пил кофе, его не покидало блаженное ощущение. И ему было так хорошо, что он не променял бы этой тесной комнаты на заоблачные чертоги царя небесного, где стены сплошь усыпаны аметистами и выложены молочно-белыми жемчугами.
Безмолвие нарушил стук в дверь. В комнату вошла курчавая темнокожая девочка и сказала, что тетушка Санни срочно зовет к себе управляющего. Немец надел шляпу и побежал.
В кухне хозяйского дома было темно, и он прошел в кладовую, где и находилась тетушка Санни в компании двух служанок.
Девушка-банту, опустясь на колени, растирала между двух камней перец, другая девушка-готтентотка держала в руке горящую свечу в медном подсвечнике, сама же тетушка Санни стояла у полки, уперши руки в бедра. Все внимательно к чему-то прислушивались. Тетушка Санни и ему сделала знак головой прислушаться.
– Что это такое? – воскликнул старик в изумлении.
За стеной была кладовая. Сквозь тонкую дощатую перегородку доносились протяжные и мучительные стоны и глухие удары о стену.
Немец схватил тяжелую мутовку и готов уже был бежать туда, но тетушка Санни удержала его, властным движением положив руку на плечо.
– Это он… – сказала она. – Бьется головой…
– Но почему? – недоуменно спросил немец, переводя взгляд с тетушки Санни на служанок.
Ответом ему был громкий стон. Затем раздался знакомый голос – голос Бонапарта Бленкинса:
– Мэри Энн! Ангел мой! Жена моя!
– Ужасно, не правда ли? – вскричала тетушка Санни, прислушиваясь к участившимся яростным ударам. – Он получил письмо: у него жена померла. Пойдите, утешьте его… Да и я с вами. Одной-то мне неловко, мне ведь всего тридцать три года, а он теперь человек холостой, – сказала она, краснея и поправляя на себе передник.
Все вчетвером они отправились утешать Бонапарта. Служанка-готтентотка несла свечу, за ней шли тетушка Санни и немец, а замыкала шествие девушка-банту.
– Ох, – произнесла тетушка Санни, – теперь-то я вижу, что он расстался с женой не по своей вине, так, видно, ему судьба судила.
У дверей она пропустила немца вперед, а сама вошла волед за ним. Бонапарт Бленкинс лежал на раскладной кровати, уткнувшись лицом в подушку и подергивая ногами. Тетушка Санни села на ящик в ногах постели. Немец остался стоять. Скрестив на груди руки, он молча смотрел на Бонапарта.
– Все там будем, – выговорила наконец тетушка Санни, – на все воля божья.
Заслышав ее голос, Бонапарт Бленкинс перевернулся на спину.
– Конечно, тяжело, – продолжала она. – Мне ли не знать? Сама двоих мужей схоронила.
Бонапарт Бленкинс поднял глаза на немца.
– Что она говорит? Утешьте мое сердце.
Немец перевел ему слова тетушки Санни.
– Ах, я – я тоже! Схоронить двух дорогих, милых сердцу жен! – вскричал Бонапарт, в изнеможении откидываясь на подушку.
Он вопил до тех пор, пока потревоженные тарантулы, гнездившиеся в щелях между стропилами и кровлей из оцинкованной жести, не стали оттуда выглядывать, сверкая бусинками злых глаз.
Тетушка Санни вздохнула, вздохнула и служанка-готтентотка, а девушка-банту, которая оставалась у дверей, прикрыла рот рукой и произнесла: «моу-ва!»
– Уповайте на бога, – сказала тетушка Санни. – Он вознаградит вас за все потери.
– Да, да! – простонал Бонапарт. – Но я потерял жену! Потерял жену!
Растроганная тетушка Санни подошла поближе к потели.
– Спросите его, не откушает ли он кашки. Каша очень вкусная. Варится на кухне.
Немец перевел это предложение хозяйки, но безутешный вдовец только рукой махнул.
– До еды ли мне! В рот ничего не лезет. Нет и нет! Не говорите мне о еде!
– Кашки и немножко бренди, – уговаривала тетушка Санни.
Последнее слово Бонапарт Бленкинс понял без перевода.
– Ну что ж, пожалуй… несколько капель… попытаюсь… чтобы… выполнить свой долг… – заговорил он, глядя немцу в глаза. Губы его дрожали. – Ведь я должен выполнить свой долг, не так ли?
Тетушка Санни тотчас распорядилась, и одна из служанок побежала за кашей.
– Я знаю, каково это, сама пережила. Когда умер мой первый муж, меня никак не могли успокоить, – сказала тетушка Санни, – пока не заставили поесть баранины да лепешек с медом. Я-то понимаю.
Бонапарт Бленкинс сел на постели, вытянул перед собой ноги и уперся руками в колени.
– О, что это была за женщина! Вы очень добры, что стараетесь утешить меня, – говорил он, всхлипывая. – Но ведь она была мне женой. Ради нее я и жил… Такой у меня характер; ради своей жены я и жизнь готов положить! Ради своей жены! Какое же это прекрасное слово – жена! Когда-то еще слетит оно с моих уст…
Немного успокоясь, он спросил немца, все еще не в силах унять дрожь своих отвислых губ:
– Как вы считаете, она все поняла? Переведите ей слово в слово, пусть знает, как я ей благодарен!
В этот момент возвратилась служанка с миской дымящейся каши и бутылкой из темного стекла.
Тетушка Санни подлила немного бренди в миску с кашей, хорошенько все размешала и подошла к постели.
– Ох, нет, нет, не могу! Поперек горла станет! – воскликнул Бонапарт, хватаясь за живот.
– Ну, хоть немножко, – уговаривала его тетушка Санни. – Хоть глоточек!
– Слишком густая! Слишком густая! Я не смогу ее проглотить.
Тетушка Санни добавила еще бренди и зачерпнула кашу ложкой. Бонапарт Бленкинс раскрыл рот, словно птенец, ожидающий, пока мать его накормит, – и тетушка Санни стала вливать ложку за ложкой в его скорбно поджатый рот.
– Ах, вот вам и будет полегче, – говорила тетушка Санни, которая едва ли могла провести четкую границу между функциями сердца и желудка. И в самом деле, по мере того, как убавлялась каша, убавлялась и печаль Бонапарта Бленкинса; он глядел на тетушку Санни кроткими заплаканными глазами.
– Скажите ему, – велела она, – что я желаю ему покойной ночи, и да пошлет ему бог утешение.
– Благослови вас, дорогой друг, господь вас благослови! – сказал Бонапарт в ответ.
Когда все ушли, он поднялся с постели и смыл водой мыло, которым были намазаны глаза.
– Бон, – сказал он, хлопая себя по ляжке, – ну и хват же ты, парень, свет таких не видал! Но только не зваться тебе Бонапартом, если не вытуришь ты отсюда старого святошу вместе с маленьким оборванцем, его сыночком. И ты должен прибрать к рукам эту полненькую особу, надеть ей колечко на палец. Ты же Бонапарт! Боп, ты парень что надо!
С этими приятными мыслями на душе он снял штаны и в отличном расположении духа завалился спать.





