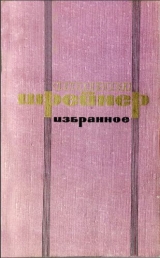
Текст книги "Африканская ферма"
Автор книги: Оливия Шрейнер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Губы Линдал слегка раздвинулись в улыбке.
– Нас принуждают смотреть на брак как на профессию, а если мы жалуемся, говорят, что мы вольны выходить или не выходить замуж. Так-то оно так, но ведь кошка, плавающая в бадье по пруду, вольна не мочить ног, не хочешь – сиди в бадье; и утопающего никто не вынуждает хвататься за соломинку. Хороша свобода! Пусть каждый мужчина подумает хоть пять минут, что значит для женщины остаться старой девой, тогда он не будет говорить пустое. Легко ли всю жизнь влачить подобное существование да еще жить, как это бывает в девяти случаях из десяти, под ногтем у другой женщины? Легко ли сознавать, что тебе уготована старость без почета, без радости труда, без любви? Много ли нашлось бы мужчин, которые во имя высшей идеи согласились бы пожертвовать всем, что им дорого в жизни?
Она рассмеялась коротким недобрым смехом.
– А когда исчерпаны все аргументы против женщин, говорят так: «Ну что ж, продолжайте в том же духе. Если вы станете такими, как желаете, и дети унаследуют вашу культуру, пострадаете в первую очередь вы сами. Избыток интеллекта приведет к угасанию страстей и тем самым к вымиранию рода человеческого…» Глупцы! – воскликнула она с презрительной гримасой. – Дикарь сидит на обочине, обгладывает кость, попивает самодельное зелье и мурлычет от удовольствия; цивилизованный сын девятнадцатого века сидит в кресле, с видом знатока пригубливает отборные вина и смакует деликатесы. Он-то понимает толк во вкусной еде. Выступающей челюсти и скошенного лба нет уже и в помине, весь его облик изменился развитием интеллекта, но его обуревают те же страсти – только более утонченные, более избирательные и даже более сильные. Глупцы! Разве мужчины не ели, не дрались за женщин в те времена, когда они еще не умели ни прощать, ни поклоняться богам, когда только еще учились ходить на задних ногах? Даже если исчезнут все благоприобретенные человеческой природой качества, их основа останется незыблемой.
Она помолчала, а потом тихо, будто размышляя вслух, сказала:
– Нам говорят: «Хорошо, предположим, человеческий род уцелеет, – чего же вы добьетесь? Утвердите на земле справедливость и равенство в ущерб любви? Когда мужчины и женщины обретут полное равноправие, любви не останется места. Высококультурные женщины не смогут полюбить и не узнают мужской любви». Неужели же они ничего не видят, ничего не понимают? Ведь это только тетушка Санни хоронит супруга за супругом, приговаривая: «Бог дал, бог и взял, да будет благословенно имя его», – и каждый раз ищет нового. А человек глубокого ума и сильных чувств после смерти супруги, которая ничего не щадила ради него, не находит себе покоя, пока не уснет вечным сном.
Великая душа привлекает к себе – и сама тянется к другим людям с несравненно большей силой, чем душа мелкая; чем выше духовный рост человека, тем глубже корни у древа его любви и тем раскидистее крона. Именно ради такой любви, а не ради чего-нибудь другого и хочется жить.
Линдал прислонилась головой к каменной ограде и печальным нежным взглядом смотрела вслед удалявшейся птице.
– Настанет время, – сказала она тихо, – когда любовь не будет покупаться и продаваться, когда она перестанет быть средством добывать кусок хлеба, когда жизнь каждой женщины будет наполнена упорным, свободным трудом, – любовь сама придет к ней и озарит все своим таинственным светом, придет нежданно-негаданно. Но это будет тогда, а сейчас…
Вальдо ждал, пока она договорит, но Линдал, казалось, забыла о нем.
– Линдал, – вымолвил он наконец, прикосновением руки возвращая ее к действительности. – Ты так хорошо говоришь… Если ты уверена, что наступит чудесное, замечательное время…
– Говорить легко! Трудно молчать.
– Отчего же ты не попытаешься приблизить это время? – спросил он с обезоруживающим простодушием. – Когда ты говоришь, я верю каждому твоему слову. И другие прислушаются.
– А вот я в этом не уверена, – сказала она с улыбкой.
Глаза ее вдруг затянула пелена тоски и усталости, как накануне вечером, когда она смотрела на тень подсвечника.
– Я, Вальдо, я? Пока меня не разбудят, я не сделаю никакого добра ни себе, ни людям. Я живу в каком-то сонном оцепенении, замкнулась в себе. Прежде чем спасать других, надо спасти себя самое…
Он смотрел на нее недоумевающими глазами, но она даже не повернулась к нему.
– Видеть добро и красоту и быть не в силах наполнить ими свою жизнь – не значит ли это уподобиться Моисею на горе Нево? Под ногами у тебя земля, где течет молоко и мед, но ступить на эту землю тебе не суждено. Лучше бы уж и не видеть. Пойдем, – заключила она, заглянув ему в лицо, и, убедясь, что он ничего не понял, добавила: – Пора возвращаться. Досс ждет не дождется завтрака. – Линдал повернулась и позвала собаку. Тем временем Досс самозабвенно разрывал кротовую нору, пытаясь добраться до ее обитателя. Этой страсти он предавался с трехмесячного возраста, но еще ни разу ему не сопутствовала удача.
Вальдо вскинул на плечо пустой мешок и двинулся следом за Линдал. Досс трусил рядом с ней.
Линдал размышляла. Может быть, о том, как трудно выразить свои мысли так, чтобы тебя поняли люди, духовно тебе родственные, о том, как легко забрести в пустынные края личного опыта, где уже не услышишь дружеских шагов. Неожиданно ее размышления прервал Вальдо. Он обогнал ее, остановился и неловким движением достал из кармана маленькую резную шкатулку.
– Это тебе, – сказал он.
– Спасибо. – Линдал внимательно рассматривала его подарок. – Славная вещица.
Шкатулка была сделана гораздо искуснее, чем намогильный столб. В переплетающемся узоре цветов чувствовалась более опытная рука резчика. Местами среди цветов разбросаны были пирамидки. Линдал вертела шкатулку в руках, критически оценивая работу. Вальдо не отводил глаз от своего изделия.
– Странно получилось, – задумчиво проговорил он, указывая на одну пирамидку. – Сначала их не было, и я чувствовал, будто чего-то не хватает. Менял узор, пробовал так и этак, пока не вырезал пирамидки. Только тогда стало хорошо. А почему, я так и не понял. Ведь сами по себе они некрасивы.
– Без них узор из гладких листьев был бы однообразен.
Задумчиво, словно речь шла о чем-то очень для него важном, он покачал головой.
– Небо без облаков однообразно, – сказал он, – однако же красиво. Я часто об этом раздумываю. Нет, красоту не создает ни однообразие ни разнообразие. В чем же красота? В небе, и в твоем лице, и в этой шкатулке, только в небе и в твоем лице ее больше. Но в чем она?
Линдал улыбнулась.
– Ты верен себе, Вальдо. Все те же вечные «почему»? Непременно доискиваешься причин? Мне довольно различать, – сказала она, – красивое и безобразное, реальное и нереальное: а что их породило, откуда вообще возник мир, меня не интересует. Конечно, всегда есть какая-нибудь причина, но что мне до нее? Сколько бы я ни старалась ее найти, мне не доискаться; так к чему ломать голову? А если б и доискалась, стало бы мне от этого легче? Нет. У вас, немцев, врожденная склонность к умствованию. Вам непременно нужно докопаться до сущности, как Доссу до крота. Досс прекрасно знает, что ему никогда не добраться до дна норы, но удержаться выше его сил.
– Но ведь может и докопаться?
– Может! Но только никогда не докопается. Жизнь слишком коротка, чтобы гоняться за вероятностью. Нам нужно реально достижимое.
Она взяла шкатулку под мышку и хотела уже было идти, но тут мимо них проскакал Грегори Роуз в шляпе со страусовым пером и в сапогах с блестящими шпорами, в руках у него был хлыст с серебряным набалдашником. Он галантно раскланялся, и им пришлось подождать, пока уляжется поднятая пыль.
– Вот кому надо бы родиться женщиной, – сказала Линдал. – Как счастлив он был бы обшивать оборочками платьице своей дочери и как мило восседал бы в гостиной, принимая комплименты какого-нибудь настойчивого поклонника. Разве нет?
– Я не останусь здесь, когда он станет хозяином фермы, – отвечал Вальдо, в понятии которого красота никак не сочеталась с особой Грегори Роуза.
– И правильно! – согласилась Линдал. – Женщина по природе своей тиран. Женоподобный мужчина – вдвойне тиран. Куда же ты пойдешь?
– Все равно куда.
– И что будешь делать?
– Я хочу повидать мир.
– Ты будешь разочарован.
– Как ты?
– Да. Только еще сильнее. Люди и мир благосклонны ко мне, а к тебе – нет. Несколько ярдов земли, клочок голубого неба над головой да возможность помечтать – вот и все, что тебе нужно. Меня же тянет к живым людям. Люди – пусть даже злые, недобрые – интересуют меня больше, чем цветы, деревья или звезды. Временами, – продолжала она, отряхивая на ходу пыль со своих юбок, – когда мои мысли не заняты новой прической, которая скрадывала бы мою короткую шею, я забавляюсь, сравнивая между собой людей. Что общего между тетушкой Санни и мною, тобой и Бонапартом Бленкинсом, святым отшельником Симеоном на его столпе и римским императором, который лакомился языками жаворонков? Кажется, ничего, а ведь все мы созданы из одних и тех же элементов, только смешанных в разной пропорции. То, что у одного человека в микроскопической дозе, у другого непомерно велико; что у одного в зачаточном состоянии, у другого прекрасно развито, но у всех все есть, и любая душа служит моделью для всех других.
После того, как мы тщательно исследуем самих себя, а ведь мы только самих себя и можем познать, мы уже не найдем ничего нового в человеческой натуре. Сегодня утром, подавая кофе в постель, служанка случайно плеснула мне на руку. Я смолчала, хотя и была раздражена. Тетушка Санни швырнула бы в нее блюдцем и бранилась бы целый час. Реакция разная, но чувство в основе одно и то же: недовольство, раздражение. Если бы Бонапарта Бленкинса, этот бездонный желудок, поместили под микроскоп, искусный анатом разглядел бы у него зачатки сердца и рудиментарные складки, которые могли бы превратиться в совесть и искренность…
Позволь мне опереться на твою руку, Вальдо! Какой ты измазанный! Ничего, ничего, я потом отчищу себе платье щеткой. Забавно сравнивать человека с человеком, но еще забавнее прослеживать сходство между развитием отдельной личности и целого народа или между развитием отдельного народа и всего человечества… Как приятно обнаружить здесь полное тождество, разница только в высоте букв! И как странно увидеть на своем собственном примере тот же самый прогресс и регресс, который отмечен на скрижалях истории, отыскать в своей душе те же пороки и добродетели! Плохо только, что я женщина и мне недосуг предаваться подобным развлечениям. Прежде всего, профессиональные обязанности! Даже хорошенькой женщине приходится тратить уйму времени и энергии, чтобы выглядеть всегда безупречно элегантной. А что, наша старая коляска еще цела, Вальдо?
– Да, только упряжь порвана.
– Постарайся привести ее в порядок. Ты должен научить меня править лошадьми. Надо же хоть чему-нибудь выучиться, пока я здесь. Утром служанка показала мне, как готовить одно местное блюдо, а тетушка Санни собирается выучить меня делать панамки. Пока ты будешь чинить сбрую, я посижу рядом с тобой.
– Спасибо.
– За что же? Я делаю это ради собственного удовольствия. Так хочется с кем-нибудь поговорить. Женщины нагоняют на меня тоску, а с джентльменами разговор такой: «Вы будете сегодня вечером на балу?», «Ах, какая прелесть ваша собачка!», «Какие миленькие у нее ушки!», «Обожаю щенков пойнтеров», они находят меня очаровательной, обворожительной. Мужчины подобны земному шару, женщины – луне; мы всегда обращены к ним одной стороной; и они даже не подозревают, что существует другая сторона.
Линдал и Вальдо подошли к дому.
– Скажи мне, когда примешься за работу, – попросила она и направилась к крыльцу.
Вальдо смотрел ей вслед. Досс стоял рядом, всем своим видом выражая мучительную нерешимость: остаться ли ему с хозяином или бежать вслед за Линдал? Он переводил взгляд с женщины в широкополой шляпе на своего хозяина, с хозяина на женщину, не зная, на что решиться. Наконец он последовал за Линдал. Вальдо подождал, пока они скроются за дверью, и пошел к себе. «Пусть хоть Досс будет с ней, и то хорошо!» – радовался он.
Глава V. Тетушка Санни устраивает ночные посиделки, а Грегори пишет письмо
Солнце уже село. Линдал вместе с Вальдо уехали и еще не вернулись. Выйдя подышать вечерней прохладой, худая служанка тетушки Санни увидела на дороге незнакомого всадника, юношу лет девятнадцати. Ехал он шагом, и служанка оглядела его с головы до ног. Юноша был в высокой поярковой шляпе, затянутой черным крепом, скрывавшим всю тулью, и только ослепительно-белая манишка нарушала мрачное однообразие его траурной одежды. Держался он в седле согнувшись, понуро повесив голову, всем своим видом являя покорность судьбе. Даже своего коня он понукал нерешительным тоном. Юноша явно не торопился, по мере своего приближения к ферме он отпускал поводья. Отметив все эти подробности, служанка сломя голову кинулась в дом.
– Еще один… – кричала она. – Вдовец… По шляпе видно.
– Боже милостивый! – всплеснула руками тетушка Санни. – Уже седьмой в нынешнем месяце. Знают ведь люди, кто собой хорош, пригож да у кого денежки водятся. – И, многозначительно подмигнув, она спросила: – Из себя-то каков?
– Лет девятнадцати, глаза подслеповатые, волосы белые, курносый, – доложила служанка.
– Он! Он и есть! – торжествующе объявила тетушка Санни. – Младший Пит ван дер Вальт! Жена у него в прошлом месяце померла. Человек он богатый, две фермы, овец двенадцать тысяч. Я его не видела, мне невестка рассказывала… То-то он мне снился всю ночь, сон в руку…
Она замолчала, потому что в дверях показалась черная шляпа Пита, а затем и он сам. Тетушка Санни гордо выпрямилась и молча, с достоинством указала ему на стул. Молодой человек уселся, убрал ноги под стул и представился кротким голосом:
– Я Пит ван дер Вальт-младший. Пит ван дер Вальт-старший – это мой отец.
Тетушка Санни важно сказала:
– Да.
– Тетушка, – сказал юноша, резко вскакивая, – могу я расседлать коня?
– Да.
Он схватил шляпу и бросился к дверям.
– Что я тебе говорила? Ну, как сердце чувствовало! – сказала тетушка Санни. – Сон-то был вещий. Не говорила ли я тебе утром, что снилось мне чудище какое-то, вроде большой белой овцы, с глазами красными. Одолела я его, это чудище! Белая овца – блондин, глаза красные – как у него, а одолела я – это к свадьбе, значит! Готовь ужин, да побыстрей. Подашь потроха бараньи и лепешки. Небось допоздна засидимся.
Ужин был для юного Пита ван дер Вальт сущей пыткой. Англичанки с их непонятной речью внушали ему смутный ужас, сватался он первый раз в жизни: его покойная супруга сама женила его на себе, и десять месяцев ее сурового самовластия не придали ему ни мужества, ни отваги. Он почти ничего не ел, а если и подносил кусок ко рту, то виновато озирался, словно боясь, что кто-нибудь увидит. Собираясь в путь, он надел на мизинец три перстня, с намерением, когда подадут кофе, непременно держать чашечку, оттопырив мизинец. Но, растерявшись, он держал чашку всеми пальцами. Немногим легче стало ему, когда все встали из-за стола, и они с тетушкой Санни перешли в маленькую гостиную. Молодой человек как сел, крепко сжав колени и положив на них свой головной убор, так и сидел, теребя поля шляпы. Тетушке Санни, напротив, ужин сообщил приятное расположение духа, и она просто не в силах была долее хранить степенное молчание, тем более что молодой человек пришелся ей по сердцу.
– А мы ведь родня с вашей покойной тетей Селеной, – сказала она. – Сын сводного брата моей матушки был женат на племяннице сводного племянника брата ее отца.
– Да, тетушка Санни, – подтвердил молодой гость. – Я знаю!
– У ее кузины, – продолжала тетушка Санни, еще более словоохотливее, чем обычно, – был рак груди, так ей, помнится, сделал операцию не тот доктор, за которым посылали. Ну, да все обошлось, слава богу.
– Да, – вставил юноша.
– Много раз слышала об этой истории, – распространялась тетушка Санни. – Оказалось, что это сын старого доктора, который, говорят, на самое рождество помер, не знаю уж, правда ли, нет ли? С чего бы умереть именно на рождество?
– В самом деле, с чего? – смиренно согласился юноша.
– А у вас зубы никогда не болели? – поинтересовалась тетушка Санни.
– Нет, никогда.
– Говорят, будто доктор, не сын того, что на рождество помер, а другой, ну, за которым посылали, да не приехал он, – говорят, будто он такую микстуру давал, что еще только пузырек откупоришь, а уже боль как рукой сняло. Сразу было видно – лекарство отменное, – сказала тетушка Санни, – в рот не возьмешь, такой у него вкус гадкий. Вот это был настоящий доктор. И уж нальет, бывало бутыль, так вот какую, – тетушка Санни подняла руку над столом на целый фут, – месяц пей, не выпьешь, и помогает от любой болезни: от крупа, от кори, от желтухи, от водянки. А теперь от всякой болезни изволь покупать новое лекарство. Нынешние доктора против прежних ничего не стоят.
– Не стоят, тетушка Санни, – сказал юноша. Набравшись смелости, он вытащил наконец ноги из-под стула и звякнул шпорами.
Тетушка Санни давно приметила, что молодой человек при шпорах. И напрасно он смущается, потому что шпоры – свидетельство мужественного нрава. Она воспылала еще большей симпатией к молодому человеку.
– А судороги у вас в младенчестве бывали? – полюбопытствовала тетушка Санни.
– Да, – ответил юноша.
– Вот совпадение! – воскликнула тетушка Санни. – И у меня тоже. Просто удивительно, как мы с вами схожи!
– Давайте проведем этот вечер вместе! – выпалил вдруг молодой человек.
Тетушка Санни опустила голову и полузакрыла глаза, но, заметив, что юноша не отрывает глаз от собственной шляпы и все ее уловки не достигают цели, изъявила свое согласие и отправилась за свечами.
В столовой Эмм строчила на швейной машине. Грегори сидел рядом, но взгляд его больших голубых глаз был прикован к Линдал, которая, высунувшись из окна, разговаривала с Вальдо.
Тетушка Санни взяла из буфета две сальные свечки, с победоносным видом подняла их и, подмигнув всем по очереди, объявила:
– Вот чего он попросил!
– Видно, лошади холку натер, хочет салом помазать, – предположил вслух Грегори, не знакомый с местными обычаями.
– Нет, – с негодованием возразила тетушка Санни, – просто мы собираемся провести вечер вместе! – И она вышла триумфальной поступью, унося с собой свечи.
Тем не менее, когда все в доме разошлись по своим комнатам, когда была зажжена высокая свеча, заново наполнен кофейник, когда сама тетушка Санни уютно устроилась в кресле, а жених рядышком на стуле, – ее стала одолевать скука. Молодой человек сидел с холодным видом и словно язык проглотил.
– Не угодно ли вам поставить ноги на скамеечку? – спросила тетушка Санни.
– Нет, нет, благодарствую, – отвечал он, и снова водворилось молчание.
В конце концов, опасаясь заснуть, тетушка Санни салила по чашке крепкого кофе себе и своему ухаживателю. Это заметно оживило их обоих.
– Сколько же вы прожили с женой, кузен?
– Десять месяцев, тетушка Санни.
– А младенцу вашему сколько было?
– Три дня только и пожил.
– Тяжело, ох как тяжело, когда бог прибирает твоего мужа или жену, – посочувствовала тетушка Санни.
– Ваша правда, – сказал юноша, – но на все воля божья.
– Да, – сказала тетушка Санни и вздохнула.
– Какой она была хозяйственной женщиной! Ах, тетушка Санни! Никогда не забуду, как она сломала мутовку о голову служанки, когда та забыла стряхнуть пыль с полотенца, которым накрывают подойник.
Тетушка Санни почувствовала укол зависти, ей самой еще никогда не случалось ломать палки о головы служанок.
– Надеюсь, она и умерла хорошо, как жила, – сказала тетушка Санни.
– О, смерть у нее была чудесная: она прочитала псалом, сотворила две молитвы, начала третью – и конец.
– Наказывала она что-нибудь перед смертью? – поинтересовалась тетушка Санни.
– Нет, – сказал юноша. – Только за ночь до того, как ей преставиться, лежу это я в постели, у нее в ногах, и чувствую: она меня пинает. «Пит», – окликает она меня. «Я здесь, Энни, сердце мое». А она и говорит: «Малютка наш, что умер вчера, приходил ко мне… Стал вот здесь, над сундуком, и говорит…» – «Что говорит?» – спрашиваю. «Говорит: коли мою маменьку бог приберет, пусть отец женится на полной женщине». – «Хорошо», – отвечаю.
Немного погодя я уснул. Слышу, она опять меня будит. Снова, мол, младенец приходил, велел тебе жениться на женщине старше тридцати, и чтобы до тебя у нее два мужа было.
– После этого я долго не мог заснуть, тетя. И только заснул, в третий раз меня будит. «Опять приходил наш малютка, – говорит она мне, – и велел не жениться на женщине с родинкой». Я и это обещал, а наутро она преставилась.
– Видение это, значит, такое было, – сказала тетушка Санни.
Юноша печально кивнул. Он вспомнил о младшей сестре жены, худенькой девушке с родинкой, вспомнил, как вечно ревновала его жена, и подумал: уж лучше оставался бы этот младенец на небесах и не пророчествовал, стоя над сундуком.
– Полагаю, что вы по этому делу ко мне и пожаловали, – сказала тетушка Санни.
– Да, и па говорит, чтобы я непременно женился до стрижки овец. В эту пору на все глаз да глаз нужен. А служанки только все дело перепортят.
– До стрижки овец, говорите?
– Да, тетушка Санни. В следующем же месяце и венчаться, – прошептал юноша, видимо, смирясь со своей участью. – Можно мне поцеловать вас, тетушка Санни?
– Фи! – запротестовала тетушка Санни, но тут же сама одарила его звонким поцелуем. – Подвинь стул-то поближе, – предложила она.
Он придвинулся вплотную к тетушке Санни, и так, локоть к локтю, они просидели до зари.
Утром Эмм, проходя через спальню тетушки Санни, увидела, что она стягивает с себя сапожки, готовясь лечь спать.
– Где же Пит ван дер Вальт? – спросила Эмм.
– Уехал, – отвечала тетушка Санни. – Ровно через четыре недели я выхожу за него замуж… Глаза слипаются, – прибавила она. – Этот дурачок совсем не умеет объясняться в любви. – Не снимая платья, она залезла на свою огромную кровать и укрылась до самого подбородка стеганым одеялом.
Накануне венчания тетушки Санни Грегори Роуз сидел на каменной ограде крааля за своим глинобитным домиком. Стояла жара, солнце пекло немилосердно, но он не уходил в тень. Глаза его неотступно следовали за легкой двухместной коляской с откидным верхом, которая с бешеной скоростью неслась через кустарник по направлению к ферме. Грегори сидел не шевелясь, пока коляска не скрылась из виду, и лишь тогда почувствовал, что сидит на раскаленных камнях. Он соскользнул с ограды и пошел домой. На пороге под ноги Грегори подвернулось ведро, и он в сердцах зашвырнул его в угол комнаты. Это доставило ему некоторое облегчение. Затем он уселся на сундучок и принялся было вырезать заглавные буквы из газеты. Но, увидев, что пол весь усеян этими вырезками, собрал их и начал выводить на промокательной бумаге разные инициалы перед своей фамилией: Г. Роуз, Э. Роуз, Л. Роуз, Л. Л. Роуз, Л. Л. Л. Л. Роуз. Разукрасив всю промокашку, он скользнул по ней недовольным взглядом и сел писать письмо.
Милая сестра/
Я давно не писал тебе, поверь, все было недосуг. Впервые, не припомню с каких пор, я сижу утром дома. Эмм считает, что по утрам я непременно должен бывать у них, но сегодня ехать на ферму нет никаких сил.
У меня много новостей.
Тетушка Санни, мачеха Эмм, выходит замуж, завтра венчание. Сегодня они уехали в город, свадьбу предполагают справить на ферме ее брата. Эмм и я отправляемся туда верхом, а ее кузина поедет в кабриолете с немцем. Кажется, я не писал тебе с тех самых пор, как Линдал, кузина Эмм, вернулась из пансиона. Думаю, эта гордячка совсем не понравилась бы тебе, Джемайма. Упиваясь собственной красотой, она не снисходит до разговоров с простыми смертными. Можно подумать, будто она одна в целом свете воспитывалась в пансионе.
Завтра – грандиозное торжество: съезжаются буры со всей округи, пляски будут до утра. Но все это не по мне, ибо, как справедливо заметила кузина, пляски буров ужасно вульгарны. На последнем таком сборище я танцевал с Эмм, единственно чтобы доставить ей удовольствие. Понять не могу, что она находит в этих танцах. Эмм предлагала, чтобы мы обвенчались в один день с тетушкой Санни. Однако мне удалось убедить ее подождать, пока мы не управимся со стрижкой овец, тогда я смог бы познакомить ее с тобой. Полагаю, что и она (я имею в виду ее кузину) принуждена будет жить с нами, поскольку у нее нет ничего, кроме каких-то жалких пятидесяти фунтов.
Мне она совсем не нравится, Джемайма, совсем, уверяю тебя. Не думаю, чтобы понравилась и тебе. Прежде всего она эксцентрична до неприличия: взять хотя бы ее привычку разъезжать повсюду в двуколке с этим неотесанным немцем! Полагаю, женщине вообще неприлично выезжать с мужчиной, если она с ним не помолвлена. Ты согласна со мной? Ну будь это я – другое дело, мы ведь будущие свойственники. Так нет же, меня она третирует! Третьего дня я привез на ферму альбом с твоими фотографиями и любезно предложил ей взглянуть. А она только бросила: «Благодарю вас», – и даже не соизволила головы повернуть: что мне, дескать, до ваших родственников?
Ей запрягают в двуколку самых норовистых лошадей, она сажает у себя в ногах презлую дворняжку, принадлежащую немцу, и отправляется на прогулку одна! Подумай только, одна! Своей сестре я такого не позволил бы. Не припомню, как это случилось, но прошлым утром я оказался именно на той дороге, по которой она ездит, так эта дрянная собачонка – зовут ее Досс, – завидев меня, по обыкновению подняла такой лай, что лошади взбрыкнули и в щепы разнесли щиток у кабриолета. Надо было видеть это зрелище, Джемайма! Никогда не видел таких нежных и крошечных ручек, как у нее, они обе уместились бы у меня в ладони. Но, Джемайма, надо иметь железные руки, чтобы осадить лошадей, как это сделала она. Когда я предложил свою помощь, она сказала: «Благодарю вас, я сама справлюсь. Я их буду держать на мундштуке, пока челюсти им не сверну!» Захохотала и погнала лошадей. Пристало ли так вести себя женщине!
Скажи отцу, что еще до истечения срока полугодовой аренды я женюсь на Эмм. Пара моих страусов высиживает птенцов, но я уже три дня не заходил в крааль. Все мне опостылело. Не знаю, что со мной, знаю лишь, что я нездоров. Если в субботу я поеду в город, наведаюсь к доктору, пусть он осмотрит меня, но, наверное, она поедет сама. Как ни странно, она никогда не посылает своих писем со мной. Когда я предлагаю свои услуги, она говорит, что не написала никаких писем, а на следующий же день едет в город сама. Пусть только это останется между нами, Джемайма, но дважды я привозил ей с почты письма, надписанные мужской рукой, и могу голову дать на отсечение, что одной и той же рукой, потому что я прекрасно запомнил почерк до каждой точечки над i! Право же, мне до этого нет никакого дела, но как жених Эмм, несмотря на свою личную неприязнь, я не могу не интересоваться ее судьбой. Надеюсь, она не замышляет ничего дурного. Жаль мне того человека, который на ней женится, вот уж ни за что на свете не желал бы оказаться на его месте. Если б моя жена загордилась, я бы мигом сбил с нее спесь. Мужчина не мужчина, если не умеет заставить женщину повиноваться своей воле. Возьми Эмм, ты знаешь, как я к ней привязан, но мое слово для нее – закон. Сказано надень то-то, сядь там-то, с тем-то не разговаривай – и конец! Повторений не требуется.
Мужчина, позволяющий командовать собой женщине, просто тряпка.
Кланяйся маменьке и малышам. Здесь очень красиво, просто прелесть, и овцы заметно потучнели в тех пор, как их вымыли. Поблагодари от меня отца за жидкость против паразитов, она отлично помогла.
И Эмм посылает вам поклон. Она шьет мне шерстяные рубашки. Конечно, маменькины сидели на мне не в пример лучше.
Пиши скорей!
Твой любящий брат
Грегори.
Только что она проехала мимо. Я сидел на ограде загона совсем близко, но она даже не кивнула.
Г. Н. Р.»





