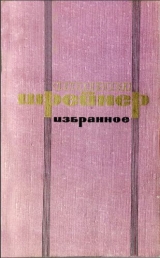
Текст книги "Африканская ферма"
Автор книги: Оливия Шрейнер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
Глава III. «Я был странником, и ты приютил меня»
Обогнув холм, девочки увидели необычное скопление народа возле задней двери хозяйского дома.
На пороге, уперев руки в бока, стояла тетушка Санни, вся багровая от распиравшего ее гнева, и яростно трясла головой. У ног ее сидела желтая готтентотка, старшая служанка, а вокруг толпились остальные служанки, прикрытые одеялами. Две девушки, которым велено было молоть маис, замерли над деревянной колодой с тяжелыми цепами в руках. Глаза у них были вытаращены. Конечно же, не старый немец-управляющий, возвышавшийся среди толпы, собрал столько народу. Его темный, цвета маренго костюм, черная с проседью борода и серые глаза были знакомы всем так же хорошо, как тростниковая крыша хозяйского дома. Все взоры были обращены на стоявшего рядом незнакомца, а тот с легкой усмешкой посматривал поверх своего красного крючковатого носа на тетушку Санни.
– Я, слава богу, не дитя неразумное, – разорялась тетушка Санни на своем родном языке, – и не вчера на свет родилась! Меня вам не провести! Рассказывайте свои сказки кому-нибудь другому! Я вас насквозь вижу, не хватало еще, чтобы у меня на ферме ночевали всякие бродяги! – кричала она срывающимся голосом. – Нет, черт подери, нет! Будь у него хоть шестьдесят шесть красных носов. Нет, нет и нет!
Тут немец-управляющий попробовал было вежливо намекнуть, что пришелец никакой не бродяга, а человек в высшей степени уважаемый. Три дня назад у него, к несчастью, пала лошадь и…
– И слушать ничего не желаю! – закричала тетушка Санни. – Не родился еще такой хитрец, который мог бы меня вокруг пальца обвести. Будь у него денежки, он купил бы себе другую лошадь. Пешком ходят только воры, убийцы, католики да всякие продувные бестии. А у этого на лице написано, кто он! – вопила она, грозя незнакомцу кулаком. – Каков наглец! Заявился в дом женщины из почтенной бурской семьи и здоровается со всеми за руку, будто он порядочный человек. Ну нет! Такому не бывать.
Странник снял свой, когда-то щегольской, а теперь заношенный цилиндр, обнажив лысое темя в полукружье волос, и отвесил тетушке Санни церемонный поклон.
– Что изволила сказать эта дама, друг мой? – осведомился он, скосив глаза на старого немца.
– Э, гм, ну… буры… видите ли… как бы это сказать… опасаются тех… кто ходит пешком…
– Мой любезный друг, – произнес незнакомец, положив руку на плечо управляющему, – я, конечно же, купил бы себе другую лошадь, но пять дней назад, переправляясь через глубокую реку, я обронил свой кошелек. В нем было пятьсот фунтов. Пять дней проискал я кошелек, но так и не нашел. Пять дней. Последние, чудом сохранившиеся девять фунтов я заплатил какому-то туземцу, который обшарил все дно реки. Но и он, увы, ничего не нашел.
Немец хотел было перевести все это тетушре Санни, но та и слушать ничего не стала.
– Нет-нет, пусть немедленно убирается. Вы только посмотрите, как он пялит на меня глаза, я женщина бедная, беззащитная. Если он вздумает обидеть меня, кто за меня заступится? – кричала тетушка Санни.
– Послушайте, – сказал немец вполголоса, обращаясь к пришельцу. – Не глядите на нее так пристально. Она может подумать… что у вас… дурные намерения.
– О, конечно, мой друг, конечно, – откликнулся гость. – Больше я и не погляжу в ее сторону.
И он тут же перевел взгляд на двухлетнего темно-шоколадного младенца. Этот несмышленый сын Африки пришел в неописуемый ужас и с воплями спрятался под одеялом своей родительницы.
Тогда пришелец повернулся к деревянной колоде. Он стоял, опершись обеими руками о набалдашник своей трости. Вид у его башмаков был довольно жалкий, зато трость была как у истинного джентльмена.
– Ишь бродяга! – буркнула тетушка Санни, глядя на него в упор.
Англичанин продолжал смотреть на колоду; казалось, он даже не замечает неприязненного к себе отношения.
– А вы, случайно, не шотландец? – поинтересовался немец. – Она ведь только англичан терпеть не может.
– Милейший, – воскликнул незнакомец. – Я чистокровный ирландец, отец у меня ирландец и матушка ирландка! В моих жилах ни капли английской крови!
– И вы, разумеется, женаты… – подсказывал немец. – У вас есть жена и детки… Видите ли, буры недолюбливают закоренелых холостяков…
– Ах, – сказал гость, и у него потеплел взгляд, – у меня милая жена и трое прелестных детей: две очаровательные девочки и прекраснейший сын.
Все это было тотчас передано управляющим тетушке Санни. Она немного смягчилась, хотя и осталась тверда в убеждении, что намерения у этого человека дурные.
– Господь свидетель, – вскричала она громким голосом, – все англичане – уроды, но такого, как этот, свет не видывал! Нос колбасой. Башмаки каши просят. А глаза-то! Да ведь он косой! Веди его к себе! – велела она управляющему. – Ты отвечаешь мне за него головой.
Немец перевел. Пришелец снова отвесил тетушке Санни низкий поклон и последовал за своим доброжелателем в его крохотную комнатушку.
– Я знал, что она скоро отойдет, – радостно говорил немец. – Тетушка Санни совсем не злая женщина! – И, перехватив удивленный, как ему показалось, взгляд, он поспешно добавил: – Мы тут живем попросту. Без громких титулов. Тетушка да дядюшка, вот и все наши титулы. Ну-с, вот моя комната, – сказал он, отворяя дверь. – Комната не ахти какая роскошная… Совсем даже не роскошная, но вы ведь не захотите спать в поле, а? – сказал он, украдкой глядя на своего гостя. – Входите, милости прошу. Угощу вас ужином. Царского стола не обещаю, но и с голоду не умрем… – Он потирал руки и оглядывался с довольной, хотя и несколько смущенной улыбкой.
– Друг мой, дорогой друг, – сказал гость, порывисто хватая его за руку, – да благословит вас господь, да благословит и наградит вас господь, заступник сирот и бездомных. Если б не вы, ночевать бы мне эту ночь на сырой земле.
Чуть позже Линдал принесла немцу ужин. Увидев свет в квадратном оконце, она не стала стучать, а откинула щеколду и вошла. В очаге потрескивал огонь, ярко-красным светом заливая всю невзрачную каморку с источенными потолочными балками, земляным полом и потрескавшейся штукатуркой на стенах. Комната была сплошь заполнена самыми разнообразными вещами. Рядом с очагом виднелся большой ящик для инструментов, над ним – полка, заставленная потрепанными книгами, еще дальше в углу возвышалась гора мешков, пустых и с зерном. С потолочных балок свисали ремни – «реймсы», старые башмаки, уздечки, связки лука. В другом углу стояла кровать, которую обычно задергивали синей занавеской. Но сейчас занавеска была откинута и в глаза бросалось стеганое одеяло из набивного ситца:, выцветшие красные львы по всему фону. Полку над очагом у одной стены занимали какие-то мешочки и камешки, на другой стене висела карта южной Германии. Красными черточками на ней был отмечен путь, который прошел старый немец. Только здесь Линдал и Эмм чувствовали себя как дома. Усадьба, где жила и правила тетушка Санни, была для них местом, где они спали, ели, – а тут они были счастливы. Напрасно старалась голландка внушить девочкам, что они уже взрослые и не пристало им туда ходить, в эту лачугу. Каждое утро и каждый вечер они реизменно оказывались здесь. Здесь прошло их детство, с этими старыми стенами связано столько добрых воспоминаний.
Долгими зимними вечерами они сидели вокруг очага, дожидались, пока поджарится картошка, и загадывали друг другу загадки, а старик немец рассказывал им о маленькой немецкой деревушке, где пятьдесят лет назад, совсем еще мальчиком он играл в снежки. Он вспоминал вслух, как однажды отнес домой вязаные чулочки девочки, которая впоследствии стала матерью Вальдо. И обеим слушательницам казалось, будто они воочию видят, как, постукивая деревянными башмаками, разгуливают крестьянские девушки с золотыми косами и как мамы сзывают своих детей ужинать и накладывают им в деревянные плошки картофель и поят молоком, а иногда девочки проводили время еще веселее: в лунные вечера затевали возню у дверей, и старый немец, как ребенок, бегал с ними взапуски, и все смеялись так громко, что от хохота дрожала крыша старого амбара. Но всего приятнее были теплые, темные, звездные ночи, когда все они садились на крылечке и пели на немецком языке псалмы; голоса их звучали звонко в ночной тишине, и немец украдкой, чтобы не видели дети, смахивал с глаз слезы; а иногда они просто смотрели на небо и говорили о звездах – о прекрасном Южном Кресте, о кроваво-красном Марсе, об Орионе с его поясом, о семи загадочных сестрах – какие они, сколько им миллионов или миллиардов лет, обитаемы они или нет. И старый немец высказывал предположение, что там, очень даже может быть, живут души тех, кого они любили. Может быть, вон на той далекой мерцающей искорке живет теперь маленькая девочка, чулочки которой он относил домой… И, отыскав в небе искорку, дети смотрели на нее потеплевшими глазами и говорили: «Вот звезда дяди Отто». И еще они размышляли о тех временах, когда свод небесный свернется, подобно свитку, и светила небесные осыплются с тверди, точно перезрелые плоды смоковницы, и оборвется течение времен, и «сын человеческий придет во славе его и с ним все ангелы его». Голоса их становились все тише, понижаясь до шепота. Они желали друг другу покойной ночи и расставались притихшие…
Когда Линдал заглянула в квадратное оконце, Вальдо сидел у очага и смотрел на кипящую кастрюлю, забыв о грифеле и дощечке, которые все еще были у него в руках. Старый Отто сидел за столом, уткнувшись в газету трехнедельной давности. На кровати в углу, вытянувшись, крепко спал их гость. Он дышал раскрытым ртом, все тощее его тело изобличало смертельную усталость. Девочка поставила еду на стол, сняла нагар со свечи и пристально посмотрела на спящего.
– Дядя Отто, – сказала она, положив руку на газету. Старый немец поднял глаза и взглянул на нее поверх очков. – Этот человек весь день был на ногах?
– С самого утра, бедняга. К ходьбе он непривычен, сразу видно, джентльмен. А что делать, если лошадь пала? – сказал он, выпятив нижнюю губу и сочувственно разглядывая незнакомца; его пухлый двойной подбородок, вдребезги разбитые башмаки.
– А вы ему верите, дядя Отто?
– Конечно, верю. Он сам мне трижды рассказал обо всем, что с ним случилось…
– Но за один день, – с расстановкой сказала девочка, – нельзя износить башмаки. А что, если…
– Если! – вскричал немец, вскакивая со стула, до глубины души возмущенный высказанным сомнением. – Если! Но он же сам мне все рассказал… Вот он лежит, смотри – несчастный, измученный человек! У нас тут есть для него кое-что, – он показал большим пальцем на булькающую кастрюлю. – Мы не французские кулянары, но похлебать это можно, ей-богу, можно. Все лучше, чем голодать, – прибавил он, весело кивая головой, всем своим видом показывая, что он крайне доволен и готовящимся ужином, и самим собой. – Тс-с, тише! – предостерег он Линдал, когда та стала расхаживать по комнате. – Тс-с, ты его разбудишь, мой цыпленочек.
Он переставил свечу так, чтобы свет не беспокоил спящего, разгладил газету и, поправив очки на носу, снова углубился в чтение.
Девочка долго рассматривала незнакомца, лишь иногда переводя свои темно-серые глаза на старого немца.
– А я думаю, он лжет… Покойной ночи, дядя Отто! – процедила она, повернулась к двери и вышла.
Старый немец долго еще сидел за чтением. Наконец он аккуратно сложил газету и спрятал ее в карман.
Гость так и не проснулся; Вальдо тоже сморил сон, он спал на полу, у очага, и старик поужинал в одиночестве.
После ужина он вытащил из-под груды мешков две белые козьи шкуры, свернул их вдвое и подложил мальчику под голову, предварительно вынув у него из-под щеки грифельную дощечку.
– Бедный ягненочек, бедный ягненочек! – проговорил немец, нежно поглаживая рукой некрасивую, крупную, как у медвежонка, голову. – Он так устал! Так устал!
Немец снял с гвоздя пальто и прикрыл мальчику ноги. Убрал с огня кастрюлю. Поискал глазами, где бы прилечь, и, не найдя себе места, опять сел за стол, раскрыл старую зачитанную Библию и скоро целиком погрузился в мир успокаивавших ему душу мыслей и видений.
«Я был странником, и ты приютил меня», – прочитал он.
Он посмотрел на постель и повторил про себя: «Я был странником…»
С глубокой нежностью смотрел старик на незнакомца, не замечая ни обрюзгшего его подбородка, ни злобного, даже во сне, выражения лица. Нет, под этой телесной оболочкой ему чудился образ человека, который так долго жил в его мечтах, что стал почти явственно зримым. Образ странника…
– Сын человеческий, возлюбленный мой, ужели дано нам, слабым и грешным, бренным и заблуждающимся, служить Тебе, приютить Тебя? – прошептал старый немец, поднимаясь. Радостно шагая из угла в угол, он напевал себе под нос строчки из псалмов и бормотал обрывки молитв. Огонь в очаге ярко освещал комнату, и старому немцу казалось, что Христос где-то рядом: вот-вот туманная пелена ниспадет с его глаз, и он узрит того, о ком некогда воскликнули: «Смотрите! Это он, богочеловек!»
Всю ночь он шагал, возведя глаза к закопченным балкам потолка… Грубое, обросшее бородой лицо его светилось восторгом, и ночь эта казалась ему, бодрствующему, не более долгой, чем спящим, ибо грезилось ему, будто он вознесся в обитель небесную.
И так быстро пролетела эта ночь, что, когда в четыре часа первые лучи летнего утра скользнули в оконце, старый немец не поверил своим глазам. Очнувшись, он поспешно сгреб в кучку еще не остывшие под пеплом уголья, а его сын заворочался и сквозь сон пробормотал, что сейчас, сию минуту встанет…
– Лежи. Еще рано. Я хотел только разжечь огонь, – сказал старик.
– Ты не спал всю ночь? – спросил мальчик.
– Ночь прошла так быстро. Спи, мой малыш, еще рано.
И он отправился за топливом.
Глава IV. Блаженны верующие
Бонапарт Бленкинс сидел, свесив ноги с постели. Его трудно было узнать – он словно переродился. Голову держал высоко, говорил в полный голос, жадно ел все, что ему подавали. Перед ним стояла похлебка, которую он поглощал прямо из миски, отрываясь лишь для того, чтобы взглянуть на своего хозяина, чинившего плетеное сиденье старого кресла.
Сквозь раскрытую дверь видно было несколько молодых страусов; они с безучастным видом разгуливали по залитой полуденным солнцем равнине. Гость посмотрел на них, на оштукатуренные стены комнаты и задержал взгляд на Линдал, сидевшей на пороге с книгой. Затем он сделал вид, будто поправляет воображаемый накрахмаленный воротничок, пригладил остатки седых волос на затылке и обратился к немцу с такими словами:
– Судя по книгам, которые я у вас здесь вижу, вы увлекаетесь историей, милейший, так я понимаю. Ну конечно же, историей. Совершенно ясно.
– Пожалуй… возможно… немного… – неохотно признался немец.
– В таком случае, – произнес Бонапарт Бленкинс и величественно расправил плечи, – вам небезызвестно, конечно, имя моего великого, моего прославленного родича, Наполеона Бонапарта?
– Разумеется, – отвечал немец, поднимая на гостя глаза.
– Так вот, сэр, – сказал Бонапарт, – пятьдесят три года назад, в этот же самый час, в этот же самый апрельский день я появился на свет. Повитуха, сэр, та самая, заметьте, что принимала герцога Сазерлендского, подавая меня матушке, сказала при этом: «Ребенка с таким носом можно назвать только именем его великого предка».. Вот меня и нарекли Бонапартом – Бонапартом Бленкинсом. Да, сэр, по материнской линии в моих жилах течет та же кровь, что и в его жилах.
– О-о-о! – удивленно протянул немец.
– Конечно же, это родство нелегко постичь человеку, не искушенному в изучении генеалогии аристократических фамилий, но родство тем не менее самое близкое.
– Невероятно! – еще более пораженный, вскричал немец, отрываясь от работы. – Наполеон – ирландец?
– Да, – подтвердил Бонапарт, – по материнской линии, сэр, отсюда и наше родство. Никому не удалось победить его, – сказал Бонапарт, потягиваясь, – никому, кроме герцога Веллингтона. И вы только вообразите себе, какое странное стечение обстоятельств, – добавил он, всем телом подаваясь вперед, – и с ним, с Веллингтоном то есть, я в родстве! Его племянник женат на моей кузине. Ах, что это за женщина! Видели бы вы ее на придворном балу! Золотистый атлас, маргаритки в волосах! За сто миль помчишься, чтобы только полюбоваться на такую женщину! А мне вот не раз доводилось ее видеть, сэр!
Немец вплетал ремешок в сиденье кресла, размышляя над превратностями человеческой судьбы. Кто бы мог предполагать, что потомок герцогов и императоров окажется в его скромной каморке!
Бонапарт между тем предавался воспоминаниям:
– Ах, этот племянник герцога Веллингтона! Какие мы с ним штуки выкидывали! Он был частым гостем в «Бонапарт-холле». Дивный у меня был тогда дворец с парком, оранжереей; слуг и не счесть. Только одним недостатком и страдал племянник герцога Веллингтона, – промолвил Бонапарт, отметив про себя, что немец старательно ловит каждое его слово, – только одним недостатком: отказал ему бог в храбрости. Вам в России, случаем, не приходилось бывать? – спросил он как бы между прочим, впиваясь косыми глазами в немца.
– Нет, – скромно отвечал старик. – Повидал я Францию, Англию, Германию, здесь побродил, но больше нигде не был.
– А я, друг мой, – горделиво провозгласил Бонапарт, – изъездил весь белый свет и говорю на всех цивилизованных языках. Вот разве что голландскому да немецкому пока не умудрил господь. Я написал книгу о своих путешествиях – достопримечательные случаи, ну и все такое… Издатель сразу же ее отпечатал, но даже имени моего не проставил. Ну и мошенники эти издатели!.. Так вот, как-то раз путешествуем мы с племянником герцога Веллингтона по России. И вдруг одна из наших двух лошадей падает замертво. Представляете себе: морозный вечер, снегу намело на четыре фута, кругом дремучий лес, а сани ни с места. Вот-вот совсем стемнеет. Волки. «Ну и потеха!» – говорит племянник герцога Веллингтона.
«Это, по-вашему, потеха, сэр?! – отвечаю я, – Взгляните-ка». – И показываю на ближайший куст, из-за которого выглядывает медвежья голова. Племянник герцога Веллингтона, как кошка, вскарабкался на дерево. А я стою спокойный и невозмутимый, вот как перед вами. Зарядил ружье и только тогда полез на дерево. Лезу, а сук всего один, сэр! Один на двоих.
«Бон, – говорит мне племянник герцога, – уж вы устраивайтесь впереди, а я у вас за спиной».
«Хорошо, но держите ружье наготове. Тут их собирается целая стая!» Куда там, он уткнулся лицом мне в спину, зажмурил глаза от страха и спрашивает: «Много их?» – «Четверо», – отвечаю я. «А теперь?» – «Восемь». – «А теперь?» – «Десять!» – «Де-е-сять», – восклицает он и роняет ружье. «Велли, – говорю я ему, – что вы наделали? Теперь мы пропали». – «Бон, старина, – отвечает он, – какой я вам помощник? У меня руки дрожат».
«Велли, – кричу я, оборачиваясь и хватая его за руки, – Велли, дружище мой дорогой, прощайте! Я не страшусь смерти. Но вы знаете, какие у меня длинные ноги, они свисают так низко, что первый же медведь, случись мне промахнуться, сцапает меня. Что ж, тогда берите мое ружье и не поминайте лихом. Вы еще можете спастись. Только об одном прошу, передайте, передайте Мэри Энн, что я умер с ее именем на устах, что я молился за нее!»
«Прощайте, старина!»
«Храни вас бог!»
А медведи уселись вокруг дерева. Да, да, – воскликнул он, перехватив взгляд немца, – и какой правильный круг у них получился. На снегу оставались следы их хвостов, и я потом еще раз проверил, – ни один учитель рисования не начертил бы ровнее. Это меня и спасло. Если б они накинулись на меня все враз, бедный старина Бон не сидел бы сейчас с вами. Но в том-то все дело, сэр, что они нападали по одному. Один кидается, остальные сидят, поджав хвосты, и ждут. Первый сунулся – я его наповал; второго – наповал; третьего – наповал. Дошла очередь до десятого, самого матерого – предводителя, надо полагать.
«Велли, – говорю я, – позвольте вашу руку. У меня окоченели пальцы, а в ружье – последняя пуля. Я промахнусь. Покуда он будет со мной расправляться, спуститесь и найдите свое ружье. Живите и помните человека, который положил живот за други своя». Медведь был – вот он, рукой подать; я уже чувствовал прикосновение его лапы.
«Ах, Бонни, Бонни», – вздыхает племянник герцога Веллингтона. Но в этот миг я опустил ружье, приставил его к уху зверя и бац – наповал!
Бонапарт Бленкинс посмотрел на своего собеседника, стараясь подметить, какое впечатление произвел его рассказ. Он вынул грязный носовой платок и, отерев себе лоб, приложил его к глазам.
– Не могу спокойно рассказывать об этом приключении, – заключил он, пряча платок в карман. – О неблагодарности, о подлости человеческой напоминает оно мне. И этот человек, этот человек, который лишь благодаря мне унес ноги из бескрайних лесов России, – этот человек оставил меня в трудный час!
Немец поднял глаза.
– Да, – вновь заговорил Бонапарт, – у меня были деньги, земли. И я сказал жене: «Но ведь есть Африка, эта страна развивается, ей нужны капиталы, нужны талантливые способные люди. Едем туда…» Я накупил на восемь тысяч фунтов разных машин – веялок, плугов, жаток, загрузил ими целый корабль. Следующим пароходом поплыл я сам, – вместе с женой и детьми. Добрались до мыса Доброй Надежды, и что же тут выясняется? Корабль со всем грузом утонул. Ничего не осталось – ни машин, ни денег.
Моя жена обратилась с письмом к племяннику герцога Веллингтона. Она сделала это тайком от меня. И как же поступил человек, который обязан мне жизнью? Может быть, выслал мне тридцать тысяч фунтов со словами: «Бонапарт, брат мой, прими эти крохи»? Нет. Ничего подобного. Он не прислал мне ни медяка.
«Напиши ему сам», – предложила жена. А я ей сказал: «Нет, Мэри Энн. Пока эти руки способны трудиться – нет; пока это тело способно переносить лишения – нет. Никто никогда не скажет, что Бонапарт Бленкинс просил милостыню».
Такая благородная гордость вконец растрогала немца.
– Да-да, вам не повезло, – сказал он и покачал головой, – не повезло.
Бонапарт прихлебнул из миски, откинулся на подушки и тяжело вздохнул.
– Пойду, пожалуй, погуляю, – сказал он некоторое время спустя и поднялся, – подышу этим благотворным воздухом. Ломота никак не проходит. Надо немного размяться.
С этими словами он важно надел на свою плешивую голову шляпу и направился к двери.
Когда он ушел, немец снова принялся за работу и еще долго вздыхал, поглощенный своими размышлениями.
«Ах, господи. Такие-то дела. Ах!»
– Дядя Отто, – спросила его с порога девочка, – ты когда-нибудь слыхал, чтобы десять медведей сидели кружком да еще на собственных хвостах?
– Ну не то чтобы десять. А вообще-то медведи сплошь и рядом нападают на путешественников. Ничего тут нет невероятного, – сказал он. – Ах, какой храбрости человек! Прошел через такие испытания!
– Почем знать? Может, все это неправда, дядя Отто?
Старик вскипел.
– Терпеть не могу маловеров! – вскричал он. – «Почем знать?!» Человек говорит, стало быть, правда. Если все подвергать сомнению, требуя: докажи, докажи, докажи, не останется и места для веры. Почем ты знаешь, что ангел отворил Петру двери темницы? Так сказал Петр? Почем ты знаешь, что Моисей слышал голос Его? Так написал Моисей. Терпеть не могу маловеров!
Девочка нахмурила брови. Старик и не догадывался о глубине ее мыслей. Взрослые редко сознают, что их слова и поступки служат уроком и примером для юного подрастающего поколения. Ибо воспитывает нас не то, чему нас учат, но то, что мы видим воочию; и ребенок усваивает духовную пищу, которой будет кормиться до конца дней своих.
Когда немец опять взглянул на Линдал, ее маленькие губы сложились в довольную улыбку.
– Что ты увидела, малышка? – спросил он.
Девочка промолчала. Внезапно вечерний ветерок донес до них истошный вопль: «Ах, боже мой! Убивают!» – и почти в тот же миг в комнату влетел Бонапарт. Рот его был широко раскрыт, все тело дрожало. Его преследовал молодой страус.
– Заприте дверь! Заприте дверь! Если вам дорога моя жизнь, заприте дверь! – прокричал Бонапарт, в изнеможении падая на стул.
Но страус только сунул голову в дверь, прошипел что-то в его сторону и удалился.
Бонапарт сидел иссиня-бледный, а губы у него даже позеленели.
– Ах, мой друг, – неверным голосом проговорил он, – я заглянул в глаза вечности, побывал в долине смерти! Моя жизнь висела на волоске! – сказал Бонапарт, хватая немца за руку.
– Успокойтесь!.. Успокойтесь!.. – говорил немец. Он закрыл дверь и участливо оглядывал гостя. – Вы просто испугались. Первый раз вижу, чтобы такой молодой страус гнался за человеком! Бывает иногда, правда, что они кого-нибудь невзлюбят… Мне как-то пришлось из-за этого отослать с фермы одного паренька. Успокойтесь, пожалуйста!
– Оглядываюсь назад, – рассказывал Бонапарт, – и вижу зияющую красную глотку, а эта – бр-р-р – отвратительная нога уже занесена для удара! Совсем расшалились нервы… – проговорил Бонапарт, едва не падая в обморок, – я всегда отличался тонкостью своей нервной организации. Не найдется ли у вас капли вина, глоточка бренди, милейший?
Старик поспешил к книжной полке, вытащил из-за книг маленькую бутылочку и вылил в чашку половину содержимого. Бонапарт одним глотком осушил ее.
– Ну как? – дружелюбно поинтересовался старик.
– Немного полегчало, самую капельку.
Немец вышел наружу и подобрал помятый цилиндр Бонапарта, лежавший недалеко от двери.
– Мне очень жаль, что так случилось. Извините. Птица вас так напугала. Ничего не поделаешь, к страусам надо привыкнуть, – проговорил немец и бережно поставил цилиндр на стол.
– Друг мой, – сказал Бонапарт Бленкинс, протягивая ему руку, – я вас извиняю. Пожалуйста, не тревожьтесь. Забудем об этом, я вас извиняю. Вы, вероятно, просто забыли предупредить меня. Протянем же друг другу руки, я не храню зла.
– Вы так добры, – сказал немец, пожимая протянутую руку с таким чувством, как будто и в самом деле был виноват в случившемся. – Благодарю вас.
– Право же, не стоит благодарности, – сказал Бонапарт Бленкинс. Он попробовал расправить сплющенный цилиндр, но, убедясь в тщетности своих усилий, облокотился о стол и, подперев руками голову, устремил взгляд на остатки своего головного убора.
– Ах, мой старый друг, – обратился он к своему цилиндру, – ты долго служил мне верой и правдой. Но, увы, настал и твой час. Никогда больше не украсишь ты голову своего хозяина, никогда больше не защитишь чела его от палящих лучей солнца или пронизывающих зимних ветров. Отныне хозяину твоему суждено идти своим путем с непокрытой головой. Прощай, прощай же, мой старый друг.
К концу этой трогательной речи немец поднялся. Он подошел к сундуку, стоявшему в ногах его кровати, и достал оттуда черную шляпу, на вид почти новую.
– Конечно, это совсем-совсем не то, к чему вы привыкли, – извиняющимся голосом произнес он и положил шляпу рядом с бывшим цилиндром, – но она еще может вам послужить. Будет по крайности чем накрыть голову.
– Мой друг, – сказал Бонапарт, – вы пренебрегли моим советом, я ведь настоятельно просил вас не утруждать себя заботами обо мне. Пусть я буду ходить с непокрытой головой.
– Ну, нет! – решительно вскричал немец. – Мне, право же, совсем ни к чему эта шляпа. Она все равно только пылится в сундуке.
– Ну что ж, в таком случае я принимаю ваш дар. Я понимаю, что вами руководит вполне понятное желание загладить невольную вину. У этой шляпы нет того изящества формы, что у моего цилиндра, но она мне еще послужит… Благодарю вас, – сказал Бонапарт, примерив шляпу и положив ее рядом со своей. – А теперь я прилягу, – добавил он, – ибо мне нужен отдых. Боюсь, что иначе я буду ужинать без аппетита.
– О, конечно, конечно, – произнес немец, принимаясь за прерванную работу и заботливым взглядом наблюдая за Бонапартом Бленкинсом. А тот растянулся на кровати и прикрыл себе ноги краем стеганого одеяла.
– Вы и не думайте никуда уезжать, оставайтесь здесь, – немного времени спустя проронил немец. – Тетушка Санни не возражает и…
– Друг мой, – печально проговорил Бонапарт, закрывая глаза, – вы так добры. Но не будь завтра воскресенье, слабый и немощный, я снова двинулся бы в путь. Мне нужно найти работу. Ни одного дня не могу я сидеть в праздности. Работа, труд – вот в чем секрет подлинного счастья!
Он взбил подушку, устроился поудобнее и принялся следить, как немец чинит сиденье кресла.
Через некоторое время Линдал молча поднялась, поставила книгу на полку и ушла. Поднялся и немец. Он принес воды, достал муку и стал замешивать тесто для лепешек.
– По субботам я всегда ставлю тесто на два дня, – сказал он, – тогда в воскресенье и мысли и руки свободны от забот.
– Блаженно воскресенье, день господень! – провозгласил Бонапарт Бленкинс.
Наступило молчание. Бонапарт Бленкинс, не поворачивая головы, украдкой посмотрел, стоит ли на огне ужин.
– В этой дыре вам, должно быть, очень недостает слова божьего, – продолжал он. – Ах, сколь возлюблен дом Твой, обиталище славы Твоей!
– Что верно, то верно, – произнес немец, – но мы делаем все, что можем. Собираемся все вместе, и я… и я говорю несколько слов… может быть, они не пропадают даром. Может быть.
– Удивительное совпадение, – сказал Бонапарт Бленкинс, – и я тоже так поступал! Помню, случилось мне жить в Оранжевой Республике. Местность пустынная, один-единственный сосед на всю округу. Каждое воскресенье я сзывал всех: своего друга соседа, детей и слуг, и говорил им: «Возрадуйтесь, как я радуюсь, что мы служим Господу нашему!» – и потом я обращался к ним с проповедью. Ах, благословенное время! Если б оно только вернулось!
Немец месил тесто, месил энергично, старательно, молча. Уступить чужеземцу свою постель, подарить ему шляпу со своей головы, отдать бренди – все это куда бы еще ни шло! Но уступить свое право служить Богу!
После недолгого молчания немец вымолвил:
– Я поговорю с тетушкой Санни. Возможно, она согласится. Тогда вы будете служить по воскресеньям вместо меня, если…
– Друг мой, – сказал Бонапарт Бленкинс, – это было бы для меня великое счастье, несказанное блаженство. Но в этом заношенном платье, в этом ветхом рубище мне не пристало служить Тому, чье имя я не смею сейчас назвать. Нет, друг мой, я останусь здесь. И когда вы соберетесь все вместе перед лицом Господа нашего, я буду думать и молиться за вас. Нет, я останусь здесь.
Глубоко растроганный таким самоотречением, немец очистил от муки пальцы и подошел к сундуку, откуда незадолго перед тем вынул шляпу. Порывшись, он извлек на свет божий сюртук, брюки, жилет из черного сукна и, хитро улыбаясь, выложил все это на стол. Сукно было новехонькое, немец надевал его два раза в году, когда отправлялся в город к причастию. Развернув сюртук, он гордо показал его своему гостю.





