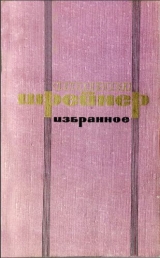
Текст книги "Африканская ферма"
Автор книги: Оливия Шрейнер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
Глава XIV. Вальдо греется на солнце
Долгое утро сменилось великолепным днем. Дожди уже закончились, и еще недавно голая, бурая земля карру покрылась сочным зеленым ковром. Темно-изумрудные побеги выглядывали даже из трещин в каменных оградах, и сухие песчаные ложбинки украсились свежей порослью. На полуразрушенных стенах старого свинарника пышно разрослись алзина и хрустальник.
Вальдо столярничал в сарае: делал кухонный стол для Эмм. Когда из рубанка выползала особенно длинная, пружиной завитая стружка, он останавливался и бросал ее черному голому малышу, который уполз от матери, взбивавшей во дворе масло, и с восторгом наблюдал за работой Вальдо. Мальчик был весь в золотой пене стружек, но тянул к Вальдо пухлую ручонку, требуя еще и еще, между тем как Досс, ревниво относившийся к своему хозяину, старался на лету перехватить стружку, отталкивая малыша, и тот падал на кучу опилок, испытывая безмерное удовольствие. В такой хороший день Досс не в силах был злиться по-настоящему, поэтому, повалив малыша, он только делал вид, будто кусает его за пальцы, а тот вовсю заливался смехом. Вальдо посматривал на них, улыбаясь. Он ни разу не выглянул наружу. И однако он хорошо представлял себе зеленую равнину, раскинувшуюся во всю ширь под солнцем, и от этого ему было еще приятнее работать. Во двор уже заползали вечерние тени, а мать малыша продолжала медленно поднимать и опускать мутовку, напевая одну из тех дремотных песен, которые так любят люди ее племени. Невнятное звучание этой песни походило на далекое жужжание пчел.
У хозяйского дома стоял экипаж тетушки Санни, а сама она сидела в гостиной и пила кофе. Она приехала навестить падчерицу, вероятно, в последний раз, потому что в ней было теперь двести шестьдесят фунтов весу, и она стала тяжела на подъем. На стуле рядом с ней сидел ее кроткий юный супруг. Он нянчил толстощекого, похожего на сдобную булку младенца с маленькими заплывшими глазками.
– Возьми нашего малыша и ступай в экипаж, – велела тетушка Санни своему супругу. – Нечего тебе слушать наши женские разговоры.
Молодой человек поднялся и смиренно удалился с младенцем на руках.
– Очень рада, что ты собираешься замуж, дитя мое, – сказала тетушка Санни, допив кофе до последней капельки. – Я не хотела говорить при твоем молодом человеке, а то он еще вообразит о себе бог весть что, только замужество – дело приятное. Я уже третий раз замужем, но если бог приберет и третьего, выйду в четвертый. Лучше, чем замужество, на свете ничего нет, дитя мое.
– Может быть, не для всех и не всегда, тетушка Санни, – возразила Эмм. В ее голосе слышались усталые нотки.
– Как это не для всех! – возмутилась тетушка Санни. – Для чего ж Он, господь наш возлюбленный, и сотворил женщин, как не для замужества? Вышла годами – иди замуж, не то согрешишь перед господом. Не тщись показать, будто умнее его. Что ж, по-твоему, бог даром старался, создавая нас, женщин? Если он посылает младенцев, стало быть, такова его воля. А вот мне не везло, – сокрушенно добавила она. – Только вина не моя. Бог знает, как я старалась!
Она с усилием встала и медленно направилась к двери.
– Удивительное дело! – сказала она перед уходом. – Покуда не родится ребеночек, и мужа-то своего не полюбишь. Ну вот взять хоть моего нынешнего… Первое время, когда мы поженились, я ему даже чихнуть не давала, – чуть чихнет, тотчас надеру уши. А теперь? Было раз, пепел из трубки на чистую скатерть высыпал, так я и то его пальцем не тронула. Нет, замужество – дело приятное. Есть ребеночек, есть муж, большего счастья женщине и не надобно. Только бы у маленького не было родимчика. А муж любой хорош, что тот, что этот. Один толстый, другой худой, один хлещет бренди, другой джин, а по сути, никакой разницы. Все мужчины одинаковы.
У крыльца, в тени, сидел Грегори. Тетушка Санни поздоровалась с ним за руку.
– Рада слышать, что вы женитесь, – сказала она. – Желаю вам ребят в доме, что телят в загоне… А я хотела бы еще взглянуть, как ты мыло варишь, – добавила она, поворачиваясь к Эмм. – Говорят, теперь новая мода – добавляют соды. Зачем же тогда Отец наш небесный молочай в вельде насадил? Обходились люди без соды, и мы обойдемся.
Она пошла вперевалку вслед за Эмм к котлу, где та варила мыло, а Грегори остался сидеть на своем месте. Его голубые глаза смотрели куда-то вдаль, пытаясь уловить что-то ускользающее, быстро ускользающее. Так пытаются отыскать небольшое суденышко на горизонте. Рядом с ним лежала давно погасшая трубка. Мысли его все время возвращались к письму, которое он хранил у сердца, письму на его имя, найденному в ящике стола. Всего три слова: «Женитесь на Эмм». Он зашил это письмо в черный мешок и носил, как ладанку. Это было ее единственное письмо к нему.
– Все эти новые выдумки навлекут на нас гнев господень, – говорила тетушка Санни, следуя за Эмм. – Попомни мое слово, нашлет он на овец паршу. Сами на себя кличут гнев божий. За что бог покарал сынов Израиля, как не за тельца золотого? И я не без греха, а вот десятую заповедь свято помню: «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе господь, бог твой, чтобы продлить дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую господь, бог твой, дает тебе». А мы почитаем их только на словах, а сами выдумываем такое, о чем они и знать не знали, и делаем все по-своему, всё по-своему! Как моя матушка варила мыло, так и я варить буду. И если бог покарает эту землю, – произнесла тетушка Санни в полном сознании своей добродетели, – так не по моей вине. Пускай строят свои огненные колесницы! Господь бог знал, что делал, когда дал нам лошадей да быков. Не миновать им божьей кары! Да читают ли они, эти люди, Писание? Ты слыхала, чтобы Моисей или Ной по железным дорогам ездили? В ту пору господь бог посылал с небес огненные колесницы, а вот нам – если не переменимся – он их не пошлет, – заключила она, сокрушаясь о судьбе нынешнего поколения.
Подойдя к котлу, где варилось мыло, она проговорила глубокомысленно:
– Нет этому благословения божьего! Вот попомни: не миновать тебе чесотки либо другой какой заразы… – И окончательно распалясь, она прокричала, уперев руки в бока: – Нет, ты подумай только: ей восемьдесят два года, а у нее козы, бараны, восемь тысяч моргенов[13]13
Mорген – единица измерения площади, около 0,8 га.
[Закрыть] земли, а козы-то чистой ангорской породы, овец две тысячи голов и короткорогий бык…
Эмм смотрела на нее с безмолвным удивлением. Неужто блаженство супружества и радости материнства вконец помутили рассудок старой женщины?
– Да, – сказала тетушка Санни, – чуть не забыла тебе рассказать главное-то… Вот бы его сюда!.. Как-то в воскресенье мы с Питом ходили в церковь. И вдруг видим перед собой старую тетушку Трану, – у нее водянка и рак, и жить ей осталось меньше восьми месяцев, а рядом с ней, засунув руки в карманы, в накрахмаленной манишке и черной шляпе, с важным видом вышагивает англичанин. Я его сразу узнала. Однако спрашиваю: «Кто это?» А это, отвечают, богатый англичанин, тетушка Трана за него вышла замуж на прошлой неделе. «Богатый англичанин! – говорю я. – Нашли богача!..» А сама думаю: «Шепну-ка я Тране пару словечек!»
Я бы, конечно, посчиталась с ним, если бы не шла к причастию. Уж он бы у меня не разгуливал, задрав нос. Но этот хитрый лис, это дьявольское отродье, семя амалекитянское, заприметил, что я поглядываю на него в церкви и посреди службы – хвать тетушку Трану под ручку, и на улицу! Я сунула младенца своему муженьку, и за ними. Не догнала! – с сожалением промолвила она. – Куда мне за ними угнаться при моей комплекции! Пока до угла добралась, смотрю: он уже тетушку Трану в коляску подсаживает: «Тетушка Трана, – кричу я ей. – За кого же ты замуж вышла? За какого-то пса приблудного!» А больше сказать ничего не могу, дыхание от злости перехватило. А он мне подмигивает. Подмигивает! – проговорила тетушка Санни и вся заколыхалась от возмущепия. – Сперва одним глазом, а потом еще и другим. Так они и уехали… Амалекитянское отродье! Да не иди я к причастию… О господи боже…
В эту минуту прибежала девочка-бушменка.
– Лошадей никак не удержать, – сказала она.
Не переставая сыпать проклятьями в адрес своего старого врага, тетушка Санни пошла садиться в коляску. Попрощавшись с Эмм за руку и нежно расцеловав ее, она с большим трудом забралась наконец на заднее сиденье, и, когда экипаж тронулся, еще несколько раз высунула голову и, улыбаясь, кивнула Эмм. Эмм глядела им вслед, но солнце било в глаза, и она не стала ждать, пока коляска скроется, повернулась и пошла.
Подойти к Грегори она не решилась, он предпочитал проводить время в одиночестве, глядя вдаль, на зеленую гладь карру. Покуда служанка не собьет масло, делать было решительно нечего, и Эмм пошла в сарай. Присев на край верстака, она смотрела, как работает Вальдо. Сидела, покачивая одной ногой и не замечая, как растет груда стружек возле ее черного платья.
– Вальдо, – сказала она наконец, – Грегори отдал мне все деньги от продажи фургона и быков. Если их прибавить к тем пятидесяти фунтам, которые остались после нее… Возьми эти деньги, поезжай куда-нибудь, поучись год-другой.
– Нет, – сказал он, продолжая строгать. – Прошло время, когда я был бы благодарен каждому, кто помог бы мне словом или делом. Один я жил – один и кончу свою жизнь. Спасибо, милая!
Она, казалось, не была огорчена его отказом. По-прежнему покачивала ногой и только еще больше наморщила свой морщинистый лоб.
– Почему так устроен мир, Вальдо? – проговорила Эмм. – Мы мечтаем достичь какой-то цели. Мы готовы отдать все, что у нас есть, ради этого. Но наши мечты не сбываются. А если и сбываются, то слишком поздно, когда в душе у нас все перегорело и нам уже ничего не надо. – Эмм сидела с отрешенным видом, сложив руки поверх передника. Помолчав, она прибавила: – У моей мамы была коробка с катушками. Нитки были все разного цвета… Боже, как я мечтала поиграть с этими катушками, но мама не позволяла. И вот однажды она наконец разрешила мне взять коробку. Я так обрадовалась, что просто себя не помнила. Но когда я забежала за дом, и уселась там на ступеньки, и открыла коробку, оказалось, что в ней уже нет катушек. Пустая.
Эмм сидела долго, пока служанка не кончила сбивать масло. Только тогда Эмм собралась уходить. Но прежде чем уйти, она положила руку Вальдо на плечо. Он перестал строгать и поднял на нее глаза.
– Грегори собирается завтра в город. Пастор должен сделать объявление о нашей свадьбе. Через три недели мы венчаемся.
Вальдо подошел и приподнял Эмм. Он не стал поздравлять ее: вероятно, вспомнил о пустой шкатулке, – только торжественно поцеловал в лоб.
Эмм пошла к хозяйскому дому, но на полпути обернулась и крикнула:
– Я принесу тебе пахты, как только остынет.
Вскоре голос ее звенел уже в кухне, она пела «Голубое море».
Вальдо не стал ждать ее возвращения. То ли он очень устал, то ли его прохватило сквозняком в сарае, – хоть это и было маловероятно в такой теплый летний день, – то ли им снова, как и в прежние дни, овладела мечтательность, только он сложил инструмент и вышел из сарая. Во дворе все было залито солнцем, и наседка со своими цыплятами искала червячков среди мусора. Вальдо сел спиной к кирпичной стене.
Солнце клонилось к закату, и тень от высокого холма постепенно захватывала желтое море цветов возле фермы. Кругом порхали белые бабочки. На старом заброшенном загоне резвились три белых козленка. У дверей одной из хижин, на земле, сидела старая туземная женщина и чинила циновку. Везде царил благоухающий, целительный покой. Даже старая наседка, казалось, была вполне довольна. Она рылась среди камешков и сзывала всех цыплят, как только ей удавалось обнаружить какое-нибудь сокровище, – и все время квохтала с глубоким удовлетворением. Вальдо сидел, уткнувшись подбородком в колени и обхватив их руками, и с улыбкой смотрел на окружающий его мир. Мир этот злобен, лжив, обманчив, призрачен, – и все же он прекрасен. Как это чудесно – греться на солнце! Ради этого одного стоило быть маленьким ребенком, плакать и молиться. Вальдо тихонько потирал руки, точно мыл их в лучах солнца. Стоит жить ради одних таких светлых вечеров. От избытка переполнявшего его удовлетворения Вальдо посмеивался, и его смех походил на кудахтанье старой наседки. Она радовалась каждому червячку и теплу, а он радовался и старой кирпичной стене, и легкой дымке над землей, и небольшим кустам. Красота – хмельной напиток, которым бог поит допьяна всех его любящих.
Вальдо протянул руку к хрустальнику, выросшему на полуразрушенной стене старого хлева. Не для того, чтобы его сорвать, а в дружеском приветствии. Один листок хрустальника повернулся так, что солнце пронизывало его насквозь. И Вальдо с глубоким волнением рассматривал каждую клеточку, похожую на маленький кристаллик льда.
Человек редко видит природу. Пока в душе его продолжается пир страстей, он отворачивает от нее глаза.
Ступайте прогуляйтесь вечерам по склону холма. Если вы оставили дома больного ребенка, если на следующий день у вас свидание с вашим возлюбленным либо на душе у вас одна мысль, как бы разбогатеть, – вы ничего не увидите во время своей прогулки. Ибо природа, подобно древнему иудейскому божеству, властно требует: «Да не будет у тебя других богов пред ликом моим». Только в тот день, когда в сердце у нас водворяется покой, когда свергнут прежний кумир, умерли надежды и подавлены обуревавшие нас желания, – только в тот день природа открывает нам самое себя и вознаграждает нас за все утраты. И тогда мы ощущаем свою связь с природой так тесно, что нам кажется, будто ее кровь вливается в нас по еще не отрезанной пуповине; мы чувствуем биение каждой ее жилки.
Он настанет рано или поздно, этот день. Вы сидите мрачный и унылый, один на всем белом свете; все, кого вы любили, сошли в могилу или умерли для вас, даже острая жажда знаний, после многих неудач, притупилась: настоящее вам безразлично, от будущего вы ничего не ждете. И вот тогда природа с неожиданной нежностью принимает вас в свои объятия!
Большие белые хлопья снега в своем бесшумном падении шепчут нам успокоительно: «Отдохни, бедное сердце, отдохни», – их прикосновение, словно прикосковение материнской руки, приносит нам сладостное утешение.
И жужжание желтоногих пчел звучит в наших ушах упоительной песней; и луч солнца на почерневшей каменной стене кажется нам прекрасным, словно великое творение искусства; и трепет листвы заставляет учащенно биться сердце.
И тогда лучше всего умереть. Ибо если вы останетесь жить, – с той же неминуемостью, с какой идут годы, с какой весна сменяет зиму, в вашей груди снова поселятся страсти, и вы утратите покой. С новой силой оживут желания, честолюбие и неистовая, мучительная жажда любви. Природа опустит свое покрывало, отныне, несмотря на все ваши старания, вам не увидеть ее лица и не вернуть безмятежных дней. И тогда лучше всего умереть.
Вальдо сидел, обхватив руками колени и надвинув на глаза шляпу, и любовался золотым закатом, окрасившим все вокруг, даже воздух, в цвет спелых колосьев. Он был счастлив.
Да, он неудачник, да, он зачерпнул только ложку в море знаний, его удел – сколачивать столы да ворочать камни, но жизнь в этот миг казалась ему необыкновенной, и он радостно потирал руки. Ах, вот так бы и жить до конца дней своих. Довольствуясь тем, что есть. Пусть идут дни за днями, принося свои заботы и свои радости. Пусть золотит вершины холмов солнце, пусть сияют звезды на ночном небе, – пусть трещит огонь в очаге! Жить мирно, вдали от троп людских, следить за полетом облаков и букашек, заглядывать в самое сердце цветка и любоваться пестиком и тычинками! Как прекрасно нежиться на солнце, вдали от мирской суеты, и как прекрасно собирать цветы, выращенные великими людьми в их книгах, где во всей своей красоте раскрывается мир! Ах, жизнь восхитительна! Как прекрасно жить долго, дождаться наступления новых времен. Времен, когда никто не будет отталкивать тех, кто взывает о помощи, когда людям не придется искать одиночества, после того, как все откажут им в любви и участии. Как прекрасно жить долго, до наступления новых времен. Трижды благословенна жизнь!
Прижимая руку к груди, Вальдо ощупал маленький башмачок, в котором некогда танцевала Линдал. Башмачок лежал в том самом кармане, где Вальдо в юности хранил обломки грифельной доски. В душе его не было грусти, только радость. Вальдо надвинул шляпу еще глубже и сидел неподвижно, так неподвижно, что цыплята решили, будто он спит, – и подошли чуточку поближе. Один даже отважился клюнуть его башмак, но, испуганный собственной смелостью, тотчас пустился наутек. Крохотный желтый комочек знал, что опасны даже спящие люди: ведь они могут проснуться. Но Вальдо не спал и, очнувшись от своих солнечных грез, протянул ему руку: залезай же! Ну, что ты медлишь? Но желтый комочек опасливо покосился на его руку и поспешил укрыться под крылом матери. Оттуда он лишь изредка высовывал круглую головку, посматривая на Вальдо. Вынырнул он только после того, как увидел, что его братья погнались за белым мотыльком. Когда мотылек взмыл вверх, они проводили его разочарованными взглядами и вернулись к матери.
Вальдо смотрел на них полузакрытыми глазами. И они тоже о чем-то думают, чего-то боятся, чего-то хотят. Что же они, в сущности, представляют собой, эти крохотные искорки жизни? Цыплята бродят по старому двору в лучах заходящего солнца. Они живут. А что будет через несколько лет? С братским чувством Вальдо протянул им руку, но цыплята так и не решились к нему подойти. Несколько минут он смотрел на них с мрачным видом, потом улыбнулся и что-то забормотал себе под нос. Затем он уткнулся лицом в колени. Так он и сидел, залитый желтым сиянием солнца.
Немного погодя из задней двери дома с чашкой молока в руках вышла Эмм. Голова ее была повязана полотенцем.
– Заснул, – сказала Эмм, останавливаясь около Вальдо. – Ничего, выпьет, когда проснется. – И она поставила чашку на землю.
Наседка все еще бродила среди камешков, а цыплята забрались на Вальдо. Один сидел у него на плече, прислонясь маленькой головкой к черным курчавым волосам, другой раскачивался на полях старой поярковой шляпы, третий, устроившись на руке, пытался кукарекать, а четвертый спал на рукаве.
Эмм не стала прогонять их. Она накрыла чашку полотенцем и ушла.
– Проснется, выпьет, – повторила она.
Но цыплята знали, что он уже никогда не проснется.





