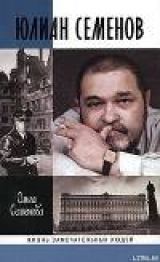
Текст книги "Юлиан Семенов"
Автор книги: Ольга Семенова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Как бы ни был папа занят, как ни подгоняли его сроки сдачи романа или сценария, стоило сестре или мне, маленькой, к нему подойти с вопросом или просьбой – он забывал обо всем. Не помню случая, когда бы он сказал: «Подождите». Что любопытно: лет до двух-трех мы его особо не интересовали. Всех младенцев, включая нас, а потом и внуков, он называл «макаками», говоря: «Младенчество – для матери, детство – для отца».
Когда мне исполнился год, папина кузина Галина Тарасова, работник Петровки, умильно допытывалась при встрече: «Ну как там наша Олечка? Что делает?» – «Писает и какает, – что ей еще делать!» – бурчал папа. Зато лет с трех-четырех все кардинально менялось. Отец становился другом, собеседником. Он был великолепным педагогом, потому что видел в ребенке личность и относился к нам, как к взрослым – с уважением и интересом. О том, чтобы отшлепать за шалость, и речи не было. Он на нас и голоса не повышал. Правда, один-единственный раз дал Дарье по попе. Шестилетняя, разыгравшись с няней в ладушки (хлопали друг друга легонько по ладошкам и щекам), она слишком сильно ударила ту по лицу, и папа рассердился.
Отец не навязывал свою волю, а советовал, говоря с нами, как с равными. Неумолим становился, лишь когда дело касалось Дарьиной еды.
Из письма маме, начало 1960-х годов.
Я теперь по отношению к Дуне занял позицию времен холодной войны – по поводу еды. И за три дня появился румянец, хотя трапеза сопровождается слезьми велие обильными и еловами – «Авот ты можешь съесть сразу 30 баранов?! Тебя так папа не заставлял!», «От перееда, думаешь, не умирают!?». Но ничего, я сдерживаюсь, чтобы не смеяться, грозно хриплю, ухожу в другую комнату, но результат, как говорится, «на лице». Девочка-солнце, Господи, дай ей Бог!
Отец разрешал нам присутствовать при взрослых разговорах, участвовать в застольях. Мы весело подставляли для чоканья носы, хохотали над хулиганскими и антисоветскими анекдотами, сидели на читках новых вещей, ездили с ним на репетиции пьес в театрах, слушали стихи зашедших в гости Сулейменова и Поженяна, во все глаза смотрели на Эльдара Рязанова, Ролана Быкова и Льва Дурова, видели в работе Галину Волчек и молоденького Константина Райкина, смеялись шуткам Винокура и Пугачевой. Может, такое воспитание и отличалось излишним либерализмом, но благодаря ему детство наше было на редкость интересно. Мои первые воспоминания – это жизнь с папой на Пахре. Мама уезжала с Дарьей из-за школы в Москву, я оставалась с отцом и Багалей. Поначалу плакала (в детстве была на редкость капризна и привязана к маме), но папа прекрасно знал, как меня задобрить – ставил пластинку с песенками из мультфильма «Бременские музыканты». Потом уводил на тихие пахринские аллеи, где старенький Симонов ласково здоровался со мной и, весело помахав отцу, по-марафонски быстро проходил Бондарев, и можно было погладить старую знаменитую овчарку, сыгравшую с Никулиным в фильме «Мухтар, ко мне!» (она принадлежала кому-то из писателей). Прогулки эти с годами стали традицией. Часто заходили к папиному лучшему другу Роману Кармену. Меня потрясала его открытая терраса, посредине которой росла береза – Кармен прорезал дыру в полу, чтобы не губить дерево. Весной у него в саду цвело множество ароматных нарциссов, которые я и предложила ему однажды понюхать. Роман Лазаревич послушно понюхал и растерянно признался, что не знал ни названия этих цветов, ни их чудесного запаха…
Достопримечательностью районного значения на Пахре была дача Людмилы Зыкиной, стоявшей на Восточной аллее, возле самого леса. На нее ходили смотреть толпы отдыхающих из ближайшего санатория – женщины в ярких кримпленовых, по моде тех лет, платьях, надушенные «Красной Москвой», кавалеры в отглаженных цветных рубашках и брюках клеш. Потоптавшись перед высоченным забором, из-за которого еле проглядывал верх крыши с воинственным железным петушком, они уходили, мечтательно вздыхая: «Вот люди живут!» – додумывая все остальное. А было у Зыкиной невероятно просторно, – она с гордостью показала папе чуть ли не стометровый салон с белым роялем и анфиладу полупустых комнат. Без всякой косметики, в синем тренировочном костюме, она с улыбкой рассказала, что продала почти все свои украшения, чтобы дом достроить. Говорила тихо, просто, и веяло от нее покоем и сдержанной крестьянской доброжелательностью.
Во время прогулок папа всегда рассказывал что-нибудь интересное. В репертуаре были страшилки с Петровки в детской аранжировке (чтобы не гуляла одна), завершавшиеся советом: «И если на улице незнакомый подойдет к тебе и скажет, что я или мама заболели, и пригласит тебя сесть в машину, чтобы к нам отвезти, беги и кричи диким голосом!» Боялся папа за нас панически и постоянно представлял, что с нами случилось несчастье: работало его богатое воображение. Еще рассказывал про хилого мальчика, превращенного родителями в прекрасного спортсмена. Мама привязывала сына на длинной бечевке к велосипеду и медленно ехала. Сперва мальчик еле поспевал за ней, потом настолько окреп, что стал перегонять. Эту историю папа, кстати, включил в роман «Майор Вихрь». Сам он бегал почти каждый день и нас уговаривал.
Лет в шесть научил меня играть в дурачка и по вечерам устраивал турнир. Поддавался безбожно. Если, забывшись, я опускала карты, напоминал: «Кузьма, карты к орденам!» Выиграв, я ликовала, папа громко требовал реванша, а правильная Багаля, проходя рядом, тяжело вздыхала: «Мальчик, не приучай ребенка к азартным играм – это непедагогично». Потом мы мерились силой рук. Папа изображал невероятное усилие, дрожь в руке, гримасы из последних сил борющегося человека. Иногда сдавался, иногда, в последний момент, со страшным криком ручонку мою клал на стол.
Праздник был, когда местная бригада построила рядом с домом баню. Два раза в неделю, живописно, как римский патриций, замотавшись в белую простыню, отец забирался на верхнюю полку и рассказывал мне, как зверски сбрасывал вес в молодости, накануне боя, – одевал толстый шерстяной джемпер и шапку и сидел в парилке минут тридцать. Ненужные для средней весовой категории килограммы исчезали на глазах. Зимой, выведя из парилки, швырял меня в снег, а потом снова заводил в стоградусный жар.
Часто приглашал на дачу своего племянника и моего кузена Егорушку Михалкова, которого очень любил. Регулярно встречаясь с Егором на даче у нашей бабушки – Натальи Петровны на Николиной Горе, я его почитала за ум и смотрела снизу вверх (он старше меня на год – разница в детстве огромная). Однажды в саду, покусывая травинку, Егор с загадочным видом сказал:
– А я уже решил, что буду делать, когда вырасту…
– Что?
– А не проговоришься? – спросил Егор, испытующе глядя на меня своими чингисханьими глазищами.
– Никогда!
– Уеду в Америку и стану гангстером!
После этого я стала уважать его еще больше. Раз девятилетний Егорка сказал не «тухлый помидор», а «протухлый помидор», и острая на язык Дарья стала звать его «протухлый помидорчик». Егорка нам беззлобно мстил, обзывая «лысками» – прозвище, придуманное папой и намекающее на недостаточную густоту наших шевелюр.
Мы с «протухлым помидорчиком» играли исключительно в мальчишеские игры. Плавили в кастрюльке и выливали в снег свинец: он угрожающе шипел, стрелял раскаленными брызгами (однажды сильно обжег Егору руку), а потом застывал в причудливых формах. Пекли в углях картошку. Скатывались по пологому скату крыши. Дрались прутиками, – Егор всегда норовил больно хлестнуть меня по попе. Варили на улице в старой миске бурду из остатков обеда. Как-то папа с любопытством заглянул в миску с хвостами креветок, костями и картофельными очистками: «Что это вы тут делаете?» – «Варим супчик, дядя Юля», – на полном серьезе ответил Егор. «Вы что, есть его будете?!» – ужаснулся отец. «Конечно!» Тут я не выдержала и «раскололась», громко расхохотавшись.
Однажды у Егора возникла «гениальная» идея положить папины гильзы в камин, развести огонь и посмотреть, что получится. Получилось здорово – гильзы со страшным грохотом взорвались, мы с воплями ринулись в сад, а взрослые долго проветривали дом, окутанный густыми клубами дыма. Папа нас за это свинячество не наказал и даже отвез позднее в цирк.
Несмотря на все эти забавы, Егор в свои восемь-десять лет был в чем-то совсем взрослым человеком. Раз на даче у Натальи Петровны нашел большую доску и принялся деловито ее обстругивать: «Это для мамы, ей сейчас тяжело нагибаться, она сможет на ней стирать». (Наталья Аринбасарова тогда вышла замуж за Николая Двигубского и ждала сестричку Егора – Катю.)
…Когда отец нянчился со мной одной, то, уложив в постель со сказками Перро и «Правдивыми историями барона Мюнхаузена» (его подарок на мое пятилетие) и поцеловав – поцелуи эти я не особо жаловала из-за колючей бороды, спускался на первый этаж, включал негромко Высоцкого – это был его любимый певец, и шел заваривать себе крепчайший чай, чтобы потом всласть поработать…
Со второго класса я трагически не понимала математику, немела при виде учительницы, рыдала по вечерам над простенькими задачками, а папа всячески меня подбадривал: «Ничего, Кузьма, у меня тоже с математикой было туго. Бесстрашие и еще раз бесстрашие, занимайся всласть любимыми литературой, историей, биологией и не комплексуй». У Дарьи не ладилось с русским, и папа раз написал за нее сочинение. Мама на следующий день очень веселилась – учительница влепила Юлиану Семенову тройку!
Говорят, что первый ребенок принадлежит отцу, второй – матери. Возможно, в этом есть доля истины. Между папой и Дарьей существовало удивительное взаимопонимание, тонкая, как паутинка, но очень крепкая связь. Я в детстве тянулась к маме, Дарья – к отцу. Он делился с ней планами, советовался с шестнадцатилетней, как со взрослой, посвящал в секреты. У нас с ней большая разница – девять лет, и когда во время прогулок по Поселку писателей я успевала пять раз пробежать по аллее с Томми и маленькой дворняжкой Нелькой, бросаясь зимой – в снег, летом – в густую траву, папа не спеша шел с Дарьей, негромко разговаривая. Вплоть до ее замужества они оставались на редкость – другого слова не найдешь – солидарны. Возможно, папа и любил Дарью чуть больше, но это остается моим предположением, внешне он никогда между нами разницы не делал и волновался за обеих одинаково. На прогулке с моей подружкой Машей Черви некой и ее родителями – писателем Александром Червинским и сценаристом Ириной я, со свойственной мне неуклюжестью, умудрилась попасть под машину. За рулем сидела дочь писателя Холендро, рядом – Юрий Нагибин. Правду сказать, оба были пьяны. Нагибин, открыв дверь, но даже не пытаясь вылезти, посмотрел на меня мутными глазами и сочувствующе спросил заплетающимся языком: «Она ж-жива?» Я была жива и, месяц провалявшись в гипсе, благополучно продолжала бегать, но папа после инцидента не разговаривал с Нагибиным долгие годы, хотя по сути дела он в произошедшем был неповинен. Тот, кто задевал нас хоть боком, рисковал заполучить в лице Семенова большого врага. Однажды мы втроем дошли до реки, протекавшей недалеко от дачи. Вечерело, пахло пряным клевером и горьковатой полынью, подросшие к концу лета окуньки то и дело выскакивали из зеленой толщи воды, хватая мошек и шумно плюхаясь обратно. Мы уселись на берегу полюбоваться закатом, когда рядом неожиданно появились пятеро подвыпивших юнцов лет двадцати – крепких и злобных. Они громко орали и, желая произвести впечатление на Дашу, стали задирать папу. Он заиграл желваками – явный признак гнева, – желто-карие глаза, обычно добрые, по-рысьи захолодели, крепкие кулаки сами собой сжались, и он встал в боксерскую стойку: хулиганов как ветром сдуло. От отца веяло какой-то магнетической силой, уживавшейся с добротой и мягкостью…
Кстати о мягкости – она распространялась не только на нас, но и на знакомых. Отец страдал от своей харизмы. Ежедневно с ним жаждали встретиться десятки людей, но когда он писал, встречаться ни с кем не мог – работа требовала абсолютной концентрации. Чтобы никого не обижать отказом, шел на невинную хитрость – отвечал на телефонные звонки высоким женским голосом: «Аллоу, вам Юлиана Семеновича? Какая жалость, он будет только поздно вечером, позвоните, пожалуйста, завтра».
Помню, солнечным летним утром папа в спешном порядке заканчивал правку романа для журнала. Неожиданно открылась калитка и мы увидели незваных гостей: молодого француза Жака Имбера с его русской женой. «Прячемся!» – принял отец молниеносное решение, и мы всей семьей выбрались в сад через задний ход и, как куропатки, затаились в густой траве. Жак с женой зашли в настежь открытые двери и растерянно бродили по пустому дому, протяжно крича: «Джулиа-а-а-н! Кат-я-я!» Переговаривались: «Они, наверное, вышли к соседям, сейчас вернутся». Мы сидели на корточках в траве, затаив дыхание, и перешептывались: «Да когда же они уедут? Ноги затекли!» Тут случилось самое неприятное – спаниель Жака, которого он повсюду за собой таскал, нас унюхал, подбежал и с громким истеричным лаем стал скакать вокруг. «Хороший мальчик, фу, фу, свои», – сдавленным голосом урезонивал его папа, но склочный пес еще больше заходился в лае. «Брысь, кыш, пошел!» – шипел папа, а пес, перейдя в атаку, пытался цапнуть его за щиколотку. Поняв, наконец, что их не ждали, Жак с женой ретировались, посвистев спаниелю. Отец, облегченно вздохнув, вернулся к правке… Иногда звонки и визиты ему надоедали настолько, что, кинув в сумку несколько рубашек и три блока сигарет, он скрывался с пишущей машинкой на пару недель в каком-нибудь Доме творчества в одной из соцстран и возвращался на Пахру с готовым романом.
ПО ПОВОДУ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ
Большое спасибо тебе, зеленая ящерица с желтым хвостом.
За твое любопытство.
Каждое утро ты вылезала из кустов синего можжевельника
И подолгу смотрела, как я работаю.
Ты была, словно возлюбленная, которая считает,
Что видит чудо,
А поскольку «нет пророка в отечестве своем»,
Твое любопытство я толковал как любовь
И был очень горд.
Спасибо тебе.
Большое спасибо вам, мой друг Новицки,
За то, что каждое утро вы начинали строить
Нечто
Из старой фанеры и битого стекла и кирпичей.
Это очень важно: слышать подле себя работу
И видеть, как рождается дом:
Пусть даже без печки, но с крышей.
Спасибо вам, комары с прозрачными крыльями,
За то, что вы каждый вечер слетались к моей лампе
И гибли в ее холодном электрическом тепле.
Но перед тем, как погибнуть, вы очень мешали мне,
И это помогало мне чувствовать себя живым —
Всего-навсего.
Огромное спасибо вам, яблони,
За то, что вы роняли на подстриженный луг красные яблоки.
В этом умирании лета
Было заложено главное: то, что помогает
Людям жить – вера в бессмертие земли.
Ну будь здорова, ящерица! Я сейчас уеду.
Я очень счастлив. Я окончил работу.
Я поеду на автобусе «такого нет»,
На остановку «такой не будет».
И пока он будет везти меня,
Я стану благодарить и тебя,
И господина Новицки, и луг,
И облака, и горлиц, которые уснули.
Спасибо вам, большое спасибо.
Однажды зимним вечером на дачу приехала супружеская пара. Он – низенький, шумный итальянец в черной пелерине – хозяин судоверфи, очень веселый и доброжелательный. Она – высокая, стройная, с гладко зачесанными, по-испански, волосами и пронзительно синими глазами, в собольей душистой шубе. Звали ее Маргарет. До замужества она долгие годы была подругой Фиделя Кастро. Помню ее руки с тонкими, унизанными кольцами пальцами, необычайно красивые. Она замечательно гадала и в тот вечер предсказала родителям будущее. Глаза у мамы стали после этого красные, заплаканные, папа был грустно-растерян. Нам с сестрой они тогда ничего не сказали – малы еще. Уезжая, Маргарет сняла с руки тяжелый витой из белого золота браслет и дала маме – на счастье. Мама подарила ей брошь – ночная бабочка темного, как волосы Маргарет, серебра.
Отец после того вечера часто повторял: «Это произойдет очень быстро. Бах, в мозге лопается сосудик и все!» И, переводя в шутку, картаво добавлял: «Умер, шмумер – не беда, лишь бы был здоров!» А во время наших путешествий объяснил мне, маленькой, как поворачивать ключ зажигания, чтобы остановить машину. «Зачем, пася?» «Если мне вдруг станет плохо. Если это случится, ты не должна паниковать». И ласково трепал меня за нос. Руки у него были сухи и горячи – руки экстрасенса.
…Через много лет так все и произойдет. Ему станет плохо в машине – «лопнет сосудик», отнимутся ноги и все кончится. А пока отец писал, путешествовал, строил планы, радовался. Он не знал, что такое уныние, вернее, как человек дисциплины, умел его не показывать. А когда становилось тревожно и муторно на душе, шел к Роману Кармену, благо дома стояли на одной аллее.
СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ РОМАНУ КАРМЕНУ
Хем, перед тем как выстрелить себе в голову, вымазал руки ружейным маслом – для алиби.
Нам нет нужды смотреть назад,
Мы слуги времени. Пространство,
Как возраст, и как постоянство
«Адье, старик», нам говорят…
Все чаше по утрам с тоской
Мы просыпаемся. Не плачем.
По-прежнему с тобой судачим
О женщинах, о неудачах,
И как силен сейчас разбой…
Ведь мы растратчики, мой друг,
Сложенье сил необратимо,
Минуты бег неукротим,
Не братья мы, но побратимы,
Нет «Ягуаров», только «Зимы»,
А мера скорости – испуг…
Но погоди, хоть чуда нет,
Однако подлинность науки
Нам позволяет наши руки
Не мазать маслом. И дуплет,
Которым кончится дорога,
Возможно оттянуть немного,
Хотя бы на семнадцать лет…
…Первое путешествие с папой в 1972 году я, как ни странно, неплохо запомнила, хотя мне шел всего шестой год. Родители долго сомневались, брать ли меня, оставить ли на даче с няней. Решили взять. Мы выехали с Пахры на папиной белой «Волге» ранним летним утром. Отец – за рулем, мама рядом с ним, сзади – Багаля и мы с Дарьей. Взяли курс на Одессу. Там должны были сесть на теплоход, плывший в Болгарию, а оттуда отправиться в Венгрию, на озеро Балатон. Путешествия с папой никогда не отличались размеренностью. Все экспромтом: остановки, знакомства, осмотры достопримечательностей, купанья, розыгрыши. Удачнее всего он разыгрывал Багалю. В тот раз она, подслеповатенькая уже, близоруко щурясь, нетерпеливо оглядывала окрестности – ждала Одессу. Наконец приехали. Останавливаемся на набережной, выходим из машины размяться.
– Какой это город, мальчик? – деловито интересуется бабушка, надевая очки.
– Кишинев, мамочка, – серьезно отвечает папа.
– А откуда же море?
– Как?! Ты не читала в «Науке и жизни»? Нью-Кишиневское искусственное море, последнее достижение ученых!
– Ах да! Что-то запамятовала, – кивает головой Багаля (признаться в том, что пропустила такое важное событие, ей, штудирующей всю периодику, не под силу). Отойдя в сторонку, она авторитетно обращается к прохожему:
– Товарищ, будьте любезны, скажите, когда были закончены работы по выкапыванию этого моря?
– Сравнительно давно, – отвечает находчивый одессит.
…А потом мы плывем на огромном белоснежном пароходе, и я все спрашиваю: «Ну когда же Болгария, пася, скоро?» Папа на бесконечные вопросы не сердится, может быть, оттого, что видит в этой неугомонности себя – вечно торопящегося и нетерпеливого. Что ни говори, а в феномене родительского всепрощения фактор похожести играет не последнюю роль. Когда берег показывается, отец берет меня на руки и высоко поднимает, чтобы я увидела его раньше всех. Сначала я лишь щурюсь от бьющего в лицо соленого ветра и не замечаю ничего, кроме огромных, жалобно кричащих чаек, и лишь потом угадываю на горизонте ничем не примечательную серую полоску суши. Дальше все воспоминания смешиваются. Набережные с продавцами сладкого попкорна. Танцы смуглых босоногих болгарок на раскаленных углях. Пьянящий запах сырене – жареной брынзы в тавернах. Цыгане-дрессировщики, водившие по открытым ресторанам маленьких волков, по-щенячьи лизавших мне ноги. Огромный медведь, сорвавшийся у них с поводка и ринувшийся на маму. Мамин визг, бегство со мной в темноту, падение в глубокую канаву, ее разодранные коленки. Старый печальный верблюд со свалявшейся шерстью на пляже – папа забрался со мной к нему на спину, чтобы сфотографироваться в наряде бедуина. Ночь, когда выключился свет по всему Сланчеву Брягу. Мы жили в отеле на двадцатом этаже, поднимались гуськом в абсолютном мраке, зажигая спички, дойдя до пятнадцатого, сообразили, что забыли ключ от номера у портье. Рыбалка, на которую отец меня взял: старые сети, пахнущие рыбой, волны, бьющиеся о борт лодки, веселые рыбаки – болгары, всеобщая паника, когда я стала пунцовой от яркого солнца…
Мама до сих пор вспоминает их с папой «выход в свет». В тот вечер Багаля осталась с Дарьей и со мной в номере, а родители отправились в ресторан. Несколько злоупотребив местными алкогольными напитками, папа с трудом добрался до машины, заботливо поддерживаемый мамой, и даже благополучно доехал до отеля (он водил машину «на автомате», в любых состояниях, и ни разу не попал в аварию навеселе). Оставалось самое трудное – холл. «Юлечка, соберись, родненький, – ласково упрашивала его мама. – Дамы-администраторы еще те грымзы. Не ударь в грязь лицом!» Папа нежно посмотрел на маму, глубоко вздохнул и решительно вышел из машины. Он не прошел через мраморный холл отеля – он промаршировал через него под одобрительными взглядами администраторш, как бравый солдат Швейк, прямо держа спину и вытягивая носок. Никто даже и представить не мог, что он был пьян. Приложенное усилие оказалось для него непомерным. Зайдя в лифт, он моментально сполз по стенке и сладко заснул до двадцатого этажа. Мама, закинув папину руку себе на плечо и поднатужившись, вытащила его из лифта и, как раненого с поля боя, поволокла к номеру. В коридоре столкнулась с группой советских туристов. Соплеменники, остолбенев при виде героической женщины, тащившей внушительных размеров бородача, уважительно сказали ей в след: «Во, жена труженица!»
…Отцовский танкообразный характер проявлялся в любых мелочах: так, в Венгрии ему очень понравилось национальное блюдо халасли – острая уха. И как-то поздним вечером он немедленно захотел ее отведать. Сказано – сделано. Заходим в один ресторан, во второй, в третий. Повсюду затянутые в черные смокинги при бабочках официанты, привыкшие к выбритым восточным немцам, отвечают бородатому богатырю в клетчатых шортах и шлепанцах на босу ногу, что «мест нет, все зарезервировано». Сдаться? Ни за что! Обойдя с десяток ресторанов, папа добился-таки, во втором часу ночи, халасли!
…А через пару дней на Балатоне резко поменялась погода – с сорокаградусной жары до градусов пятнадцати. Несколько десятков гипертоников умерло. Папе схватило железным обручем затылок, голова раскалывалась от боли, давление за 200. Мама отходила сосудорасширяющими и горчичниками, которые ставила к затылку и пяткам. Кризис прошел. Папа радовался: «Предсказание Маргарет на некоторое время откладывается! Спасибо Катку. Без нее вернулся бы в отечество в свинцовом гробике».








