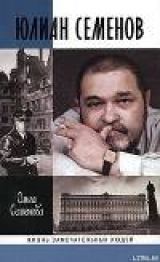
Текст книги "Юлиан Семенов"
Автор книги: Ольга Семенова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
ОСТАЮСЬ ЖУРНАЛИСТОМ
Выпустив десятки книг и став маститым писателем, отец продолжал заниматься журналистикой, считая ее лучшей писательской школой, да и взрывной характер не позволял ему сидеть на месте. Он проинтервьюировал сотни людей, среди самых знаменитых – Эдвард Кеннеди (брат убитого президента) и Хо Ши Мин, Сальвадор Альенде и Че Гевара, Курт Вальдхайм и Арманд Хаммер, принц Суфановонг и Альберт Шпеер, Жаклин Кеннеди и Отто Скорцени, Пабло Неруда и Шандор Радо.
Каждый год папа путешествовал не менее пяти месяцев и за свою жизнь объездил весь Союз и почти весь мир. Из ближних и дальних странствий аккуратно отправлял маме весточки – то коротенькие телеграммы, то грустные или весело-хулиганские письма.
14.11.61.
Здравствуй, золотенькая моя!
Добрались мы с Валюном на Молитвенную косу, ныне переименованную в Новую. Место это заброшено в устье Терека, неподалеку от тех мест, кои пел Толстой в «Казаках». Интересно, ветрено и очень далеко. Добирались пять часов по непролазной грязи, вдоль по берегу Каспия, встречь нескончаемым караванам уток и гусей. Местами все похоже на пустыню, помпасы.
Золотой мой тегулепочек, очень я тебя люблю и тоскую по тебе. И, конечно, по маленькой Дашечке.
Приехали, хорошо нас встретили, накормили ухой из красной рыбы, а сейчас я разложил свои атрибуты, отстучал письмецо тебе и принимаюсь за повесть. Не знаю, что получится, но получится наверняка.
Наверное, это очень хорошо, что я смотался в свои очередные странствия – после Полюса я здорово подзасиделся, а засиживаться мне никак нельзя, потому что притупляется восприятие окружающего, а оно – окружающее – это ты и Дашуня. А проживи полгода безвылазно в Эрмитаже – к Рубенсу тоже будешь относиться как к старому знакомому и, может быть даже, ошалев совсем, звать его «раздавить по маленькой».
Каток, если какие-либо новости появятся, сразу же шли мне телеграмму: «Махачкала, почтовое отделение Новая Коса, Абдулаев Рахмет, для писателя Юлиана Семенова, как догадываешься».
Пожалуйста, будь очень осторожна, никому не открывай вечером, езди на дачу и береги Дашутку и себя. А все остальное приложится, а не приложится – так черт с ним, проживем и так.
Целую тебя и люблю. Твой Юлиан Семенов.
Ахали, Гагра, 16.8.62.
Дом творчества
Здравствуй, Каток, и поклон тебе, Дунечка.
Целую Вас обеих крепко и нежно. Наш вояж с Андроном и Никитой закончился благополучно, если не считать того, что Никита 5 раз наступил мне на ноги, 3 раза ударил дверью машины по ребрам, 1 раз выстрелил в Андрея из подводного ружья и чудом не убил, 7 раз говорил старым евреям, принимая их за абхазцев: «Ну что, жиды вас тут не замучили?» и т. д. и т. п.
Словом, очень славно проехали – с матом, песнями и шутками. (Мит попахес, мит ломпасес унд мит ден еб твою мать!) Сейчас сижу, работаю, редактирую. Ничего не понимаю из написанного и склонен больше думать о плохом, нежели о хорошем.
Как дела в Москве, Каток. Вышли письмо подробное, с фактами, хохмами, размышлениями – мне глава будет новая. Здесь, в Гаграх, конечно, тоскливо в сравнении с Коктебелем – народ бомоновый, срановатый, к литературе имеющий отдаленное касательство. Море, правда, сказочное – такого цвета я нигде не видел. Пронзительно-голубое. Чертовски красиво. Описать нельзя. Разве что только Дашка может нарисовать его точно и реалистично. Как там она, моя маленькая?
Целую тебя очень нежно.
Твой Юлиан Семенов.
Кенигсберг 3.3.65.
Здравствуй, Тегочка.
Пишу тебе из столицы поверженной Пруссии. Малыш, извини меня, но твой муж – фигура известная вроде М. Жарова. В газете меня встречают по-братски нежно. Тут великолепные ребята. Один из них – с бородой. Лапочка, это все же так замечательно, когда все вокруг говорят по-русски. Но это так, нота бене, просто расчувствовался. Очень я горд тем, что российский либеральный читатель к моим книгам относится очень хорошо. Без дураков – это заряжает.
Я люблю тебя и нашу девочку. Я вас целую 1812 раз.
Ваш всегда. Юлиан Семенов.
Декабрь 65-го, Монголия
Сей бай ну! Здравствуйте дочечки Катя и Даша!
Как твой радикулит? Как Дунечкина школа?
На мой здешний сценарий ставится большая карта: даже на торжественном докладе в театре министр культуры говорил о том, что ваш покорный слуга прибыл в Улан-Батор для работы над будущим совместным фильмом. Страна очень своеобычна, народ прелестный, относятся ко мне нежно – сие приятно.
Сегодня осматривал поразительные дворцы Богдо-Гогена, это буддизм, сдержанно и в то же время роскошно. Очень мне понравился один из богов: у него на голове пять черепов. Он охраняет людей от пяти самых страшных – по буддизму – зол: неразумных любовных увлечений, глупости, нервозности, зависти и жадности. У здешних богов по двадцать четыре руки и шестнадцать ног – чтоб драться за религию с неверующими, и три глаза, чтобы обозревать три времени: будущее, настоящее и прошедшее.
Каток, пойди, если можешь, в абонемент Исторической библиотеки и поищи мне книги про Унгерна, Монголию, процесс Унгерна в 21 году и все это закажи к моему приезду – засяду покопаться в архивах и библиотеках…
Мечтаю о том, как втроем мы встретим Новый год. Это верно будет божественно. Я обязательно напьюсь и суну голову в снег. Я почему-то все время мечтаю сунуть голову в снег. В свой пахринский снег.
Дай вам Господь всего наилучшего. Целую вас нежно. Ваш борода.
21.12.65.
Ночую в Иркутске. Целую. Борода.
23.3.67. (Путешествие по Чехословакии с Дарьей.)
Каток, только что проснулись в горах, в Татрах. По утру было солнце, вчера плутали по пустынной дороге до полуночи и сидели в кабаке с джазом до 00.45. (первый раз за все время – так Дунечка со мной укладывается в 9–9.30.). Характер у нее пополам: мое нетерпение и твоя сибирская застенчивость. Но человечек она поразительно интересный, нежный и умный. Впечатлений у нее, мне кажется, масса. Интересно, во что это все трансформируется. Целую тебя и Ольгу. Дай вам Бог всего. Завтра здесь начинается Пасха. Христос Воскресе!
Твой Юлиан Семенов.
14.4.67.
Целую вас всех нежно с самого Северного полюса. Наша льдина чертовски быстро плывет к Гренландии, чтобы там растаять. Ждем последнего рейса. Нас тут осталось семеро. Беседуем о медицине и об акклиматизации животного по кличке «Человек» в условиях полюсов и меряем друг другу кровяное давление. Скучаю по вас. Дай вам всем Господь счастья.
12.6.67.
Дорогие мои, не скрою – у нас в Вашингтоне уже утро: чирикают по-русски воробьи, ездят по улицам красно-сине-белые кары, и, – главное, – идет нудный, батумский (по ощущению) дождь. Сейчас шесть утра – сколько в Москве, рассчитать не могу – пусть Дуня рассчитает. Плоский телевизор передает сообщения о победителях на Праймарис. Через час улетаем на Ниагарский водопад. Уже начал по вас скучать. Целую вас, мои девоньки, дай вам Бог.
22.6.69.
Люблю и целую родные девочки, улетаю через Сидней в Новую Гвинею и скоро вернусь домой. Ваш борода, скучающий, любящий вас.
1975 год, Токио, гранд-отель Здравствуйте мои родные.
Поскольку в этой машинке нет восклицательного знака или, попросту я его пока не нашел, обращаюсь к вам шепотом, без восклицаний. Хотя, не скрою, восклицать есть все основания: впечатления в первый же день, при самом беглом осмотре Токио – громадные. «Хайвэй», наподобие американских, громадные скорости, посадка на аэродром, стиснутый со всех сторон мощными, марсианского типа, промышленными комплексами, архитектоника, причудливо, но в то же время органично вместившая в себя модернизм Корбюзье, размах Лос-Анджелеса, антику Японии, динамизм второй половины двадцатого века. Только что вернулся из нашего корпункта: там настоящая Япония – и дом, и камин, и телевизор, и хрупкость стен, которые на самом деле сугубо каменные и отнюдь не хрупкие. А в окно моего отеля лезут тридцать семь этажей неонового безразличия. Живу я рядом с парламентом, МИДом и резиденцией премьер-министра, то есть в самом центре.
Девочки мои дорогие, я вас целую и желаю вам счастья. Дай вам Бог всего самого хорошего. Ваш (поелику ручку забыл, не подписуюсь).
Это лишь малая часть папиных писем, а значит, путешествий. Из каждого он привозил не только интервью и репортажи, но и кассеты с записями. Всегда ездил с маленьким диктофончиком, наговаривая впечатления от новых мест, архитектуры, музеев, выставок (все это могло пригодиться для новой книги). Привозил и замечательные, абсолютно профессиональные фотографии.
…Отец не любил болеть, ни разу, не считая двух дней, проведенных в клинике у его друга Святослава Федорова, «подремонтировавшего» ему глаз, не лежал в больнице, не ходил в поликлинику Литфонда. Заманили его однажды тамошние эскулапы к себе, ужаснулись давлению и анализу крови, выписали кучу таблеток, которые надо было принимать строго по часам, но отец, если и принимал их, то как Пеппи Длинныйчулок: все вместе, залпом, запивая для верности стаканчиком водки. Он существовал по принципу американского актера Джеймса Дина: «Жить на полную катушку, умереть молодым и быть красивым трупом». Жизнь без опасностей папе претила, и он всегда торопился в эпицентр военных действий и конфликтов. В этом проявлялись его бойцовский характер и вера в то, что если о происходящем интересно и объективно написать, то можно что-то изменить.
Одна из самых опасных командировок была у отца во Вьетнам, откуда он присылал захватывающие репортажи с места военных действий для «Правды».
Он провел там несколько месяцев в 68-м году, живя в джунглях, в пещере с вьетнамскими партизанами. Лил дождь, по ночам в лицо, шею, руки зло впивались комары, и почти каждый день прилетали американские самолеты. Американцы бомбили яростно и методично. После нескольких бомбежек папу контузило и он оглох на левое ухо. Увидев вьетнамских сирот – большеглазых, худеньких, с цыплячьими шейками, он захотел усыновить одного мальчика, оставшегося без родителей. Запросил разрешения у местных властей и предупредил маму. К сожалению, в последний момент что-то застопорилось по административной линии и разрешения на усыновление и вывоз ребенка не дали. Когда я подросла и узнала от родителей эту историю, долгое время по тому «неслучившемуся» братику тосковала.
Из Вьетнама папа привез страшные фотографии раненых и убитых детей, разрушенных деревень, обломок крыла американского самолета, подбитого у него на глазах партизанами: на покореженном железе можно разобрать написанное черной краской «US ARMY» и номер. И вскоре написал грустную повесть «Он убил меня под Луанг-Прабангом».
А потом началось в Чехословакии. Говорить в полный голос не решались, гнев был клокочущим, глухим. Одна знакомая молодая москвичка, уехавшая в Прагу с мужем чехом, отправила свой паспорт в наше посольство с запиской: «Мне стыдно быть советской». Хотелось это сделать и папе, но были мы, мама, и он, человек в общем-то бесстрашный, тяжело молчал, осознавая собственное бессилие.

Опыт для радистки Кэт: «Нелегко же ей будет с двумя младенцами!»

Работа с Вячеславом Тихоновым над фильмом «Семнадцать мгновений весны».

Слева направо: В. Тихонов, Т. Лиознова, Р. Кармен, Ю. Семенов.

С мамой в Трире. 1981 г.

С Жоржем Сименоном. Лозанна. 1981 г.

С Альбертом Шпеером. Германия. 1981 г.

С Альбертом Штайном. 1980 г.

С юной поэтессой Никой Турбиной. 1988 г.

У берегов Фороса.

Юлиан Семенов с любимым псом Рыжим. Мухалатка. 1980-е гг.

В Ялте. Слева направо: Ю. Семенов, Д. Семенова, Л. Дуров, О. Семенова, А. Миронов. 1980-е гг.

С Андреем Андреевичем Громыко. Мухалатка. 1980-е гг.

Евгений Примаков с женой Лаурой и Ольгой Семеновой. 1981 г.

Юлиан Семенов и Лев Аннинский. Мухалатка. 1983 г.

С дочерью Ольгой.

С Федором Федоровичем Шаляпиным и бароном Эдуардом Фальц-Фейном. Лихтенштейн. 1982 г.

С Сергеем Лифарем. Париж. 1981 г.

В мастерской художника Михаила Шемякина. Слева направо: М. Шемякин, режиссер О. Стоун с женой, Ю. Семенов, доктор П. Лебовиц.

С Георгием Вайнером.

С Аллой Пугачевой. Москва. 1980-е гг.

С друзьями в горах. Домбай. 1983 г.

В Бразилии. 1980-е гг.

На съезде писателей МАДПР. Слева направо: Л. Гримальди, М. Тагава, Ю.Семенов. Во втором ряду крайний справа И. Прохаска.

На съезде писателей детективной литературы. 1987 г.

Работа над газетой «Совершенно секретно». Крайний слева А. Плешков. 1989 г.

В Афганистане. 1985 г.

В клинике Инсбрука. Слева направо А. Боровик, Ю. Семенов, А. Бененсон. 1991 г.

Юлиан Семенов.
21 АВГУСТА
Чаек крик и вопль прибоя,
Смех детей и солнца зуд,
Ну пойдем скорей с тобою
На роскошный белый зунд…
Все прекрасно, все сияет, говорят девицы «нет»,
(А в Москве все заседает наш высокий кабинет.)
А кругом так симпатично, и вокруг такое чудо:
Одеваются наяды, раздеваются атлеты,
Самолеты пролетают, и эсминцы грозно ходят —
Так, чтоб видели их люди…
(Именно в это время Дубчек и Черник присоединились к Свободе для переговоров об урегулировании отношений между братскими народами, вокруг которых роилась контрреволюция)…
– Я читаю Пастернака..
Да, стихи весьма прелестны…
Очень чувственны и сладки,
Как медок в конце июля…
Ха-ха-ха, скорее в море,
Ха-ха-ха, какие волны,
Пастернака бросьте в сумку,
И перемените плавки…
А песок прогрет под солнцем…
А песок увял под солнцем…
А песок умят под солнцем.
(В это время в Праге люди вышли на работу.)
– Ну смотрите же, смотрите, вон идет прелестный парень,
Загорелый, мускулистый, сколько силы в нем и страсти!
(В это время, как сообщал ТАСС, переговоры продолжались в обстановке полной откровенности и дружбы.)
– Не хочу я слышать это,
Поищите мне другое,
Надоели мне «нахрихтен»,
Я ищу себе покоя…
(Ее звали Гертруда, она работала в Дрездене ассистентом по исправлению дефектов речи. На время отпуска она сняла обручальное кольцо.)
– Надоели сообщенья,
Поищите лучше песни,
Все прелестно, все красиво,
Девушек тугие груди,
Спины юношей нагие,
И старух глаза большие…
(А над пляжем пронесся МиГ-21, и дети смеялись, глядя на него, и махали ему руками, ибо он был знамением мира, и никто не знал, что именно в этот момент пилот получил приказ приготовить кнопку 2-3ET для педалирования в случае ядерного нападения подлюг из НАТО.)
Песок прогрет под солнцем,
Водицы синь тепла,
Кругом белеет море,
Эсминцы на дозоре,
И в людях берега…
(В это время Людвиг Свобода говорил с правительством, которое охроняли от наскоков контрреволюции советские бронетранспортеры.)
Ах прошу вас, ах не надо!
Здесь же пляж,
Едем вечером отсюда
В бар, где будет очень людно,
Там приперченные блюда,
Там играет старый джаз…
(А в это время Чжоу Энь Лай выступил с провокационной речью в румынском посольстве в Бухаресте.)
Ах, как дети здесь смеялись,
Будто не существовало горе,
Рыбаки сушили сети,
Говорили дамы «нет»,
(Мне сегодня, по секрету, 248 лет.)
А мужчины говорили о последних матчах в мире,
А мужчины говорили о победах на рапире,
Ну а женщины боялись за детей, что без оглядки
Все играли, все играли в салочки, в песочек, в прятки…
(А в это время орудия развернули свои жерла на Вацлавское предместье, где собралась толпа безответственных хулиганов, которые протестовали против акта братства, оказанного народами – друзьями чехам и словакам в их борьбе с контрреволюцией.)…
…Ближе познакомившись с Андроповым, отец заговорил с ним о Праге 68-го. Юрий Владимирович в ответ рассказал о будапештском восстании. Во время событий он работал в Венгрии и навсегда запомнил побелевшее лицо маленького сына, когда тот увидел на фонаре перед резиденцией повешенного за ноги доброго дядю Пишту, их служителя по дому, – мальчик любил играть с ним в шахматы.
И еще сказал, что на пост председателя КГБ не стремился, – Леонид Ильич настоял. Возглавив комитет, провел через Политбюро решение: КГБ не вправе провести ни один арест, не получив на то соответствующего постановления прокуратуры. Наиболее заметный диссидент может быть арестован лишь по согласованию или постановлению ЦК. В те времена это означало: «Хотите творить беззакония, – творите, а я умываю руки».
Однажды сын с дочкой принесли Юрию Владимировичу книгу репрессированного дворянина-интеллектуала Бахтина. За один день ее прочтя, он назавтра велел подыскать опальному литературоведу приличную квартиру (тот ютился в какой-то каморке, в захолустном городишке). Сразу же позвонил разъяренный Суслов, но Андропов Бахтина отстоял.
Когда снесли выставку абстракционистов бульдозерами, он отдыхал в Кисловодске, о случившемся ему доложил дежурный, позднее.
– Какой идиот, какой кретин пошел на этот вандализм?! – взорвался Юрий Владимирович.
– Указание члена Политбюро ЦК товарища Гришина, – кашлянув в трубку, ответил смущенный дежурный…
Так сидели и говорили они о самом больном и постыдном в истории страны: шеф Комитета госбезопасности и известный писатель. Могущественные рабы системы, по-мальчишески-робко мечтавшие об изменениях…
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Абраму Кричевскому
Не знаю я,
Что значит «что»?
Почем торгуют «как»?
Зачем нам «почему»?
И для чего «не надо»?
Вопросы столь важны,
Сколь прост на них ответ:
«Что» – это просто «что»,
Синоним «почему» – «зачем»,
А вообще привет!
Вопрос мы разрешим,
Вопрос ведь не ответ,
Виновны только «да»
И не виновны «нет».
Наивен компромисс
Вопроса и ответа…
«Зачем?» – вас в каземат,
«Как?» – в дальнюю тюрьму!
Услышь мою мольбу,
Не пария, но брата,
И «как» не виноват,
И «что» не виноват,
И для того «нельзя»,
Что всем сейчас «не надо»…
Берлин, 1 сентября 1968 года
…Скорцени – любимец фюрера, освободитель Муссолини, принципиально не принимал журналистов даже из самых правых изданий. Сначала папа «подкрадывался» к нему через старого генерал-полковника Молина – последнего военного атташе Франко в Берлине, друга Скорцени. Тот потребовал за услугу контракт с советскими фирмами на поставку асбеста (у Молина была маленькая пенсия, хотел подзаработать). В Испании тогда советского торгпредства не было. Сидели представитель Черноморского пароходства Виталий Дырченко и его заместитель Сергей Богомолов, ставший первым советским послом после смерти Франко. С асбестом они помочь не смогли, и увидеть Скорцени папе в тот раз не удалось. …Кстати, Молина рассказал отцу о его последнем обеде с генералом Власовым, в его доме в Вюнедорфе, в апреле 45-го года. (Жуков в тот день прорвал оборону и пошел на столицу.) Власов, Молина и несколько немецких офицеров ели русские блины, поливая их топленым маслом с рубленым яйцом и поджаренным луком. Молина запомнил «русский» запах, определявший суть дома Власова. «Русский запах?» – удивился отец. «Да-да, – убежденно повторил Молина, – в этом запахе была скрыта теплота, полнейшее спокойствие и ощущение, что „пронесет“». Власов, по воспоминаниям Молина, был зол: «Война проиграна из-за идиотизма немцев, которые не дали нам оружия. Только мы имели возможность остановить Сталина. Я – его ученик, я умею угадывать его ходы, война – это увеличенные до гигантских размеров шахматы. А Гитлер думал, как слепой фанатик! „Славянам нельзя верить!“». Тут один офицер вермахта, говоривший по-русски, сделал Власову замечание. Тот напрягся, потом откинул голову и рубяще произнес: «Вон из-за моего стола! Чтоб духу вашего здесь не было!» И выгнал немецких офицеров.
…Так вот, во время следующего приезда в Испанию в 1974 году папа рассказал о том, что встреча со Скорцени сорвалась, своему другу Хуану Гарригесу. «А ты по-прежнему хочешь с ним увидеться?» – поинтересовался Хуан. «Конечно!» Хуан поднялся из-за стола (они ужинали у него дома), набрал номер своего могущественного отца, тот через пять минут отзвонил: «Хулиан (так все испанцы произносили папино имя), завтра в семь вечера Скорцени будет ждать тебя в нашем клубе финансистов».
На следующий день, оставив шестнадцатилетнюю Дарью в гостиничном номере и велев запереть дверь, папа отправился на встречу со штандартенфюрером СС. Они начали разговор в семь часов вечера, а закончили в третьем часу ночи, в фешенебельном ресторане, хозяин которого приветствовал Скорцени нацистским вскидыванием руки. В течение пяти часов Скорцени много курил, много пил и много врал. Он уверял отца, что не знал лично ни Барбье, ни Менгеле, ни Рауфа. Постоянно подчеркивал, что он – зеленый СС, а значит, боец, и не имел ничего общего с черными эсэсовцами, сидевшими в тылу и применявшими пытки против врагов рейха. Папе удалось вытянуть из старого лиса интересные детали подготовки его операции по освобождению Муссолини. Скорцени подтвердил, что Гитлер ежедневно (!) принимал 45 различных таблеток. Но стоило отцу заговорить о Мюллере – закрывался. Это утвердило папу в мысли, что тот в 45-м выжил и сбежал в Латинскую Америку. Эту версию он и использовал в романе о Штирлице «Экспансия»…
Манеры Скорцени были безукоризненны. Он прекрасно говорил по-английски и по-итальянски, знал латынь, но отца неприятно поразили его жажда к однозначным оценкам и бескомпромиссность в осуждении чужих. Главное для таких людей – жестко обозначить врага, не своего, навалиться на него всем миром, смять, втоптать в землю, уничтожить, после этого наступит рай на земле. Скорцени повторял рефреном: «Фюрера обманывали!» – и этим до странного напомнил папе старых сталинистов, кричавших: «Сталин ничего не знал о злодеяниях!» «Руководителя страны, не знающего о творящихся злодеяниях, переизбирают – в условиях демократии, – напишет отец позднее. – Истинные патриоты Германии пытались Гитлера, как злейшего врага немцев, уничтожить. Они хотели немцев спасти, однако те истерично приветствовали Гитлера, который приказал показать им, как предателей вешают на рояльных струнах. Значит, каждый народ заслуживает своего фюрера? Или как?»
Встреча со Скорцени в который раз отцу подтвердила: сталинизм и гитлеризм – суть две стороны одной медали. Несколько разнились формулировки, но одинаковым было потребительски-презрительное отношение диктаторов к своему народу. Подспудно, более десяти лет после разговора со Скорцени вынашивал отец идею и написал пьесу «Процесс-38». Персонажи недавней истории – Троцкий, Ульрих, Гитлер, Вышинский, Молотов, Жданов, Бухарин – выходили на авансцену и говорили сокровенное. Страшен монолог Сталина.
Отрывок из пьесы «Процесс-38».
Кто, как не я, знаю народ свой. Кто, как не я, прожил жизнь среди них: я их «винтиками» называю, ржою, железками, а они кланяются мне в пояс. Я говорю, что любой другой народ прогнал бы таких, как я, а они – терпеливы, все сносят – так они от слез немеют и многие лета мне поют с амвонов. Как же мне можно с ними иначе, кроме как жестокой строгостью и безотчетным повиновением?! Не потому я жесток с ними, что не люблю, а оттого, что знаю рабью душу их, не способную к тому, чтобы стать в рост и крикнуть небу: «Явись мне, Господи!» Побоятся, поползут в храм просить, чтобы священники замолвили за них слово перед небесами, у самих от страха гортани пересохнут… Как же я могу бросить этот несчастный народ в рабском горе его и юдоли?!
…На следующее утро после встречи Скорцени прислал папе свою книгу мемуаров с автографом. Довольный уникальным интервью и «фашистским» подарком, отец отправился показывать Дарье Мадрид. Зайдя в кафе, невозмутимо заказал два эспрессо и килограмм марихуаны (его манера шутить), чем вызвал страшный переполох. Отец был удивительным человеком: в нем уживались спокойный, все видевший, все понимавший мыслитель и аналитик и куролесивший бунтарь, бросавший вызов закостеневшему в нудной мещанской добропорядочности миру. «Я разный, я натруженный и праздный, Я целе-нецеле-сообразный!» – цитировал он фразу поэта, объясняя многоликость свою…
…После интервью с Эдвардом Кеннеди, в Америке, в аэропорту, на рутинный вопрос полицейских, есть ли у него наркотики или оружие, отец с энтузиазмом ответил, что есть и то и другое. Стражи порядка немедленно на него бросились, заломили руки и стали обыскивать. «Я пошутил!» – объяснил папа держащему его здоровенному двухметровому громиле. «Don't joke with American Secret Service!»[19]19
Не шутите с американской секретной службой! (англ.).
[Закрыть] – погрозила ему пальцем симпатичная начальница громилы с пистолетом на боку и отпустила восвояси.
Прекратив травмировать вражеские секретные службы, папа продолжал «отрываться» с рядовыми гражданами. Никогда не забуду нашу поездку в Голландию. Амстердам, лето, утро, солнце. День начинается замечательно: папа, Дарья и я бродим по музею Ван Гога, потом катаемся на катере по тихим каналам, дивясь приюту для бездомных кошек на одном из пришвартованных к набережной корабликов. Вечером отправляемся в самый страшный квартал, находящийся рядом с улицей Красных фонарей. Мельком взглянув на девиц, призывно улыбающихся в подсвеченных неоном витринах, отец заводит нас на улицы, где полицейские предпочитают не появляться. Тусклый свет, закрытые ставни, снующие в темноте торговцы наркотиками и прочие подозрительные личности. Идем, боязливо прижимаясь к папе. Дарье – двадцать один год, мне – тринадцать. Зачем папа нас сюда притащил? Затем же, зачем его герой Штирлиц показывает невесте наркоманов и проституток. Хочет, чтобы мы знали жизнь во всех, даже самых страшных ее проявлениях. Одно условие – он должен быть рядом, всегда готовый нас защитить. С полкилометра бредем по жуткой улице и натыкаемся на мрачного китайца, – тут папа заводится. После публикации романа «Бомба для председателя», в котором он раскритиковал Мао, его объявили врагом Китая номер 137 (помощники Мао присваивали идейным противникам порядковые номера) и въезд туда ему был заказан. Отец затаил обиду. Встреча с представителем этой нации давала ему, слегка выпившему, возможность высказать накипевшее. На хорошем английском папа поминает Мао, культ личности и культурную революцию всю целиком. Голландский китаец оказывается патриотом: замирает на месте и какое-то подобие чувств появляется на его непроницаемом лице. Что за чувства пробудил в нем папа, становится ясно, когда китаец, направлявшийся первоначально в противоположную сторону, круто разворачивается, достает финку и с полквартала идет за нами на расстоянии двух метров. Не знаю, хотел ли он обидчика «пощекотать» или только пугал, но нам с сестрой было страшно. Папа же не проявил ни малейшего беспокойства и даже, пару раз обернувшись, добавил «комплименты» в адрес китайского руководства. Отцовская невозмутимость помогла – китаец незаметно исчез в одном из мрачных переулочков.
В 1985 году отец отправился с Дарьей в Никарагуа. Он готовил репортажи о своих друзьях-писателях, журналистах, революционерах: Омаре Кабесасе, команданте Томасе Борхе, Доне Марии. Дарья писала с них портреты маслом и делала карандашные зарисовки. Ситуация была жутковатая – вовсю стреляли, без калашникова и гранат из дому не выходили, но папу это ничуть не смущало…
…Вернувшись из Никарагуа, он немедленно отправился с Дарьей в Афганистан. Эту маленькую страну он знал и любил с 50-х годов, хотя и был поражен тогда отчаянной нищетой. Приехав снова, попытался дать максимально объективную оценку происходившего. Дети ходили в школы, женщины работали с открытыми лицами, экстремисты не забивали девушек камнями за приоткрытую щиколотку. Цена за это относительное благополучие (люди Бабрака пытали врагов революции, те отплачивали тем же, в подвалах томились тысячи окровавленных пленников) была непомерно высока – каждый день «Черный тюльпан» увозил десятки, сотни гробов…
Папа не знал того мальчика, да и я видела один раз, мельком, на дне рождения моей лучшей школьной подружки, которой исполнилось тринадцать. Родители ретировались на кухню, чтобы дать нам всласть напрыгаться под итальянцев и умять дивный домашний торт, обсыпанный крохотными разноцветными шоколадными шариками… Он был единственным сыном приятельницы мамы моей подружки. Не очень красивый, худенький, с темно-русыми волосами и добрым лицом, в котором появлялось что-то беззащитное, когда он улыбался. Ранимый, мягкий, мальчик без отца, мамина гордость. Он разительно отличался от наших уверенных в себе одноклассников – дипломатических сынков, поэтому я его и запомнила… Через пять лет его забрали в Афганистан, хотя и существовало вроде бы гласное или негласное распоряжение – единственных сыновей туда не отправлять. Наверное, больше негласное: деловые мамы, ярко накрасившись и вооружившись лучшими коньяками, конфетами и хрустящими конвертами, шли к краснолицым майорам и подполковникам и всеми правдами и неправдами выбивали тихие подмосковные стройбаты. Его мама не сумела.
Когда привезли гроб, она потеряла сознание. Соседки привели ее в чувство. Взглянув на гроб, она глухо закричала и снова упала. Так прошел день. Ее отходили. Я увидела эту женщину много лет спустя, дома у моей повзрослевшей подружки, – она сидела на красивой кухне с модной мебелью темного дерева, быстро и некрасиво ела рыбу, запеченную в духовке, и, не переставая жевать, негромко повторяла: «Совсем нет вкуса… Рыба, говорю, совсем без вкуса, бумага…» Я увидела ее глаза – в них уже не было ни отчаяния, ни боли, в них не было ничего… Жива ли она еще? Если да, то хранит начавшие желтеть фотографии худенького паренька, его школьные тетрадки, рисунки к 8 Марта, дневники с отметками и корявыми подписями учителей. А если нет ее, то и этого не осталось. Не очень красивый, смущенно улыбающийся паренек исчез окончательно, превратился в прозрачную тень, далекое эхо. И непонятно, что несправедливее и абсурднее – сам факт его смерти или то, что скоро исчезнет даже память о нем.
Папа не знал того паренька, я видела лишь раз, но он стоит у меня перед глазами. Как же его все-таки звали? То ли Андрей, то ли Миша. Наверное, это не так важно, он – один из десятков тысяч убитых мальчиков и у всех – его беззащитное лицо. А у всех мам – пустые, серые, будто выжженные нестерпимой болью глаза.
В Афганистане было страшно. Сестра рассказывала, что недалеко от них взорвалась на мине машина. Днем и ночью слышались далекие канонады и близкие автоматные очереди. Отец чувствовал себя под пулями совершенно спокойно: беседовал на своем любимом пушту с афганцами, ездил по стране. Невозмутимый, в подаренном ему афганском национальном костюме – расшитых серебряной ниткой белых шароварах и такой же рубашке, отстукивал на машинке очередную статью: «Александр Довженко сказал как-то: „Смотрите в дождевую лужу – даже в ней вы увидите звезды, если обладаете даром видеть“. Дети, весело идущие в школу, – это звезды нового, за ними – будущее. Видеть это новое следует прежде всего в лицах тех, с кем довелось встречаться. Лица людей – это коллективный портрет народа, а их глаза тенденция. Я был счастлив, что мог всматриваться в глаза моих афганских друзей – они смотрят с надеждой».
Со всех портретов женщин и детей, привезенных из Афганистана Дарьей, на меня действительно смотрели огромные глаза, в которых теплилась надежда. Для многих она сменилась ужасом, когда пришли талибаны, а вскоре глаза и вовсе закрыли густой вуалью, – как зеркало в доме покойника.








