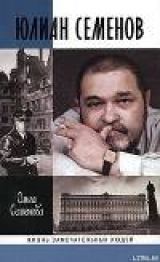
Текст книги "Юлиан Семенов"
Автор книги: Ольга Семенова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Папа отрицал трагедию как нечто постоянное, для него она была нарушением равновесия, временным явлением. Он хотел верить в доброе человеческое начало и в высшую мудрость, но порой, разочарованный жестокостями и злом, творящимися в мире, терялся. В один из таких моментов, в очередной «горячей точке», записал в дневнике: «Дети – единственно чистые создания на свете. Помимо множества мировых „союзов“ создать бы всемирный союз детей, они бы навели порядок в этом дряхлеющем, амбициозном мире».
Скоростные сдвинулись пределы,
А мораль по-прежнему стара:
«Свят есть Бог, хоть первородно тело,
И весна – суть лучшая пора».
Почему? Ведь однозначность истин
Будет мстить отсталостью и тьмой.
Все неправы. Прав один лишь гений,
Отменивший турбовинтовой.
Гений тот ломал себя и мучил,
Самолет смертельный флаттер бил,
Пробивая грозовые тучи,
Гений о спасении молил —
Не себе, а той своей идее,
Для которой лишь один предел:
Чтоб исчезли в скоростях пределы,
Как в любви – дворовые наделы,
Как в игре отравленные стрелы,
И чтоб мир скорее поумнел…
Скорости – им нет определенья,
Скорости – тревоги наших дней…
Он погиб. Не надо сожалений —
Мир живет умнее и быстрей:
Формула, записанная мелом,
Станет делом миллионов рук,
Бумеранг, запущенный умело,
Возвратится, сделав полукруг.
Скорости есть символ первородства
Мощностей направленных вовне —
Доброта, Отвага, Благородство
Здесь нужны. Чуть меньше – на Луне.
ПЕРЕСТРОЙКА
Когда в 85-м году папа получил квартиру в знаменитом Доме на набережной, его кузина Галя Тарасова язвительно-шутливо спросила: «Уже мечтаешь о мемориальной доске, братишка?» Досок на фасаде этого дома и впрямь немало, но столь далеко идущих планов у папы не было, просто понравились планировка и высокие, в три с лишним метра, потолки. В коридоре он развесил фотографии афганских и никарагуанских друзей, деда, Сименона, Кармена. В столовой, выкрашенной Дарьей в болотный цвет, – несколько полотен Кончаловского и ее работы. Мой портрет (в старинном платье на фоне средневекового замка) купила за баснословную по тем временам сумму – 10 тысяч рублей Третьяковская галерея, а портреты Никиты и Татьяны Михалковых остались. Портрет Татьяны в красном платье, с длинными золотистыми волосами чем-то напоминал работы Боттичелли, и папа его очень любил. Над нами обитала семья Орджоникидзе, под нами, на первом этаже – дворник с женой татаркой. Напившись, он ее страшно избивал, а она, как восточная женщина, покорно его хулиганства сносила. Окна выходили во внутренний зеленый дворик – там было тихо и ветер доносил соблазнительный запах шоколада и горячего печенья с соседней фабрики «Красный Октябрь». Мама тогда жила подле Таточки, которая хворала, мы – с папой.
Меня заинтересовали два брата – доходяги лет пятидесяти, вечно сидевшие во дворике на выкрашенной в зеленой цвет скамейке, – то ли близнецы, то ли погодки на одно лицо. Они почти всегда были пьяны, но спокойны и корректны, знали всех жильцов, вежливо здоровались с проходящими. Время от времени один из них исчезал на пятнадцать суток, но неизменно возвращался на излюбленную скамейку с бутылкой пива. Иногда к ним подсаживались пришлые забулдыги или кто-нибудь из «элитных» грузчиков – во дворе размещалась столовая лечебного питания, или, попросту, кремлевская «кормушка». Что-то двух братьев от всех этих выпивох отличало. Вскоре соседи рассказали, что они – сыновья бывшего коменданта Кремля и в детстве жили в одной из роскошных квартир. Утром провожали папу на почетную работу под бодрое «Солнце красит нежным светом», шли отутюженные и причесанные в престижную школу, по вечерам играли во дворе в лапту и салочки. Когда коменданта то ли в 30-х, то ли в 40-х сняли (не знаю, расстреляли или нет), из квартиры их выгнали. Где они жили, чему учились, кем работали да и работали ли – неизвестно. Но самым светлым и дорогим местом остался для них маленький, сумрачный от густой листвы дворик, и казалось, отвези их за тысячи километров – они, как верные насиженным местам кошки, вернутся к Дому на набережной…
…Всякий раз, когда папа приезжал из странствий, квартира приобретала вид туристического агентства, представлявшего страну, где он побывал. Из Африки приезжали статуэтки газелей темного дерева и страшные маски. Из Латинской Америки – расшитые попугаями и цветами длинные платья, в которые мы с сестрой немедленно облекались. Из Китая, куда папу наконец пустили с делегацией писателей вместе с Михалковым и Евтушенко, – фарфоровые вазы, кассеты с современной китайской музыкой – молодая певица пела что-то необычайно ласковое, мелодичное и абсолютно непонятное, и всевозможные чаи и коренья в банках – все лечебные и чудотворные.
Папа по тем временам считался очень богатым человеком (в рублях), но поскольку за зарубежные публикации наше справедливое государство, как я уже упоминала, заботливо брало в свою казну более 99 (!) процентов дохода, то, чтобы выполнить все наши многочисленные «заказы», ему приходилось за границей рассчитывать траты до последнего доллара, лишая себя необходимого. В конечном итоге отцу это надоело, он решил обойтись без услуг всемогущего ВААПа и стал заключать контракты на издания напрямую с западными издателями. Отец всегда стоял за законность и с удовольствием бы заплатил 60, 70, даже 80 процентов с дохода, но позволять себя обворовывать больше не хотел…
…Он был одним из журналистов, освещавших женевскую конференцию. Когда задал вопрос Горбачеву, тот, щурясь от яркого света юпитеров, посмотрел в зал и радостно сказал: «А-а, да это Юлиан Семенов! Знаем, уважаем!» А потом стал отвечать по существу. В первой трансляции это на нашем телевидении прошло, во второй заботливые Сальери слова о любви и уважении предупредительно вырезали. Папе, конечно, было обидно, но он смотрел на происходящее философски. «Главное счастье литератора, – говорил он, – если он убежден, что его книги читают. В этом смысле я человек счастливый. О читателе лишь я и думаю, когда пишу, а не о том, чтобы понравиться литературным снобам».
…К папе приходили письма со всего Союза – люди просили помочь достать его книжки. В магазинах они расходились моментально, на черном рынке стоили непомерно дорого. Даже Юнна Мориц прислала однажды шутливое послание с просьбой посодействовать с подпиской и обещала воспеть за это в поэтическом сонете. Одно письмо меня откровенно поразило. Работницы фабрики рассказывали, что их коллега переписывала взятые в библиотеке папины книги от руки (!) в обеденный перерыв, и просили избавить ее от каторжного труда, прислав несколько романов о Штирлице. Чем больше росла любовь читателей, тем негативнее относились к нему, как он их окрестил, «литературные снобы».
Вспоминает кандидат филологических наук Тавриз Аронова.
На вторую встречу с Юлианом Семеновым я шла как на заклание – несла рукопись первого варианта диссертации, на страницах которой разгулялась в мыслях, ощущениях и выводах без малейшей оглядки на цензуру. Я была почти уверена, что Семенов будет, мягко выражаясь, разочарован, обнаружив, что диссертантка позволила себе отнюдь не тяжеловесно-академический стиль в своем научном исследовании. Да и выводы, сделанные мною, могли показаться писателю не просто неожиданными и непозволительно резкими, но и непочтительными, не отвечающими общепринятым стандартам. Но нет! Он его одобрил, был приятно удивлен и обрадован общей тональностью и выводами диссертации. Много смеялся и уверял, что в таком виде работа не пройдет через бастионы профессуры кафедры советской литературы МГПИ им. Ленина, где я была аспиранткой.
Увы, Семенов оказался прав. Кафедральные оппоненты буднично-серыми голосами всего за пять минут доходчиво объяснили, что это интересно, элегантно, временами даже умно (вероятно, им на удивление), но в таком непричесанном виде не пойдет. Не надо умничать и выписывать сложные пируэты – не о Достоевском пишете.
Вся в тоске и скорби, я позвонила Семенову. А он вдруг, совершенно неожиданно для меня, откровенно-безудержно обрадовался.
…Готовый вариант диссертации с авторефератами и всеми отзывами официальных оппонентов я принесла Семенову в его шикарную квартиру в Доме на набережной. Мы сидели втроем (писатель, мой научный руководитель Алексей Васильевич Терновский и я) на кухне, пили зеленый чай, шутили, смеялись, но как-то в полсилы. Будто истощился заряд оптимизма и веселья… Прощаясь, Юлиан Семенович вдруг протяжно-тоскливо сказал:
– Завалят тебя на защите! Может, мне прийти для моральной поддержки?
Алексей Васильевич, помолчав, задумчиво сказал:
– Нет, это может быть расценено как психологическое давление. Вы слишком знамениты и популярны.
– Да ей-то за что страдать?! – воскликнул Семенов. – Мои враги будут рассчитываться с этой девчушкой!..
За «девчушку» я немедленно обиделась, запальчиво так, по-юношески порывисто вскочила и, глядя ему прямо в глаза, отчеканила:
– У вас нет врагов, у вас есть лютые завистники.
Семенов, преодолевая внутреннее сопротивление, сказал:
– У тебя, деточка, есть еще один серьезный минус: ты еврейка. Еврейка, защищающая диссертацию по творчеству полукровки! Тебе придется трудно.
Глупое провинциальное дитя, я высокомерно-надменно улыбнулась:
– Я готова к любым баталиям и уверена в победе. Ваши завистники не могут не знать, как вы любимы народом. Штирлица обожают все. Даже… преступники. Да-да! Мне об этом рассказал начальник колонии в Узбекистане, мой студент-заочник. Он меня спросил, где можно достать ваши книги. В его колонии, в тюремной библиотеке, набралось 73 заявки на ваши произведения. Одна из заявок – от вора в законе!
Семенов выслушал мою тираду, а потом сказал:
– Я не смогу сидеть и ждать твоей защиты. Лучше уж в Ялту полечу.
Алексей Васильевич даже обрадовался:
– Да, это мудро. А мы уж тут сами, без вас справимся.
…А назавтра нас ожидал такой мощный выпад из стана завистников Юлиана Семенова, что мы не просто изрядно поволновались, а попросту впали в глубочайшую, почти безысходную тоску-печаль. Представьте себе мое потрясение, да что там потрясение, – шок, когда главный оппонент – зав. кафедрой Лит. института им. Горького, доктор филологических наук, профессор, ровно за сутки до означенного срока сдачи документов вдруг отказывается от защиты, если не будут измечены некоторые формулировки и выводы, напрямую касавшиеся Юлиана Семенова. Справедливости ради надо отметить, что диссертацию он одобрил, но… у него были профессионально-дружеские связи с некой группой неособливо удачливых писателей и журналистов, которые, кто тайно, кто явно, стремились усложнить жизнь Юлиану Семенову. Они использовали в качестве рычагов давления и влияния ложь, клевету, слухи, домыслы, вымыслы, а то и прямые запреты, если имели на это возможность. Мой оппонент не мог противостоять жесточайшему давлению, которое оказывали на него эти люди. К счастью, он оказался не настолько коварным, чтобы вынести смертный приговор моей диссертации прямо на защите, но весьма малодушным, ибо о своих претензиях заявил только за сутки, хотя работа находилась в его распоряжении полгода. Авторитет Алексея Васильевича, полное доверие ему, как научному руководителю, ученому, помогли нам найти удивительного человека – доктора филологических наук, профессора Петра Ивановича Плукша. Профессор Плукш, сам с удовольствием читавший Юлиана Семенова, очень удивился, что нашлась в «далекой Азии столь рисковая аспирантка». Он с явным, искренним, а не показным энтузиазмом согласился стать моим оппонентом. Конечно, он вздохнул, когда мы его поставили прямо-таки в прифронтовые условия (написать за сутки отзыв – дело нешуточное), но на следующий день, в 6.15 вечера под неодобрительно-строгим взглядом ученого секретаря, еле переводя дух, я сдала все отзывы и диссертацию в секретариат. Я опоздала на 15 минут. Все заканчивали работу в 6 часов. До защиты оставалось ровно тридцать дней, как и было положено по инструкциям ВАК.
Молодая ученая защитилась. Семнадцать проголосовало за, четыре – против. Перед выходом к оппонентам научный руководитель ее «накачивал», как боксера перед боем: «Не сдавайся. Будут провоцировать – держись. Будут критиковать – игнорируй. Ты должна реабилитировать жанр! Вперед, отступать нельзя!» Когда «экзекуция» закончилась, всхлипывая после нервного напряжения, позвонила отцу в Мухалатку. Тот, звонка ждавший, радостно прогремел в трубку: «Только четверо против?! Я думал, будет больше! Молодчина, поздравляю!»
Вернувшись в Ташкент, Аронова с увлечением стала читать в своем институте лекции по творчеству Юлиана Семенова. Студенты, прослушавшие ее курс, лучше всех других были подкованы по истории.
Отец радостно-недоверчиво посмотрел на присланную Тавриз кандидатскую в синем переплете и бережно положил в шкаф. Время от времени я ее доставала, с удовольствием читала, смаковала наиболее удачные пассажи… Папа не хвастался ей перед друзьями, не «задавался» – не в его характере было почивать на лаврах.
…«Не бойтесь верить людям, Кузьмы, – часто говорил отец нам с сестрой. – Неверие – приговор к одиночеству. Поверь и обретешь друга, пусть ненадолго, на неделю, на месяц, и даже если потом наступит разочарование, память об этом времени дружества у тебя не отнимет никто, а это – самое важное»… Отец умел верить, и умел дружить, и умел прощать – легко, с улыбкой, как прощают только самые сильные из нас…
Теплый май 1987 года. В нью-йоркском аэропорту проверка паспортов занимает от силы две минуты. Просматривая отцовский паспорт, высокий белобрысый пограничник в темно-синей фуражке спрашивает:
– Цель вашего приезда?
– Конференция детективных писателей и вручение премии Эдгара По, – отвечает отец.
– Эдгар По? А что это за парень, Эдгар По? – интересуется пограничник.
– Это ваш известный писатель, его знают и у нас, в России.
– Вот как! – Представитель закона сверкает белозубой улыбкой. – Тогда передавайте ему от меня привет! – И шлепает печать в наши паспорта. Мы в Америке!
Художник Михаил Шемякин встречает нас на пороге своей нью-йоркской мастерской. Он в высоких черных сапогах, черных брюках, замазанных краской, и в куртке. За ним – безмолвной тенью – рыжеволосая худенькая девушка в старомодном платье – Сара, молчаливо обожающая и молчаливо ревнующая его ко всем, независимо от пола и возраста.
Шемякин показывает мастерскую: по стенам ящики с материалами по искусству. Все, начиная от Древнего Востока и заканчивая современной американской живописью. Подводит к маленькому постаменту, на котором стоит перевязанная черной лентой гитара, опускает голову:
– Володенька Высоцкий, он здесь часто на ней играл.
Потом достает свои картины – странные, красивые, чуть болезненные: маски, женщины, звери. Дарит нам литографии, каждую подписывает витиеватым старорусским почерком с «ятем» и вензельками… Подходит к фотографиям на стене. Две старые, выцветшие – красивая женщина с огромными глазами и усатый суровый господин в мундире.
– У меня мать актриса была, а отец – военный, из дворян, а вот и дочка моя. – Шемякин указывает на фотографию коротко остриженной, увешанной металлическими цепочками девочки в потрепанной кожаной куртке, поясняет: – Три года назад снимал, панковала тогда. Она сейчас в Париже живет, рисует интересно.
Заходит в гости режиссер Оливер Стоун со светловолосой голубоглазой красавицей-женой – актрисой.
– «Взвод» – это моя исповедь, – объясняет он. – Я провел во Вьетнаме год и показал в картине все, что за тот год увидел.
– В каком году вы там были? – спрашивает отец.
Выясняется, что они находились там в одно и то же время. И хотя «с разных сторон» – воспоминания их похожи: полуразрушенный Лаос, раненые, ночные налеты и смерть, которая совсем рядом.
– Собираюсь снимать фильм о Второй мировой. Главная героиня – русская, место действия – немецкий концлагерь…
Стоун с женой быстро уходят – завтра съемочный день, к тому же дома ждет новорожденный сын. Дожидаясь лифта перед огромной мастерской Шемякина, Стоун обнимает жену и с удовольствием вдыхает запах ее волос. Считается, что художник всегда одинок. Это так, но, к счастью, бывают и исключения.
– Ну что ж, поехали к отцу! – поднимается Шемякин с огромного старинного кресла черного дерева.
«Отец» – низенький, толстый, с добрыми улыбающимися глазами грузин – хозяин ресторана в центре Нью-Йорка, уже ждет нас. Сегодня – 9 мая, ресторан для американцев закрыт, оркестр играет «День Победы», накрыт стол. Темнеет быстро, наступает теплый весенний вечер, и нет-нет да и появится в проеме закрытой стеклянной двери лицо очередного любопытствующего: «Что за праздник сегодня отмечают русские?»
Шемякин встает – большие руки, за толстыми линзами очков сурово блестят темные глаза: «За День Победы, за нашу Победу!» И опять гремит оркестр, и сверкает блестками маленькая армянская танцовщица, и «отец» по-хозяйски суетится вокруг стола, ухаживая за каждым гостем. Шемякин говорит мне тихо:
– Два месяца назад у него убили единственного сына. Открыли дверь и из автомата, в упор.
– За что?
– За что-то, а может, и ни за что, так просто. А если серьезно, то это дела «общественности» (так у нас называют русско-еврейскую мафию). Убить человека стоит всего 700 долларов.
Шемякин закурил, глубоко затянувшись:
– Тогда я пришел к нему и спросил: «Можно, я буду вас звать „отцом“?» И он ответил: «Можно, сынок».
Над Нью-Йорком опускается ночь, ворчат поливальные машины, улицы пустеют – как-никак уже четыре, неугомонны лишь огни рекламы. В дверях ресторана стоит маленькая фигурка – это «отец», глядя нам вслед, он по-прежнему улыбается…
…Вскоре папа помог организовать приезд Шемякина в Москву – несмотря на перестройку, пришлось «нажимать на рычаги». Были приемы, конференции, интервью. Отец написал восторженную статью, упомянув о «трагедии художника вне России». Шемякин резко выступил в ответ: «Не надо говорить за меня. Не было трагедии». Что отцу оставалось после этого делать? Он продолжал хранить память о нескольких неделях дружества…
…Папина приятельница Мэри Фриск ведет его к крупнейшему американскому издателю детективной литературы господину Батиста.
– Батиста, это испанская фамилия? – спрашиваю я Мэри.
– Да, он испанец.
– Тем лучше, – замечает отец, – представится возможность поговорить по-испански!
Однако в ресторане ему навстречу поднимается типичный голубоглазый американец:
– Сразу предупреждаю: я не знаю ни слова по-испански. Америка – это котел, перемалывающий все национальности. Так что английский, только английский.
Батиста краток, вопросы задает без «воды»:
– Кого из советских писателей вы предложили бы здесь напечатать?
– Ардаматского, Цырулиса, Вайнеров, Дудко, – перечисляет отец.
– А каким, на ваш взгляд, может быть название спецномера журнала, посвященного советскому детективу?
– «Вот пришли русские», – шутит папа.
– Кстати, прекрасное название, с ним кассовый сбор обеспечен. Обязательно посоветуюсь с моим адвокатом…
Меня поражали свобода и раскованность, с которой отец вел себя за границей с дельцами, богатейшими людьми. Открытость, умение слушать, вести диалог, переубеждать собеседника или, если понимал, что тот прав, соглашаться. Он был открыт, прост, искрометен и одинаково хорошо себя чувствовал в беднейших кварталах, бандитских районах и на роскошных приемах… По дороге в отель, на маленькой улочке в Манхэттене со старыми, неказистыми домами видим дверь с табличкой «Дом престарелых актеров». Отец легонько ее толкает – темная каменная лестница круто спускается вниз. Вдруг за спиной раздается слабый голос: «Please, help mе».[20]20
Помогите мне, пожалуйста (англ.).
[Закрыть] Оборачиваемся: старушка со слезящимися глазами, с палочкой тянет к нам сухие руки – спуститься самой ей уже не под силу. Спускаемся, держа ее под руку. Небольшой зал, длинный стол с грубой посудой и одни старики. Некоторые ковыляют сами, но большинство в инвалидных колясках. Уходя, еще раз вглядываюсь в их выцветшие лица. Неужели всего несколько десятков лет тому назад эти люди играли на Бродвее, репетировали, гримировались, лихо отплясывали чечетку, снимались в фильмах, пели? Как же страшна в своей неумолимости старость и что может быть страшнее старости забытого, одинокого актера…
Мы приглашены на выставку Хуана Миро Аллом Рубинстейном. Заезжаем за ним домой. Алл – огромен, одет в черный кожаный костюм на манер охотничьего наряда. Его дом – колоссальное нагромождение телевизоров, сверхсовременной мебели, аквариумов, ламп, роботов и баров. Алл – фанатик телевидения, его самый большой телевизор ловит 320 программ по всему миру. Он любит путешествовать. Подведя нас к карте мира, с гордостью говорит:
– Видите эти красные крестики? Так я помечаю места, где уже был.
Если верить пометкам, Рубинстейн объездил весь свет. За верность своему увлечению даже получил от авиакомпании бесплатный билет на кругосветное путешествие…
У подъезда ждет бесконечно длинный, на десять человек, кадиллак Алла. Едем на выставку. Большое ультрасовременное здание из светлого камня ярко освещено, вход только по приглашениям. Здесь собрался цвет Нью-Йорка: художники, критики, писатели, актеры, адвокаты, журналисты. От обилия фраков и драгоценностей так рябит в глазах, что не сразу начинаешь воспринимать живопись, к тому же пробиться к ней совсем не легко. Переходим, а вернее, проталкиваемся от картины к картине и никак не можем разобраться в обилии точек, палочек и кружочков. Отец замечает: «Быть может, это и консерватизм, но, по-моему, шумные премьеры и вернисажи с вавилонским столпотворением – от лукавого. Настоящее начинается, когда залы после первого бума пустеют, гулкими становятся шаги и перед каждой картиной можно стоять долго-долго, разглядывая и ведя безмолвный разговор».
А где же Алл? Оглядываемся и видим его в дальнем конце зала, в одиночестве. Все старательно обходят его стороной. Огромный бородач выглядит здесь потерянным, лишним и никому не нужным. Через несколько минут он незаметно исчезает.
У Алла трехэтажный дом в центре Нью-Йорка, огромный автомобиль с личным шофером, но руки ему не подает никто – ведь он владелец одного из самых крупных порножурналов США. Что поделаешь, издержки профессии.
«Бойся однозначности и резкости суждений, – сказал мне тогда отец. – Помнишь, я уже говорил, внутри у нас и Бог, и дьявол, но ты всегда старайся найти хорошее, божье – его больше. Не суди людей. И еще – бойся обидеть. Это легко сделать, даже если на первый взгляд человек силен, независим и неуязвим. Вспомни садик Алла во внутреннем дворике его дома». И я вспомнила и поняла. Садик у него крохотный: игрушечные дорожки выложены гравием, фонтанчик кукольный, а на маленькой клумбе – нежные, хрупкие, удивительно прекрасные цветы…
Странное слово «доверие».
Похоже на жеребенка,
Нарушишь – чревато отмщением,
Словно обидел ребенка.
Нежное слово «доверие»,
Только ему доверься,
Что-то в нем есть газелье,
А грех в газелей целиться.
Грозное слово «доверие»,
Тавро измены за ложь.
Каленым железом по белому.
Только так и поймешь!
Вечное слово «доверие»,
Сколько бы ни был казним,
Жизнь свою я им меряю,
Принцип неотменим.
«Шератон» – огромный небоскреб близ Бродвея, одна из самых престижных гостиниц Нью-Йорка. Шесть часов вечера. У входа в «Шератон» – оживление, бесшумно подъезжают кадиллаки, ролс-ройсы и лимузины, из них выходят солидные седовласые господа и дамы в белых кружевных накидках или черных декольтированных платьях. Это писатели со всего мира спешат на открытие международной конференции, посвященной Эдгару По. Гигантский зал, бесконечные зеркала, красные стены. Все ослепительно улыбаются и очень громко разговаривают. Отец досадливо морщится: «Ей-богу, голова разболится, также нельзя, кричат, как дети». Шум в зале действительно неимоверный, а людей столько, что, потеряв кого-то в толпе, вряд ли найдешь. Торжественный момент – вручение премий. Американцы на них щедры: тут и премия за лучший детективный рассказ, и за повесть, и за роман, и за сценарий, и даже за лучший диалог. Всего тридцать премий!
После вручения слово предоставляется отцу и он начинает его рассказом о смешном пограничнике, передавшем привет По. В зале взрыв хохота. Смеется древний американский старец, написавший свою первую книгу 70 лет назад, заливается молодая начинающая французская писательница, сотрясается толстая литературная дама с большущей золотой сионистской звездой на животе, хохочет итальянский автор. Смех, добрый смех, а где он – там всегда есть надежда.
Когда в 88-м были опубликованы папины «Ненаписанные романы», в которые вошли его ранние «антисоветские» рассказы и исследование-анализ истории страны с 1924 года, к нам домой по почте пришел смертный приговор: группа «Справедливость» требовала немедленно опубликовать опровержение романа в центральных газетах, такое же письмо было отправлено Рыбакову, напечатавшему «Дети Арбата». В противном случае обещали привести приговор в исполнение в течение 90 дней. Папа терпеливо ждал народных мстителей два месяца, а потом мы уехали с ним в путешествие по Испании.
В 1974 году отец впервые отвез туда Дарью. Написал о путешествии рассказ. В ответ вышел злой пасквиль в «Литературке»: «Пустите Дуньку в Европу». Сильные, как правило, добры. Желчно злы – слабые, лишь они трусливо бьют из-за угла, умело выбрав время и стараясь сделать как можно больнее, будто мстя за слабость свою. Сестра жаловалась: «Надо мной в училище смеются!» Отец тяжело молчал. Он всегда умел выносить удары, направленные против него, лишь когда задевали нас, становился беззащитен…
Сначала папа показал мне величественный, нарядный Мадрид. Потом, арендовав маленькую машинку, повез в Памплону. Близился Сан-Фермин, коррида. Город был наводнен туристами, в отелях ни одного свободного места. Отец чудом нашел свободную комнату с балконом на Калье-Эстафета, улицу, по которой на рассвете гонят быков. Наши соседи по квартире – молодые американцы: джинсы застираны до белизны, майки рваные, красные платки на шеях. Всю ночь они галдели, беспрерывно бегали по скрипучей лестнице и пили вино – набирались храбрости (через несколько часов им предстояло стать афисионадо и бежать перед быками). Ранним утром худая говорливая старуха испанка с подагрическими скрюченными пальцами разбудила нас и вывела на балкон. Солнце только вставало, было прохладно. На всех балконах стояли, зябко поеживаясь, люди. Было тихо, потом вдалеке послышался шум, стук сотен копыт, он приближался, нарастал, наконец появились быки. Тут уж со всех сторон раздались истерические крики, в воздухе затрепетали платки, понеслись по улице безумные афисионадо. Впереди быков я заметила несколько баранов с широкими, упрямо-изогнутыми рогами…
– Почему впереди бараны?! – кричу отцу на ухо.
– Кагановичи корриды, – кричит он мне в ответ, – заманивают и ведут за собой доверчивых быков!
– Понятно…
Мы идем в маленький ресторанчик с потемневшими от времени кирпичными стенами, крохотными деревянными окошечками и бело-красными скатертями на темных дубовых столах. Отец заказывает горячий кофе кон-лече (кофе с молоком) и учит меня макать в него теплые маленькие хлебцы – чуррос… Потом ведет на корриду. Подготавливает: «Это не убийство – это честное сражение. Шансы тореадора и быка равны». Затем с азартом комментирует бои, мастерски оценивая быков и очень точно чувствуя тореадора: «Этот играет в бесстрашие, а вот тот по-настоящему смел». А наутро мы уезжаем в Толедо.
Из книги «Отчет по командировкам».
Одни считают Толедо античной столицей Кастилии, другие – самым красивым городом мира – хотя бы потому, что здесь жил великий изгнанник Эль-Греко, потерявший родину и нашедший ее в Толедо, и снова потерявший. В нем, рожденном на Крите, пришедшем через Грецию, Италию и Францию в Испанию, – величие и трагизм художника, посвятившего себя служению правде. Он знал правду, он служил только ей, святой правде, но чтобы делать это, он был обязан стать другом и «приписным живописцем» инквизиции. От него отшатнулись друзья, о нем брезгливо говорили те, которые дерзали – на словах, да и то шепотом, – не соглашаться с инквизиторами; а он, сжав зубы, молча и сосредоточенно работал. Неосторожное слово, сказанное в сердцах, могло принести гибель – не ему – гений не боится смерти, – могло пострадать его искусство.
Первым делом отец ведет меня в дом-музей художника в центре еврейского квартала. А потом мы до гула в ногах бродим под палящим солнцем по узеньким, по-восточному «закрытым» улочкам Толедо, и в маленькой лавочке отец покупает мне деревянную шкатулку с инкрустацией. Вечереет, пустеют улицы, мы не спеша возвращаемся в отель, и шаги наши по булыжной мостовой отзываются гулким эхом.
А в Толедо – вечность,
Ласточек полет,
Сан-Фермин, беспечность,
И кинжалы – лед.
А в Толедо – древность.
Очень много камня,
Странно мало окон,
Сплошь – резные ставни.
А в Толедо – лето,
Лава узких улиц
Захлестнет туристов,
Что бредут, сутулясь.
А в Толедо – праздник,
Все перемешалось,
И в глазах Эль Греко
Вместе – смех и жалость.
Отец встретил перестройку на ура. Ему очень хотелось верить, что на этот раз страна освободится от удушающей бюрократической машины, станет европейской державой, люди смогут иметь свое дело и зарабатывать. Отец не отделял свои интересы от интересов, не буду употреблять выспренное «народа», скажу «читателей». Он надеялся, что средний класс, то есть все население страны (за исключением партийной верхушки, небольшой группы подпольных цеховиков и сотни состоятельных музыкантов, художников и режиссеров), получит возможность зарабатывать, путешествовать, одним словом, жить не нищенской, а достойной жизнью.
В 1986 году была создана Международная ассоциация писателей детективного и политического романа, и отец, как я уже писала, был избран ее президентом. Он, конечно, ликовал, и не только из-за почетного поста, но и из-за открывавшихся возможностей. Немедленно основав российский филиал организации и зарегистрировав московскую штаб-квартиру, начал пробивать свою газету и издательство. О газете, в которой можно было бы рассказать о том, о чем раньше не то что говорить, думать боялись, папа мечтал еще у барона. Давно ему пришла идея и о собственном издательстве. Помню, в самом начале 80-х, в гостинице «Ялта» он с карандашом в руке просчитывал выгоды собственного бизнеса (мне это тогда казалось несбыточной мечтой). В 87-м набрал «команду», пригласил юристов. Те начали выражать сомнения и боязливо ссылаться на всевозможные запреты. Отец переходил на крик: «Васильки! (тра-та-та!) Вы мне не объясняйте, чего у нас делать нельзя, я и сам знаю! Почти ничего нельзя! Вы мне скажите, что можно?!»








