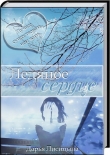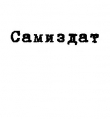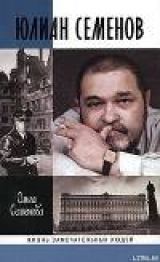
Текст книги "Юлиан Семенов"
Автор книги: Ольга Семенова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Повесть отец писал в Коктебеле, летом 61-го года. Рано утром плавал, потом садился за пишущую машинку до самого вечера. Писалось радостно. Тогда он познакомился с Маршаком, возил его по Грибоедовской дороге в Отузы, читал стихи Касым Хана и Рахман Баба. Они говорили об английских поэтах, о Волсворде и его трудной речевой особенности, об английском юморе, рассказывали анекдоты. Маршак вспомнил смешную историю о том, как он впервые приехал с сыном в Лондон. Их пригласили в гости к фермеру, который долго объяснял свой адрес, но так до конца объяснить не смог. Но Маршак хотел к нему попасть, потому что тот поселился один в лесу, Интересно побывать у человека, который живет отшельником – у такого и речь особая, и манера поведения своя. Маршак предпринял путешествие на второй день после приезда в Лондон, где он раньше никогда не был, а переводил Бернса, только опираясь на свой багаж английского языка, приобретенный в России. Он долго не мог найти тропинку, ведущую к дому фермера, и вот навстречу ему попался почтальон. Маршак, желая узнать который час, спросил его: «What is the time?» В силу того, что в английском языке крохотная мелочь меняет смысловое значение фразы, почтальон истолковал ее не как «Который час?», а «Каково время?» и скептически ответил: «О, that is very filosofical question!» («О, это слишком философский вопрос!»)
Отец рассказал чудесный анекдот про господина, решившего провести свой отпуск в пеших прогулках по Шотландии. Он шел из одного селения в другое и в каждой деревне видел десяток детей просто на одно лицо. Он спрашивал:
«Чьи это дети – такие похожие один на другого?» Ему отвечали: «Это дети почтальона». Чем дальше он шел, тем больше видел таких детей и тем больше хотелось ему посмотреть на этого почтальона. Он зашел на почту и спросил: «Скажите, а где тот почтальон, у которого так много детей?» Ему сказали: «А вон он сидит в углу». Господин увидел махонького, худенького, щупленького мужчину.
– Он?!
– Да.
– Ну как же он стольких мог наплодить?! Он же такой слабый!
– Ну и что? Он же ездит на велосипеде.
Маршак очень смеялся и сказал, что это действительно английский юмор.
…Они приехали в Отузы, сели на берегу моря с несколькими писателями, и тут к ним подошел здоровый – косая сажень в плечах – мужчина в полосатой пижаме. Он посмотрел на папу и выдал сакраментальную фразу:
– Ну, ну, молодой, а бороду отпустил!
Маршак посмотрел, сожалеюще качая головой, на мужчину и сказал ему:
– Как же вам не стыдно, ведь это наш гость с Кубы, Педро Сантьяго Пансарилья.
Лицо мужчины сделалось от растерянности глупым, а потом он сказал: «Фидель, Хрущев» – и стал пожимать своей правой рукой левую руку.
– Что ему перевести? – спросил Маршак. – Может быть, вы что-нибудь скажете нашему кубинскому другу?
– Да чего уж там говорить, – сказал мужчина. Он на секунду задумался, а потом его понесло: «Братский кубинский народ, воодушевленный решениями…» – и так на пять минут. Ну чтобы ему просто поговорить, так он – нет, с лозунгами, чтобы все было как положено. Он долго не мог выпутаться из своего приветствия, не зная, как бы его поэлегантнее закончить. Папа багровел от сдерживаемого смеха. Маршак посмотрел на него с укором и сказал:
– I like falsifications (я люблю фальсификации), – а потом шепнул на ухо: – Сейчас мы зашли уже слишком далеко, сейчас его нельзя обижать. Если он узнает, что вы русский – ужасно обидится.
Мужчина продолжал свое «краткое» выступление. Маршак его перебил и очень галантно, осторожно спросил:
– Вы знаете, вот товарищ кубинец – он журналист и писатель. И мы все – писатели. Мне интересно узнать: что читают ваши дети?
По папиным воспоминаниям, это получилось точно и здорово, как однажды у Чехова, который, когда к нему пришли дамы и стали щебетать о том, как они возмущены позицией турок по отношению к братской Болгарии, долго их слушал, а потом спросил: «Скажите, какой вы любите мармелад – фруктовый или молочный?» И вот тут-то дамы и стали теми очаровательными и прелестными, какими были на самом деле. Они принялись щебетать про мармелад, про то, как варить варенье, какую зелень класть в бульон. Чехов слушал их, качал головой и смотрел на них, улыбаясь. Так же вышло и тут: мужчина стал говорить о Чуковском, Маршаке, Михалкове, Гайдаре, жаловаться на то, что мало стали писать для детишек. «Так и скажите там Чуковскому с Маршаком, пускай больше пишут – заленились!»…
Когда проезжали мимо Генуэзской крепости, Маршак вышел из машины, долго смотрел на зубчатый венец крепости, опираясь на палочку, потом сказал:
– Я где-то недавно вычитал, что голоса людей не исчезают, а уходят наверх, к оболочке вокруг Земли и конденсируются там навечно, как наскальная живопись. Представьте себе, если ученые изобретут аппарат, который сможет улавливать эти голоса. Насколько тогда мы станем богаче и мудрее! Я бы хотел услышать голоса генуэзцев…
…Они возвращались в Коктебель в сумерках, машина неслась мимо виноградников, и вдруг Маршак, опершись подбородком на палку, стал читать Пушкина: «Чертог блистал…» Читал воодушевляясь, но все тем же тихим голосом, закрыв глаза, совершенно изумительно, так прочесть Пушкина не смог бы ни один мастер художественного слова. Потом замолчал, открыл глаза, и папа увидел в них слезы.
– Так писать никому больше не дано, – сказал Маршак, – даже непонятно, как можно так писать…
Когда Самуил Яковлевич вышел из машины – довольный, радостный, в длинном, чуть не до колен чесучовом пиджаке, смешно топорщащемся на нем, – и папа, проводив его до дома, вернулся в машину, их общий приятель сказал:
– Вы знаете, ведь у него рак…
А повесть, критикующая культ личности, вышла с большим трудом. Журнал «Знамя» ее печатать побоялся, «Мосфильм» расторг договор на сценарий – все ждали XXII съезда партии, опасаясь, что он будет объединительным – в ЦК снова войдут Молотов, Каганович и Маленков. Выручили «Юность» и, снова, Полевой.
Из дневника отца, 1963 год.
В «Юности» повесть всем очень понравилась, пошла от Мэри Озеровой к Сергею Преображенскому. Преображенский высказался «за», Розов – «за», Прилежаев – «за», Носов почему-то против. Словом, повесть загнали в набор. Номинально редактором тогда числился Катаев, хотя он уже – после эпизода со «Звездным билетом» в редакции не появлялся. Дискутировалась кандидатура нового редактора. Назначили Полевого, и он тут же попросил дать ему гранки первого и второго номеров, где начиналась моя повесть. Через три дня ко мне позвонила Мэри и попросила приехать к Борису Николаевичу. Когда я вошел, он, улыбчивый, поднялся, обнял меня и расцеловал. И было это до того приятно, добро, человечно, и до того по-настоящему, что меня чуть в слезу не потянуло. Человек он тонкий, это почувствовал и у него глаза заблестели. Говорил он тогда очень хорошие и добрые слова, очень спокойно. Сделал великолепные замечания. У меня там было, что Струмилин перед вылетом и посадкой надевал лайковые перчатки. Полевой засмеялся: «Мне раз пришлось надевать лайковые перчатки, когда я шел на прием к английской королеве, но они такие тонкие, что их практически только раз можно надеть, а потом россиянин с его грубой рукой наверняка разорвет. Так что, что касается лайковых перчаток, тут ты, Борода, загнул». Он еще сделал очень точное замечание о том, что летуны не говорят слово «кашне», а «шарф» в зимний период, потому что кашне – это беленькая шелковая полосочка, которая подкладывается под летнюю летную форму. Такая точность в мелочи дает достоверность в большом. За это я ему глубоко благодарен. Когда выбросили в цензуре три страницы, связанные с «Синей тетрадью» Казакевича и с разговором о Ленине в 1918 году и о Зиновьеве, – Борис Николаевич заботливо, вот уж точнее не скажешь – как отец, вписывал заново, сидя рядом со мной, строчки, которые бы прошли точно.
Смелая повесть не прошла незамеченной. В «Литературной газете» вышла статья «Чего хочет победитель», резко книгу критиковавшая. На этот раз, как ни странно, защита пришла из-за кордона. В июле 1962 года в «Посеве» появилась большущая статья А. Чемесовой под названием «Кто же виноват в сталинизме?».
Отрывок из статьи А. Чемесовой.
Кому много дано, с того много и спросится. Юлиан Семенов талантлив. Скажем больше, очень талантлив. Его герои живые люди. Они запоминаются. Важно отметить, что философия автора, его мировоззрение, которое он высказывает устами главного героя, ничего общего с коммунистической материалистической идеей не имеет. «Мимо Сикстинской Мадонны можно пройти так же, как мы проходим мимо обычных репродукций. Надо всегда уметь видеть и всегда хотеть видеть – только тогда и увидится. И еще: когда человек делает мужественное и доброе, он всегда должен знать, что все будет так, как он задумал»… Не удивительно, что именно это мировоззрение и вызвало наибольшие нападения со стороны советской критики. Потому что принявший это мировоззрение человек становится духовно свободным и не склонен мыслить пропагандистскими партийными трафаретами. Более того, он непременно будет с ними бороться, добиваясь правды такой, какой он ее видит и понимает. То, что Семенов, правда негромко и несмело, но заговорил о своем мировоззрении, отличном от общепринятого, – несомненная его заслуга. «На льду, под холодным и прекрасным небом, таким огромным, что чувствуешь себя крохотной частицей – и не частицей мироздания, связанной с окружающей природой, как в лесу или в поле, а инородной песчинкой, невесть каким ветром сюда занесенной, – здесь нельзя думать о смерти. Подумавший погибнет. Нужно очень верить в жизнь, чтобы чувствовать себя здесь, как равный с равным – и со льдом, и с небом». Семенов во льдах, где родилась его повесть, сделал над собой усилие, чтобы стать равным. Ему это удалось не до конца. Высвобождение духа приходит не сразу, но оно приходит, если верить, хотеть и делать.
«Орех не вырастает из шелухи, только из ядра», – скажет в 1965 году критик Лев Аннинский. «Шелуха слов – ядро смысла», – продолжит он и закончит логический ряд фразой поэта: «А те, что в сердце не имели Бога, раскалывались, как пустой орех». «Ядро ореха» – так он и назовет свою книгу, в которой даст точный и глубокий анализ творчества Рождественского, Аксенова, Трифонова, Шатрова, Семенова, Евтушенко, Арбузова, Володина, Сулейменова и еще нескольких, наиболее талантливых молодых авторов, составивших тогда ядро советской литературы.
Отрывок из книги Льва Аннинского «Ядро ореха».
Среди представителей прозы молчаливых Юлиан Семенов отличался наибольшим рационализмом. Он должен был сыграть в развитии этой прозы ту же роль, какую сыграл Аксенов в прозе исповедальной, – завершить ее поиски цельной программой. Элементы этой программы появились в первых же рассказах Семенова. «Я – это романтика! И не смейте, не смейте порочить мое понятие романтики!» – кричит один из его героев профессор Цыбенко. В понятие романтики вошло также положение: «Счастье творят не в крахмальных манишках, а в рваных ватниках и в унтах». Семенов всесторонне обрисовал эту программу в повести «При исполнении служебных обязанностей». Он, подобно автору «Коллег», демонстративно подчеркивает неприятие всего, что связано с культом личности. Как и Аксенов, он не любит «словес», и его мужественные герои говорят тихо, спокойно и сдержанно. Он терпеть не может явного благополучия и не очень-то доверяет «красавчикам» – ему больше по душе грубоватая нежность. Он литаврам предпочитает гитару, и песни у его героев «спокойные и мужественные», а всего лучше – это когда «мужчины поют колыбельную песню». Сильный мужчина – вот герой Семенова. Л главное для такого мужчины – «УВЕРЕННО ЖЕЛЛ ТЬ». Юлиан Семенов пишет эти слова вот так же крупно, вкладывая в них особый магнетизм: «Если желать вот так же СИЛЬНО И УВЕРЕННО – сбывается желаемое».
Это Аннинский подметил очень точно – об «умении уверенно желать» папа всегда говорил нам, дочерям, и писал в дневнике: «По-моему, всякое желание в общем-то сила материальная, но материальность желания еще не понята некоторыми учеными, не расчленена на управляемые атомы. И чем дольше я живу на свете – тем больше убеждаюсь в том, что собранное в кулак желание, подчинение самого себя желанию, если это желание естественно, угодно разуму, угодно добру, а не есть порождение злого умысла, должно сбыться».
Следующая вещь, задуманная папой, была, как и предыдущая, о людях сильных – работниках угрозыска, которых он любил и называл на западный лад – сыщиками. Рискуя жизнью, получая смехотворные зарплаты и премии за раскрытые преступления, эти люди умудрялись оставаться веселыми и честными. Решив писать детектив, ясное дело, начал со стажировки на Петровке. Выезжал на места преступлений, осматривал с оперативниками трупы, участвовал в операциях по захвату вооруженных бандитов. Криминальных хроник в те времена и в помине не было – «в стране победившего социализма преступлениям взяться неоткуда», реальная ситуация с преступностью тщательно скрывалась, поэтому увиденное стало для папы шоком. За себя он никогда не боялся, но за маму и четырехлетнюю дочь, которые оставались одни во время его частых командировок, испугался очень. В первый же после стажировки вечер решил установить дополнительную щеколду и так яростно забивал гвозди, что их острые концы вылезли с обратной стороны двери… Набрав достаточно материала, уехал с мамой в Гагры – писать.
Вспоминает академик Евгений Примаков.
Это были счастливые дни… Мы отдыхали в Гаграх, Юлиан вместе с твоей мамой, Степа Ситорян и я. Мы без жен были, поселились на одной даче. Юлиан тогда за двадцать дней «Петровку, 38» написал, – стучал на машинке, не пил, мы его и не утаскивали никуда – ему надо было сосредоточиться. Когда он закончил книгу, решили это отпраздновать и отправились вчетвером в Эшеры. Приехали в ресторан, застолье, выпили много, потом слово за слово с каким-то официантом, поспорили, в общем против нас поднялась соседняя компания и началась драка.
Твой отец с криком «Бериевцы!» перевернул на них стол, мама твоя дралась о-о-о-о, знаешь как?! Потом нас схватили, увидели у меня удостоверение корреспондента «Правды» – органа ЦК КПСС, испугались, но все-таки для страховки решили всех, кроме Кати, подержать в отделении с двумя милиционерами. В это время возле отделения притормозил автобус, набитый туристами-москвичами, и твой отец закричал: «Передайте на волю! (он умел играть, он при всем был еще и великий актер, он все время кого-то играл, в тот момент он играл узника, которого, схватив, заточили), что здесь арестован член редколлегии журнала „Москва“ Юлиан Семенов!» Из отделения нас, конечно, вскоре выпустили.
Повесть принесла папе известность и признание, как мастеру детективного жанра. Власть детективы не жаловала за то, что они заостряли внимание на официально несуществовавших трудностях, псевдоинтеллектуалы делали «фи», дескать, «разве это литература?». А отец считал, что жанр детектива – жанр серьезный и может быть очень поучителен. Важен не жанр, в котором книга написана, а затрагиваемые проблемы. «Детектив происходит от английского „to detect“ – изучать, выяснять, – говорил он, – и к этому жанру можно отнести и шекспировского Гамлета, где герой проводит расследование гибели отца, и „Преступление и наказание“, и „Бесов“ Достоевского…»
Отцовский герой Костенко, списанный им с гордости московского угрозыска, выпускника МГУ, полковника Вячеслава Кривенко, – умен, неравнодушен, добр и постоянно борется за справедливость, набивая себе шишки… Его друзья – ученые, журналисты, писатели, бывшие бандиты и воры в законе. Он помогает молодым уголовникам, пошедшим на разбой от нищеты и безысходности. Костенко не ходульный служака, а думающий, анализирующий, чувствующий и сочувствующий человек, жизненную позицию которого можно охарактеризовать одним словом – «милосердие». Костенко появится в следующей повести из милицейской серии «Огарева, 6», и в «Репортере», и в «Тайне Кутузовского проспекта», дающей версию гибели актрисы Зои Федоровой, и в «Противостоянии». Когда на «Ленфильме» по этой повести будут снимать фильм, где Костенко прекрасно сыграет Басилашвили, папа повесит в кабинете съемочной группы фотографии пятнадцати предателей родины, проживавших в Нью-Йорке. Американская администрация этих военных преступников Москве отдавать отказалась за давностью срока, но он считал, что у памяти срока давности быть не может.
Рано пришедшая известность отца ничуть не испортила. Он остался добрым весельчаком, любившим, в коротких перерывах между работой, посидеть с друзьями, ласково называвших его «Бородой». Во время застолий цитировал Пастернака, перефразировав его четверостишие: «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись, но надо ни единой долькой не отступаться от лица. И быть самим собою, только. Самим собою, до конца».
Вспоминает режиссер Никита Михалков.
Юлиан был планетой. Попадая в любую компанию, в любую атмосферу, он мгновенно становился магнитом для всех. Он фонтанировал рассказами, острым, веселым и едким диалогом. Будучи самим собой, он совершенно обезоруживал.
Быть самим собою для отца означало быть искренним, отстаивать свою позицию и не стараться во что бы то ни стало выглядеть «как все». Своеобычный, искрометный, живой, – не влезал он в навязываемые рамки. В нем не было даже намека на «совковость» – держался раскованно, носил старые джинсы, кожанку и упорно – бороду. Сейчас это кажется дикостью, но в те времена бородатым делали замечания на улице, прорабатывали на собраниях, но папа ее не сбривал. Во-первых, его абсолютно не интересовало сакраментальное «что люди скажут?», во-вторых, не любил бриться, в-третьих, в странствиях по Сибири, Северному полюсу и Дальнему Востоку бриться ему было недосуг. Ни в бороде, ни в манере одеваться не таился вызов окружающим, – поглощенный литературой, о внешности он не думал, в зеркало на себя не смотрел. «Хипповый» стиль был удобен для работы и путешествий – остальное папу не волновало. Хотя много позднее проницательная Алла Пугачева предположила, что на редкость добрый отец носил бороду, чтобы казаться чуточку жестоким…
Из дневника отца, 1963 год.
Кстати о бороде. Мороки она мне доставляла в жизни много. Недавно вообще был забавный случай. Мы с Катей возвращались из Тарусы. В вагон электрички вошел пьяный лейтенант. Он был красив гусарской усталой красотой, с голубыми, навыкате, бараньими глазами, с точеной строчечкой усов. Он с трудом влез в вагон со своими удочками. На реплику одного из сидевших рядом ночных пассажиров о том, что, слава богу, вагон свободный, иначе бы не влезли, лейтенант сказал хрипловатым голосом, блудливо улыбаясь:
– Свобода – это осознанная необходимость.
Я засмеялся. Он посмотрел на меня внимательно и сказал:
– У, гадюка, тоже под Юлиана Семенова работаешь!
Тут засмеялась Катя. Лейтенант оскорбился и спросил:
– Что, не слыхали про такого, что ли?
Катя ответила:
– Нет, не слыхали.
И лейтенант долго объяснял нам, что сделал Юлиан Семенов в литературе и как он к нему относится. В конце он все-таки посоветовал мне бороду побрить…
И вовсе не обидно, когда какой чужой
Поддаст под ребра локтем,
Забудет имя вовсе
И кликнет «бородой».
И даже не обидно,
Когда к нему с душой:
Есть истины, и видно —
Чужой – всегда чужой.
Но Боже, как обидно,
Когда товарищ мой
Забудет имя вовсе,
Грозится: «Ну, постой!»
Свои! Забудьте букву!
Свои, сначала смысл!
Не страшно улюлюканье,
Когда убита мысль…
Мы рождены понятием:
«Отдай себя – другим!»
Из братства – это братское,
На этом мы стоим!
И если скудоумный – по полочкам – субъект,
Про нашу Третьяковочку – как про большой объект,
Про нашего поэта – листает том анкет,
Про наше бабье лето – «такого вовсе нет!»
То это оскорбленье!
К барьеру! Пистолет!
И к черту наставленья,
Инструкции, сомненья,
Ответ изволь, ответ!
ВЫБОР
ЭЛЕГИЯ В ЧЕСТЬ Г. М. МАЛЕНКОВА
Мы – короли в отставке,
Мы бывшие вожди,
Торгуем нынче в лавке
И в солнце и в дожди…
(Надо же чем-то занять время. Мы не можем без труда. Мы привыкли чувствовать себя нужными обществу.)
Торгуем барахлишком
Залежанных идей,
Морковкой, репкой, книжкой,
Портретами блядей…
О будущем не думаем.
О прошлом лишь скорбим,
Мы тлеем, не горим…
Нам нет нужды обманывать себя!
Нам ложь, как правда,
Мы не виноваты…
Мы подданные бывшего царя,
Солдаты мы, солдаты, да – солдаты!
Боленепроницаемость!
Ура!
Как проявленье высшего порядка
Мы ценим верность,
Свежий лук из грядки и
Мирный разговор вокруг костра…
На горло своей песне наступив,
Нахмурив грозно губы или брови,
Нам чужды страхи болести и крови,
В нас – лейтмотив, не нужен нам мотив!
Мы – бывшие, мы – бывшие,
Нам нет пути назад,
Заткнитесь вы, решившие,
Что кто-то виноват
И в тупости,
И в глупости,
И в трусости,
И в лжи!
Иди сюда, не бойся!
На циркуль! Докажи!
Ага, не можешь, парень!
Молчишь, как блудный пес!
Лети ж назад, наш бывший. Могучий паровоз!
Но только – без оглядки!
Но только не спеши!
Мы ценим лук из грядки,
Мы ценим игры в прятки,
Мы, бывшие вожди!
Эти стихи папа написал после отставки Хрущева, когда стало ясно, что реабилитация Сталина – вопрос времени. Коба лично вносил имя Леонида Ильича в список кандидатов Политбюро и секретарей ЦК, одобрил решение о его избрании первым секретарем Запорожского и Днепропетровского обкомов – Брежневу тогда и сорока не исполнилось. Сталин знал, что такие, как Брежнев, не подведут. Без интеллигентских затей, исполнитель, достойная смена. Он не ошибся – Леонид Ильич встал во главе заговора против Хрущева, при котором вылетел и из Президиума ЦК КПСС, и из секретарей ЦК, прозябал на «низовке» – заместителем начальника политуправления флота, – о Сталине скорбел, Хрущева ненавидел…
Подготовку к празднованию 50-летия советской власти начали загодя: Екатерина Алексеевна Фурцева и ее заместитель по театрам Владыкин вызывали писателей и драматургов, интересуясь, как они готовятся к знаменательной дате, и сообщали, что Министерство культуры объявило конкурс на лучшее драматическое произведение. Им нужны были книги и пьесы о герое молодом, современном. Вызвали и отца, а он, видя, что подувший ветер перемен сменился застойным штилем и страна занавесилась тряпицами лозунгов, в которые не верили даже самые идейные, находился в крайне редком для него состоянии растерянности. «О каком современном герое может идти речь, если вновь угодна ложь?» – думал с тоской папа и все чаще ловил себя на мысли об отъезде…
Для него понятие родины ассоциировалось прежде всего с языком – русскую литературу знал досконально, наизусть цитировал страницы Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Радищева, Карамзина. Обожал бродить по букинистическим магазинам. Покупал подшивки дореволюционных журналов, старые книги, откапывал труды Бродского, Розанова, Бердяева. Путешествия любил страстно, но за кордоном начинал тосковать по живой русской речи.
Из письма маме. Венгрия, 1960-е годы.
Вот я и кончил работу, переехал из деревни в Будапешт. Смертельно хочу домой. Я так понимаю Алексея Толстого, который рвался в Россию после трех лет эмиграции. Я бы, конечно, не выдержал больше трех месяцев – или спился бы, или пустил себе пулю в височную область черепа. Послезавтра я вылетаю к вам.
Всякий раз, когда отец, сияющий, возвращался из-за границы, я допытывалась:
– Пася, ну почему ты так радуешься, ведь там лучше! (У меня тогда перед глазами стояли полки магазинов с фломастерами, пеналами, куклами, жвачками, маечками и прочей девчачьей радостью – земной рай, чего же еще желать?!)
– Лучше, – легко соглашался он, – зато у нас к кому ни обратишься – все тебе по-русски отвечают, а это, Кузьма, счастье.
Тогда этот ответ казался мне пропагандой, и только пожив за границей, я поняла, насколько отец был искренен. Он страшился ностальгии, но все-таки заговорил об отъезде с мамой. Та не выдерживала за границей и двух недель, всегда вспоминала возвращение из турпоездки по ухоженной ГДР. Пока поезд полз мимо аккуратных немецких домиков и полей, добротных польских угодий (по тщательно скошенной травке прыгали пасторальные зайчики), у нее ныло сердце, скорее бы Россия. Наконец – долгожданная граница и родной пейзаж. Покосившиеся домишки, кривые заборы, согбенные бабульки с кошелками на перроне, на кирпичной стене склада с выбитыми стеклами криво выведенная белой краской надпись: «Вперед – к победе коммунистического труда!» – а чуть подальше, такой же краской, короткие надписи анатомического характера. Мама ликовала: «Наконец дома!» Выслушав аргументы отца, она не ставила ультиматумы, а спросила: «Юлик, я понимаю, что здесь будет писать трудно, но для кого ты будешь писать там?» Папа задумался. Он не сомневался, что найдет за кордоном «рынок». Человек скромный, он все же отдавал себе отчет, что с его способностями, энергией, фантазией и английским семью прокормит. Но он вспомнил лица слушателей на конференциях и литературных вечерах – веселые, задумчивые, восторженные, ждущие, благодарные, заинтересованные. У него был феноменальный дар держать зал: никаких записей, полная раскованность и экспромт, – люди слушали завороженно, как дети, – и согласился, что таких читателей не найдет. «А я и подавно не смогу уехать, ты же меня знаешь… Подумай о Даше… Каково ей будет без отца?» Мама применила «запрещеночку» – отъезд без дочери для папы был немыслим. Он остался.
Видя, что наступают времена, когда нельзя будет говорить правду открыто, решил прятать ее между строк, прибегать к иносказательности. Рассказывал, что фамилия одного из первых русских диссидентов, жившего в девятнадцатом веке, была Печерин. Лермонтов поменял одну букву, и царская цензура к «Герою нашего времени» не придралась, а читатели поняли. В сгущавшейся атмосфере застоя отец читателя будоражил, наводил на размышления, заставлял думать. Историк по профессии, он оперировал фактами, не кликушествовал, не считал основоположниками всех несчастий большевиков. Он знал, что после недолгого периода новгородской демократии вся история России – это история тирании и смуты. Отца удивляли квасные патриоты, отказывавшиеся видеть связь между сталинизмом и отсутствием демократических традиций в дореволюционной России. Лакейское угадывание приближенными любого желания самодержца и слепое служение Сталину приведенных им к власти безликих и бессловесных исполнителей. Разве не похоже? И всегда и повсеместно – полное пренебрежение личностью. Обратившись к Далю, он не нашел о личности практически ничего: «Личность – отдельное существо». Да приведенные ниже две пословицы: «Дело не в личности, а в наличности». «Служба с личностью несовместима». Все. В преемственности рабской психологии, столь угодной любой российской власти, и пренебрежении личностью видел отец первопричину большей части российских бед. Он любил Екклесиаста: «Что было, то и будет, и что творилось, то и творится, и нет ничего нового под солнцем. Бывает, скажут о чем-то: смотри, это новость. А уже было оно в веках, что прошли до нас». В проекции на нашу историю библейская мудрость приобретала пронзительно-грустный смысл.
От фурцевского предложения писать героя сегодняшнего дня папа тогда элегантно отказался, записав в дневнике: «Нельзя быть Иванами, не помнящими родства. По-моему, нам следует ставить фильмы и пьесы и писать романы о мировой революционности, начиная с Христа, через Бруно, Галилея, Кромвеля, Робеспьера, Халтурина, буров, сербов, турок и болгар, через Кемаля Ататюрка к нашим революционерам Гражданской войны. Если бы сейчас по-настоящему покопаться в архивах – в каждом областном архиве есть поразительные по своей трагичности и в то же время оптимистичности фонды, где записаны прошения крестьянских ходоков, жалобы и дарственные Красной гвардии; покопавшись в архивах революции и первых лет Советской власти, можно было бы сделать поразительные произведения…»
Отец огорчался, когда слышал: «Революцию сделали немецкие шпионы и масоны!» Он считал, что так говорить может только тот, кто квалифицирует русский народ универсальным дураком, позволяющим все за себя решать. А шараханья думцев, невесть что творившая охранка, смерть Столыпина, неразумные действия императрицы, Распутин, назначение на ключевые посты бездарей и безумцев, как Протопопов, страшные перебои с хлебом – кто в этом виноват, тоже масоны?
Канун революций 1905-го и 1917-го, премьерство Столыпина, первые послереволюционные годы – весь тот бурлящий, страшный период отца интересовал, и он не раз к нему возвращался в своих произведениях. Он не прославлял эпоху, а тщательно изучив характеры и события и найдя в противоборствующих лагерях достойные, значительные личности, рассказывал о них – с одинаковой симпатией и увлечением. В общей сложности он выпустил семь исторических романов о том времени: два из серии о Штирлице, два из серии «Версии» – о Столыпине и Гучкове, три из серии «Горение» и восьмой роман – «Аукцион», во многом автобиографический, но с ретроспективами в начало века.
Документ для отца был святыней. «Документ – это свидетель, это правда, это информация», – писал он. Еще в начале 60-х поняв, что поколение 2000 года будет поколением компьютеров, скоростей и информации, считал, что чем точнее писатель станет следовать за документом и правдой исторических лиц, тем лучше будет для читателя, потому что человек знающий – не глух и не нем.
«Информация литературы – категория чувственная, это некий сгусток знания и эмоции, самовыражение субъекта, живущего в мире объективных данностей, которые должно понять, проанализировать и затем обобщить в образ», – писал он и рассказывал, как математики сделали опыт – просчитали на ЭВМ процент информации, содержащийся в произведениях нескольких современных поэтов, считавших себя непонятыми гениями, и Пушкина. У современников уровень информации был близок к нулю, у Пушкина – достигал 100 процентов… «Память – коварная старуха, – говорил отец, – на одной памяти и на одном том, что когда-то это видел – не уедешь. Алексей Толстой не видел Петра Первого, но он умел работать в архивах и любил в них работать».
Перед каждой новой книгой папа читал огромное количество научных трудов, мемуаров, сидел в библиотеках, работал в архивах по стране. И поползли слухи «доброжелателей»: «Семенов – работник КГБ, эвон сколько документов секретных приводит!»… О папиных связях с комитетом говорили да и сейчас говорят те, кому не лень, с редкой уверенностью. Разговоры эти напоминают диалог из романа Александра Червинского «Шишкин лес»:
– Николкин при Сталине при всех стучал.