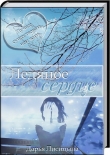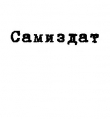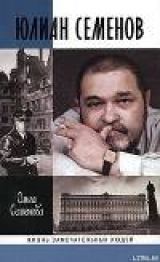
Текст книги "Юлиан Семенов"
Автор книги: Ольга Семенова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
За помощью обращался к Таточке.
Из письма Н. П. Кончаловской.
Очень прошу тебя всячески поддерживать в Ольге тягу к сочинительству. Поверь, я ее чувствую точно, и себя в ней вижу, и вижу часть Катюши: там борение идет, просто-таки по Пастернаку: «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой!» Помоги ей поверить в неизбежность творчества, не бойся ее хвалить, поверь мне, пожалуйста.
Добрая, мудрая Таточка… Хорошо помню, она мне тогда подарила восхитительный, с пластиковой обложкой в мелкий цветочек, дневник и на заглавном листе написала: «Моей любимой Ольгушке, чтобы она записывала в этот журнальчик истории про своих четвероногих друзей, которые порой бывают значительно лучше двуногих – спесивых и гордых».
Родители не развелись, просто приняли решение как можно реже встречаться, чтобы избежать ненужных конфликтов. Тогда отец и начал подыскивать в Москве творческую мастерскую – архив, где можно остановиться, попить чаю между встречами в издательствах и на киностудиях, положить рукописи. Нашел полуподвальное помещение. Через два месяца прорвало канализацию. Книги и рукописи с правкой плавали в грязной воде. Перебрался на чердак. Там регулярно текла крыша. В конечном итоге обосновался в маленькой кооперативной двухкомнатной квартирке во 2-м Беговом проезде. Красные обои «под кирпич», на стенах фотографии, маски, копья, пистолеты. Большущий письменный стол карельской березы, узенькая кровать под пледом. Отец умел обживаться и делал это невероятно быстро. Даже номеру в отеле за один вечер придавал экзотическо-творческий вид: бережно раскладывал рукописи на столе, доставал печатную машинку и стопку чистой бумаги, раскидывал по полу прочитанные газеты и журналы, складывал непрочитанные возле кровати и ставил на видном месте для друзей пару бутылок смирновки или виски…
Наши отношения с папой не изменились. Он с соломоновской мудростью смог уберечь нас от груза «взрослых» проблем. Мы ездили с ним на дачу, путешествовали, заходили на Беговой проезд. Как же он радовался нам, с какой гордостью представлял знакомым писателям и журналистам!
Жил отец кое-как. Если мы прибирали – хорошо. Если нет – по квартире скапливались пустые чашки из-под кофе и набитые окурками пепельницы, в раковине – грязная посуда. Он мог бы найти домработницу, но то ли боялся, что она перепутает его рукописи, то ли просто не думал о минимальном комфорте. На маленькой своей кухоньке дарил нам, довольно улыбаясь, первые украшения на дни рождения: сапфировые колечко и серьги – мне, бриллиантовое кольцо – Дарье. Он любил покупать нам драгоценности, и очень быстро их накопилась целая шкатулка. Он баловал нас, как мало кто из родителей балует детей. В этом не было соревнования с мамой (которая могла ухнуть все сертификаты, полученные от папы, на покупку мне, одиннадцатилетней, сразу двух пар дорогущих сапог из «Березки»), просто никого дороже нас у отца на свете не было.
Женщины… Их в его жизни появлялось немало. На несколько дней, недель, месяцев, даже лет. Они звонили, отправляли письма, получали право остаться подле, а получив его, начинали требовать большего. Лишь любовь довольствуется малым, тщеславие же наше и гордыня ненасытны. Никто из них не думал об отце, лишь о себе. Папа все понимал и на все закрывал глаза, но разве от этого меньше становилась боль?
В доме с постоянно трезвонившим телефоном, повсюду окруженный людьми, отец был абсолютно, отчаянно одинок.
1
Больное одиночество мое
Живет вокруг меня.
Как истина. Отчаянье, как страх,
Как нежность – безысходное,
И как напоминанье,
Особенно когда шумит и бьет прибой —
Оно во мне, оно всегда со мной…
Оно пришло неведомо когда,
Локтями всех тихонько растолкало,
Сначала редко о себе напоминало,
А нынче, как шумливый тамада,
Бесшумно мною правит,
И бесславит…
2
Я всем и каждому внимаю,
Но ничего не понимаю
Про обреченность бытия,
В котором он, она и я.
Зачем нам всем глаза даны?
Чтобы смотреть в них беспрерывно,
Все понимая неразрывно,
На что владельцы их годны.
Зачем всем руки нам даны?
Чтоб прикасаться кожей пальцев
К щекам случайных постояльцев,
Которые нам неверны.
Зачем даны нам всем сердца?
Лишь только для вращенья крови.
…С годами истина суровей
И четче облик подлеца.
ПИЦУНДА
С середины 70-х папа часто ездил с нами в Абхазию, в Пицунду. В первый же день номер забивался знакомыми абхазцами, приглашавшими в гости. Папин любимец – молоденький бармен Алябрик (девятилетней я называла его «дядя Кораблик») – по вечерам виртуозно готовил коктейли в грохочущем музыкой баре на последнем этаже гостиницы, а днем возил папу по местным «уважаемым людям». Ездил с бешеной скоростью, отец на него кричал: «Алябрик, разобьешься, не кидайся с кинжалом на горячее говно!» Но Алябрик лишь смеялся, сияя золотыми, по моде тех лет, зубами. Впоследствии он попал в страшную аварию и чудом не остался инвалидом.
Безмолвные женщины в черных платьях накрывают в саду столы: мамалыга, хачапури, жареное мясо, зелень. Палит солнце, трещат цикады, в горячем воздухе разлит горьковатый запах костра. Принесены из погребов плетеные бутылки с вином, расставлены дубовые скамьи, начинаются застолье, тосты. Гости, таков неписаный закон края, не имеют права встать из-за стола до поздней ночи, пока пир не будет окончен. (Вышел по нужде – значит, слаб, не мужчина.)
Мы возвращаемся в гостиницу поздно. В ледяной горной речушке Бзыбь плещется серебристая форель, трещат цикады, ветер пахнет смолой, на море – штиль, дрожит на воде лунная дорожка, а вокруг желтых фонарей на набережной водят хороводы белые мотыльки…
Поправши ужас бытия
Игрой, застольем иль любовью,
Не холодейте только кровью,
Мои умершие друзья.
Мы соберем по жизни тризну,
Вино поставим, сыр, хичин,
Ядрено пахнущий овин
Напомнит нам тепло Отчизны.
Мы стол начнем; кто тамада,
Поднимет первый тост за память,
Которая нас не оставит,
Поскольку мы трезвы – пока.
Все, кто ушли, в живых живут,
Те, кто остался, помнят павших.
Когда-то с нами начинавших,
Мы здесь их ждем; они придут.
Они тихонько подпоют,
Когда начнет свое Высоцкий,
Светлов, Твардовский, Заболоцкий,
А кончим пир – они уйдут.
Не забывайте утром сны.
Приходим к вам мы поздней ночью,
Храните нас в себе воочью,
Как слезы раненой сосны.
Вспоминается маленькое кафе среди сосен. Широченные деревянные столы, табуретки-пеньки, поднимающийся среди желтых стволов и теряющийся в голубизне неба дымок – это готовят на углях крепкий кофе. Папа пил по несколько чашек, окруженный толпой читателей, ловивших каждое его слово. Несмотря на популярность, он никогда не требовал к себе особого отношения. Узнавали – с удовольствием подписывал книжку, обменивался добрыми словами. Не узнавали – ну и бог с ним. Даже когда сталкивался с откровенным хамством – принимал легко и спокойно. Ни намека на звездную болезнь. Простота и демократичность.
Зайдя как-то в Пицунде в парикмахерскую, спросил молоденькую девушку-мастера, не сможет ли она ему подправить бороду.
– Не видите разве, мужчина, занята я! – зло ответила девица, нервно щелкая ножницами в опасной близости от ушей клиента.
– А я подожду, – дружелюбно ответил папа.
Он терпеливо ждал, пока барышня закончит работу, – и тут подошли два клиента по записи. Поняв, что девица подстричь его не могла, только зря продержала, папа вежливо попросил разрешения взять ножницы. Ловко подравнял себе бороду, заплатил за использование инструмента и откланялся. Никакого раздражения – доброжелательность и юмор. Понимая, что не люди, а система, на корню задавившая заинтересованность и личную инициативу, виновата в повсеместном хамстве, отец начал все больше говорить в своих книгах о необходимости дать людям возможность зарабатывать, применяя на деле 17-ю статью конституции, и часто повторял: «Советский сервис ненавязчив».
Экзотику отец любил как неотъемлемую часть романтики, а что может быть экзотичнее охоты на акулу и дегустирования супа из нее?
На лов акулы мы однажды и отправились. В Черном море водится маленькая акулка под названием катран – длиной с метр, для человека неопасная, но мы с сестрой накануне все-таки волновались. Обмазавшись кремами, надев панамы и вооружившись спиннингами, залезла наша троица ранним утром в лодку, папа энергично взялся за весла, и через двадцать минут берег превратился в узенькую зелено-желтую полосочку.
Очень скоро отец поймал симпатичную рыбку. «Пойдет на наживку! – решительно сказал он. – Акулы любят рыбу больше, чем червей», – и насадил ее на крючок. Вскоре клюнуло у меня – добычу постигла та же участь. Последующие рыбешки папу вообще не волновали, азартный рыбак, он ждал акулу! Время шло к полудню, солнце палило нещадно, обгоревшая спина противно щипала. Красно-коричневый от загара, с мокрым от жары носом папа был настроен решительно: «Без акулы мы на сушу не вернемся!» Как я уже говорила, отцовский герой из повести «При исполнении служебных обязанностей» убежден, что если чего-то хочешь добиться, то этого надо уверенно желать, и желаемое сбудется. Папа акулу желал настолько уверенно, что случилось невероятное – леска на его спиннинге сильно дернулась и стала ходить из стороны в сторону. С победным криком «акула!» отец яростно наматывал леску и через несколько секунд из бирюзово-зеленой толщи воды показался зло дергавшийся на крючке блестящий катран с длинной, хищной, совсем акульей мордой. Резким движением отец вытащил его из воды и победно швырнул на мокрое дно лодки, где слабо били хвостами засыпавшие рыбешки. «Кузьмы! – радостно прогремел он. – Вас ждет такое пиршество, которого вы никогда еще не видели!» Выйдя на берег, немедленно отправился с добычей на гостиничную кухню и попросил испуганных поваров акулу сварить, а сам стал обзванивать знакомых абхазцев, приглашая их на сказочное угощение. Когда те приехали и узнали, что папа для них приготовил, то в ужасе отказались: «Что вы, Юлян Семенч, это же нэлзя кушть! Отравитэсь!» Втроем мы уселись за стол и, не обращая внимания на похоронные физиономии и горестные комментарии абхазцев, уверенных, что акула ядовита и это последняя наша трапеза, с удовольствием катрана умяли – мясо его было жирно и нежно.
Отвезя нас в Москву, папа вернулся в Пицунду и… затосковал.
Из письма дочерям, конец 1970-х годов.
Дорогие доченьки!
Дорогая Катюша!
Все, конечно, отлично, и так же цикады трещат, и море пока еще теплое, и Алябрик – душенька, и сосны шумят, но только сердце щемит, ибо грустно мне здесь без Дунечки и Ольгуси, все иное – лишенное нашего августовского смысла, Оленькиных слез по поводу купаний, атиных[15]15
Атей в детстве я называла Дарью, и эта кличка к ней «прилипла».
[Закрыть] пароксизмов дрянного настроения, совместных наших застолий, споров о необходимости атиного загара, Ольгиных зажмуриваний в воде…
Мне невероятно грустно без вас, так грустно, что хочется сесть за работу, а сил нет, да и машинка плоха, не говоря уже о мыслях: они подобны морзе – точка – тире – точка, сплошная рвань, уныние и тягомотие.
Что еще? Есть несколько славных мужиков из Союза, Ким Селихов, новый секретарь Москвы – ребята славные.
А я пойду ужинать – тефтели и вермишель. Напишите мне. Целую вас мои золотые.
Юлиан Семенов.
В тот период отец написал шпионскую повесть, основанную на реальных событиях, «ТАСС уполномочен заявить». Обычно ему приходилось работать в архивах, но тут повезло: все главные участники той истории были живы. Главным героем повести стал блестящий контрразведчик Славин. Не думаю, что открою государственную тайну, если скажу, что на самом деле фамилия разведчика была Кеворков. Он представил уникальные материалы по операции, на основе которых отец лихо закрутил сюжет, многое по обыкновению изменив и переделав. Вячеслав Иванович – для нас и Славочка – для папы, он вошел в дом как консультант повести, но быстро стал близким папиным другом. Обаятельный, умный, без акцента говорящий по-английски и по-немецки, всегда пахнущий духами, с ослепительной улыбкой, он поражал абсолютно европейским стилем. Приехать к нему на дачу, где его обаятельная подруга готовила какие-то невиданные западные блюда, было для нас с сестрой событием, – казалось, что мы не в Подмосковье, а где-то в предместье Лондона. Да это и неудивительно, ведь Вячеслав Иванович долгие годы провел за границей, под чужим именем, с тщательно продуманной легендой. Любимым его занятием на «вражеской территории» в свободное время было плавание в океане. Блестящий спортсмен, он заплывал на два-три километра. Однажды, приехав ночью в новое место, с утра пораньше предпринял традиционный заплыв. Повернувшись на спину, любовался голубизной неба в открытом океане, как неожиданно его покой нарушило появление черной, как смоль, рожицы молодого негритенка. Тот сидел в лодке и умильно улыбался.
– Джентльмен ждет, когда клюнет? – скаля белые зубы, озорно спросил он.
– Кто клюнет и кого? – удивился Вячеслав Иванович.
– Джентльмен, наверное, недавно приехал и не знает местных новостей?
– Точно.
– В окрестностях появилась акула-людоед и сожрала вчера несчастного туриста – второго по счету за четыре дня. Если джентльмену «повезет» и акула клюнет – он будет третьим.
Славный негритенок вывез Вячеслава Ивановича на берег, и он эту историю нам со смехом рассказал перед просмотром у него на даче нашумевших фильмов об акулах «Челюсти» и «Орка»… Через несколько лет, когда ему уже было за пятьдесят, он женился на прелестной молодой женщине и у них родилась дочка…
Закончив «ТАСС уполномочен заявить», папа ждал лишь зеленого света Андропова, – такого рода произведение должно было пройти через его руки. Было лето, и отец повез нас в Крым. По дороге в Коктебель остановился на недельку в небольшом винодельческом совхозе, у знакомого директора. Вернувшись с моря, собирались сесть за стол, и тут тревожно зазвонил междугородний телефон. Директор поднял трубку и услышал строгий голос: «Комитет госбезопасности. Положите трубку!» Так повторялось три раза. Помощник Андропова прозванивался минут десять, находя, что связь недостаточно хороша. Когда директор в четвертый раз боязливо, как ядовитую змею, взял трубку и, судорожно вздохнув, тихо сказал: «Алле», – попросили Семенова. Юрий Владимирович повестью был доволен, сделал ряд незначительных замечаний и дал добро на публикацию. Но директора этот звонок травмировал. В те времена комитета крепко боялись. За обедом он, как заклинивший робот, без конца разливал по рюмочкам, произнося один и тот же тост: «Выпьем за нашу Родину, таку большую, таку красивую!»…
После выхода в свет «ТАСС уполномочен заявить» доброжелатели с удвоенным энтузиазмом повели разговоры о том, что Юлиан Семенов – агент КГБ. Что любопытно, папа и не думал никого ни в чем разубеждать. Даже наоборот, всячески эти слухи поддерживал и культивировал. Думается, в этом был некий элемент игры. Отец обожал играть.
Вспоминает генерал-майор КГБ в отставке В. И. Кеворков.
Юлиан знал многих людей из разведки: Удилова, Боярова, меня, моего шефа – нелегала Норманна Бородина еще со времен работы над «Семнадцатью мгновениями весны». Общался с нами очень много. Все знали, что он пользовался какими-то материалами, но что у него могли быть просто человеческие отношения с по-человечески мыслящими людьми, никому в голову не приходило. Отсюда и возникали слухи: «Агент? Не агент? Кто он такой?» По поводу того, был ли Юлиан агентом, расскажу такую историю. Однажды расстроенный Бояров говорит Юлиану, что накануне на каком-то приеме к нему обратилась дама: «Виталий Константинович, мы вот тут прочли новую вещь Юлиана Семенова. Это же ясно, что он – ваш агент!» Бояров, человек суровый, отрезал: «Сама постановка вопроса некорректна, и я не хотел бы на эту тему говорить». И тут же Юлиану предлагает: «Давай я, как заместитель руководителя контрразведки, завтра выступлю по телевидению и скажу, что Юлиан Семенов никогда нашим агентом не был». Юлиан вскочил и говорит: «Ради бога, только не это! Если хочешь, скажи, что Семенов глубоко зашифрованный агент, выполняющий какие-то сверхсекретные суперзадания, которые никому не известны. Очень прошу меня не дискредитировать».
В ГЕРМАНИИ
Зимой 1979 года отец стал спецкором «Литературной газеты» по Западной Европе и уехал в ФРГ. Молниеносно освоившись, начал писать увлекательные статьи о выставках, политической жизни, ярких личностях – его интересовало все. Немцев сразу полюбил за умение работать и железную дисциплину, но и соплеменников не забывал, компенсируя тоску по России тесным с ними общением.
Вспоминает актер Лев Дуров.
Мы встретились в тот раз в Германии, на Мюнстерском фестивале. Юлиан возник резко, сразу после нашего приземления в аэропорту, и тут же, «взяв в плен» меня и Леню Каневского, стал рассказывать о городе, о своей корреспондентской работе. Рассказывал интересно, перебивая свой рассказ вопросами о делах и планах нашего театра. Юлиан снимал отдельный дом – странное бетонное здание, этакое бунгало, куда он нас и повез. Там висели замечательные картины его дочери Дарьи, о творчестве которой мы выслушали увлекательную лекцию. Ему было мало, что мы безоговорочно признали Дарью потрясающим художником. Он договорился до того, что все импрессионисты пошли от Дарьи. И хотя Юлиан рассказывал чрезвычайно увлеченно, в то же время он умудрился разжечь камин, поджарить там какие-то сосиски и… подготовить выпивку.
Леня Каневский, думая, что Юлиан богатый человек, сделал попытку его «расколоть»: «Ой, говорят, здесь в магазинах есть замечательные плащи, а у меня всего 70 марок». Юлиан без паузы, продолжая жарить сосиски, сказал: «Леня! Продай Родину, добавь 70 марок и купи себе плащ».
А когда Юлиан показывал нам Бонн – городские достопримечательности и музеи, оказалось, что он прекрасный знаток искусства и живописи. Я был потрясен его эрудицией и гордился наличием столь грандиозного гида.
В тот период отец познакомился с двумя удивительными людьми: Альбертом Штайном и бароном Фальц-Фейном.
Альберт Штайн, бывший немецкий солдат, прошел всю войну, был тяжело ранен, попал в плен, вернувшись домой, в одно прекрасное утро сказал: «Мы, немцы, виноваты перед русскими. Все вместе и каждый в отдельности. И я виноват, и хочу искупить свою вину». Он начал собирать документы, подтверждавшие хищения нацистами огромного количества культурных ценностей из российских музеев, и требовал эти ценности Союзу отдать. Соседи принимали его за безумца, друзья тревожно заглядывали в глаза: «Дорогой Альберт, подумай о себе, о сыновьях, пусть русские сами разбираются со своими иконами и картинами». Штайн был неукротим, продолжая поиск и добиваясь справедливости. Отец написал о нем статью «Гражданин ФРГ из деревни Штелле», и они подружились.
О бароне отец узнал случайно. На Сотби в Женеве ему сказали, что есть, мол, такой состоятельный господин из Лихтенштейна, собирает русские картины и архивы. Барон – из рода Епанчиных по матери, Фальц-Фейнов по отцу. Их близкими родственниками были Достоевский и Набоков. Родился он в 1912 году в селе Гавриловка на берегу Днепра в имении Аскания-Нова, впоследствии ставшим заповедником. В 1917 году оказался с родителями за границей. Принц Лихтенштейна, знавший и ценивший эту семью, подарил им надел земли в почетной близости от своего замка: «Вот подрастет сын, сделает состояние и построит здесь дом – будем рады соседству». И барон (редкий случай для первой волны эмиграции) сделал-таки большое состояние, открыв магазин сувениров и пункт обмена валюты. На дожидавшемся его участке земли построил просторную виллу, назвав ее «Аскания-Нова». С годами заполнил ее бесценными полотнами русских мастеров и архивами, купленными на аукционах. Первый дар России, сделанный бароном, был уникален: часть библиотеки Дягилева – Лифаря; затем архив Соколова, хранивший тайну расстрела царской семьи; потом портрет Потемкина для Воронцовского дворца. Папа приехал знакомиться к барону в Лихтенштейн, и они стали друзьями.
Вспоминает барон Эдуард Фальц-Фейн.
Юлиан часто приезжал ко мне в Лихтенштейн, места эти он обожал – никто его здесь не беспокоил телефонными звонками, не действовал на нервы. Я с утра уходил в офис, он весь день писал. Вначале я его приглашал в свободное время поработать со мной в саду, но он не отрывался от пишущей машинки. Здесь он начал свою книгу «Лицом к лицу». Здесь, в Вадуце, ему пришла идея создать газету «Совершенно секретно». Как-то вечером, за водочкой (мне-то мама алкоголь употреблять запретила, так я ее никогда не пил, а Юлиан любил), он мне говорит: «Эдуард, я мечтаю основать газету, в которой можно было бы публиковать секретные архивные материалы. Большинство из них по истечении определенного срока – тридцати, пятидесяти лет – рассекречивают. Представляешь, как такая газета была бы для всех интересна!» Так и получилось.
Но это произошло несколько лет спустя, а тогда у папы возникла идея создать Комитет за честное отношение к произведениям русской культуры, оказавшимся на Западе. Его давно волновала судьба уникальных русских архивов, картин и книг.
Из статьи отца.
Одни видят в русском искусстве явление, достойное созерцания, преклонения. Говорю так не потому только, что речь идет о культурном наследии моего Отечества, но и потому, что на Западе прекрасно понимают: без Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманинова, Сергея Сергеевича Прокофьева, Игоря Федоровича Стравинского современной музыки быть не может. Как не может быть современной живописи без Врубеля или Кандинского, Шагала или Малевича. А театра – без Фокина и Нижинского, Дягилева и Карсавиной. Так вот, одни видят в этом явление, а другие в явлении видят деньги, которые туда можно вложить и получить прибыль, палец о палец не ударив. Это если рассечь по одной плоскости.
Есть и другое рассечение. Первые считают, что произведения русской культуры суть национальное достояние и должны быть возвращены, как память; другие же полагают, что вправе лишить народ и достояния и памяти. Авось, забудут, а ежели забудут, то за беспамятство ударим, еще раз докажем: нет пророка. Но вот беда – не забываем; чтим и бережем от забвения.
О своих планах отец рассказал Таточке.
Из письма Н. П. Кончаловской.
Я тут начал поиск картинных галерей Киева и Харькова, украденных нацистами. Дело это чуть рискованное, но необходимое. На днях перешлю Сырокомскому один материал – попробуй быть моим экспертом. И попроси украинцев подобрать русский или украинский каталог похищенных картин – их там более 300!!! Вот бы вернуть хоть часть, а?
В основанный по инициативе отца комитет вошли, помимо барона и Штайна, Жорж Сименон, Джеймс Олдридж и Марк Шагал. День, когда Шагал дал свое согласие, я помню очень хорошо, потому что приехала к папе на каникулы и он взял меня с собой.
Юг Франции, городок Сан-Поль де Ване, лето, полуденный зной. Воздух напоен пронзительным ароматом трав и цветов, дорожка, извивающаяся между кустарниками, ведет к большому светлому дому Шагала. Живописец, барон и отец сидят за столом – двери в сад открыты, поют птицы, пляшут солнечные зайчики по мраморному полу и высокому потолку, и висят на стенах огромные, в человеческий рост картины Шагала, и каждая поражает бесконечностью толкований. В разговоре отец обмолвился о своем возрасте, дескать, много уже. Шагал, чуть заметно улыбнувшись, поинтересовался:
– Сколько же?
– Сорок девять, – ответил отец.
– А мне на двадцать больше, – неохотно признался барон (он подкрашивал волосы, ездил на гоночном «мерседесе» и уверял знакомых девушек, что недавно отпраздновал свое тридцатидевятилетие).
Шагал улыбнулся уже открыто:
– Мальчишки вы.
Только вот глаза у него так и остались печальными. Живописцу тогда было девяносто два, и он писал и хотел успеть сделать все, что задумал, и понимал, что это невозможно: только сытая посредственность прикидывает, как бы убить еще один день, а гению времени всегда не хватает. Говорили долго. И о том, как начинал, еще в начале века Марк Григорьевич в России, и о том, как было потом, на Западе. Фальц-Фейн рассказывал о поисках культурных ценностей, похищенных гитлеровцами, о Штайне. Отец говорил о России, о той России, начала 80-х – помпезной, нищей и все-таки прекрасной, как всегда. А Шагал, о котором в энциклопедическом словаре сказано: «Французский живописец, автор фантастических иррациональных произведений», сухонький, смуглолицый от жаркого солнца, с седыми, но подетски беззащитно взъерошенными волосами, слушал жадно, как ребенок – сказку. Глядя на него, я вспомнила одно интервью с Барышниковым. Элегантный, по-королевски достойный, он сказал: «Здесь у меня работа, дом, друзья, все. В России я оставил только маму, собаку и воздух»… Рядом с Шагалом сидела его жена – Валентина Бродская – хрупкая седая дама. Они поженились в 1952 году. Именно тогда шестидесятисемилетний живописец начал серию библейских сюжетов, состоящую из семнадцати полотен. Вначале не решался (страх не успеть!), она была уверена в его силах и не ошиблась: ныне эти шедевры выставлены в специально для них выстроенном национальном музее в Ницце. Подле Шагала была и его рослая, статная, рыжеволосая, жизнерадостная дочь от первого брака. Замуж она не вышла, жила с родителями, растворившись (папино слово) в творчестве отца.
Я была слишком мала, чтобы ощутить всю необратимость, а значит, трагичность времени, но подумала: «Что с ней будет потом?» А возвращаясь в маленький отельчик недалеко от Ниццы, где мы остановились, спросила об этом.
– Что будет потом? – переспросил папа.
– Да, как она сможет жить совсем одна? Что останется? Одиночество – это же так страшно.
– Нет, – ответил отец, – страшно не будет. У нее останутся воспоминания. Если проживать все снова и снова, одиночество не подступится. Запомни, Кузьма, – пока у нас есть память – у нас есть все.
Есть возраст? Есть. А если «нет»?
Отвергни однозначность истин,
Тебе сегодня столько лет,
Как в Безинги подводных быстрин.
Есть возраст? Нет. А если «да»?
Но в Безинги бурлит вода,
Она умчит тебя туда,
Куда не каждому повадно,
Но ощущение отрадно:
Прозрачна с выси быстрина.
Я сам себя пугаю тем,
Как промелькнули мои годы,
Но в Безинги бушуют воды
Обильем лермонтовских тем,
Оставим их, пожалуй, тем,
Кто катит с круч за нами следом,
Ответ на мой вопрос неведом
Ни им, ни нам. И насовсем
Ничто на свете невозможно,
Хрестоматийность истин ложна;
Все, что прошло, придет затем.
Перед возвращением из Ниццы в Бонн мы с папой съездили в русскую церковь и на русское кладбище. Отец молчаливо водил меня от могилы к могиле, и, читая надписи на скромных табличках, я в свои тринадцать лет поняла, что место это – средоточие самых блестящих имен и трагических судеб России.
…Первой совместной акцией барона и папы стала покупка уникального гобелена с изображением Николая Второго с семьей. История этой покупки очень интересна.
Вспоминает барон Эдуард Фальц-Фейн.
В один прекрасный день Юлиан звонит мне в Вадуц и говорит: «Эдуард, на аукционе во Франкфурте продается уникальный гобелен – портрет царской семьи. Подарок персидского шаха Николаю Второму к трехсотлетию дома Романовых. Ты обязан его купить!»
В тот момент я не мог выехать во Франкфурт. И тогда Юлиан предложил торговаться на аукционе за меня, держа со мной связь по телефону. Я, конечно, согласился. И Юлиан купил гобелен. Так, благодаря ему, гобелен вернулся «домой», в Крым, в Ливадийский дворец.
А однажды Юлиан сказал мне: «Эдуард, ты будешь героем России, если поможешь перевезти прах Шаляпина из Парижа на Родину. Ты во Франции учился, связи у тебя там большие. Давай действовать». А русские уже вели до этого переговоры с французским правительством. Безрезультатно. Тогдашнего мэра Жака Ширака я знал. Но вначале было необходимо получить письменное согласие наследников. Мы с Юлианом позвонили моему давнему другу – сыну Шаляпина, Федору Федоровичу, жившему в Риме. Он приехал, но разрешения давать не хотел. Целую неделю мы с Юлианом его уверяли, убеждали, забрасывали аргументами.
На фотографиях той поры я вижу папу и барона, что-то энергично доказывающих худому, с длинным печальным лицом Федору Федоровичу.
В перерывах между дебатами они по очереди готовили ужин. Папа с бароном больше всего любили макароны по-флотски, делали их мастерски. Раз барон поджарил бифштексы, а сковородку бросил в раковину. Федор Федорович, отвечавший в тот день за мытье посуды, грустно на сковородку посмотрел: «Как досадно, Эдуард выбрасывает столько замечательного жира – он бы еще пригодился!» И у папы сжалось сердце от жалости и нежности к этому, не избалованному жизнью, трогательному старому человеку.
Накануне Рождества 82-го года, когда валил снег, радостно перемигивались во всех домах Лихтенштейна разноцветные лампочки на елках, и дети, прижимаясь носами к холодным окнам, нетерпеливо ждали Деда Мороза с гостинцами, Федор Федорович сделал папе и барону самый замечательный подарок, подписав следующий документ: «Я, Федор Федорович Шаляпин, ставший после кончины моего старшего брата, художника Бориса Федоровича Шаляпина, главою семьи Шаляпиных, даю мое согласие на перевоз фоба с прахом отца из Парижа на Родину. Моя сестра Татьяна Федоровна Чернова, урожденная Шаляпина, как мне известно из беседы с нею, также присоединяется к этому согласию.
Федор Федорович Шаляпин.
Документ составлен в Вадуце, столице княжества Лихтенштейн, Двадцать четвертого декабря тысяча девятьсот восемьдесят второго года в резиденции барона Эдуарда фон Фальц-Фейна, моего друга.
Свидетели подписания этого документа, барон Эдуард фон Фальц-Фейн и писатель Юлиан Семенов, удостоверяют его подлинность».
Вспоминает барон Эдуард Фальц-Фейн.
Затем мы поехали в Париж, Ширак хорошо отнесся к идее, но сказал, что так как Шаляпин обожал Париж и парижане его до сих пор знают и любят, то необходим компромисс: мэрия дает разрешение на перезахоронение праха, но перед этим на доме на рю де Ло, где Федор Иванович жил, мы должны установить мемориальную доску. Так и сделали.
Советскую бюрократическую машину папа взял на себя. Поскольку перезахоронения добились не красные бюрократы, а старый аристократ-эмигрант и беспартийный писатель, то неожиданно «возникло мнение», что принимать прах «предателя Родины» будет нецелесообразно. Пришлось обращаться к тому, кого отец ценил за светлую голову.
Вспоминает писатель Валерий Поволяев.
Юлиан Семенов был человеком дела и чести. Однажды он приехал в Союз писателей. Я тогда работал секретарем правления. Отвечал за правительственную связь.
– Старичок, мне надо позвонить по вертушке, – сказал он мне.
– Звони.
Трубку на той стороне провода поднял не секретарь, не референт, не помощник, не советник, а сам хозяин телефона.