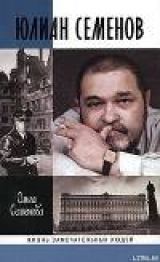
Текст книги "Юлиан Семенов"
Автор книги: Ольга Семенова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
– Но предшественников своих литературных ты можешь назвать? Ориентиры у тебя есть?
– Разумеется. Джон Рид «Десять дней, которые потрясли мир». Михаил Кольцов, «Испанский дневник». Что поражает у Рида: описывая революционную борьбу, он ставит друг перед другом достойных противников. При всей своей тенденциозности (без которой не может быть политического писателя) Джон Рид сохраняет объективность и поэтому ему веришь. Михаил Кольцов тоже отлично знает, на чьей онстороне. Но и он не знает, не хочет знать готовых ответов на сложнейшие вопросы реальности. Он анализирует, он доискивается причин, он – как медик – выслушивает действительность и ставит ей диагноз: точность его диагнозов я мог в какой-то степени проверить сам, когда в 60-е годы был в Испании и интересовался ее проблемами. Тогда я оценил Кольцова как политического писателя: он великолепно почувствовал структуру политического сознания своего времени, он дал художественное исследование политической реальности. И дело не в том, роман ли это, или поэма, или очерк – дело в чувстве реальности, которая в наш век насквозь политизирована.
– Стало быть, предшественников современного политического романа вовсе не обязательно искать среди романистов.
– Именно! Я их и нахожу среди поэтов и драматургов. Величайшим политическим писателем был Шекспир: «Король Лир» – трагедия огромного политического темперамента, пронизанная интересом к человеку, осуществляющему себя именно как «существо политическое». Пушкин был величайшим политическим поэтом.
– А «История Пугачева»? А «Капитанская дочка»? Что тебе все-таки ближе?
– И «История», и «Капитанская дочка»: и там и там он политический художник, хотя в «Истории» тончайшим образом придерживается исторических фактов, а в «Капитанской дочке» соединяет вымышленных героев с историческими фигурами Пугачева и Екатерины. Дело опять же не в эффекте такого «жанрового соединения», а в том, что у Пушкина между сторонами политического конфликта идет серьезная борьба, и каждый чувствует себя правым, так что Петруше Гриневу действительно приходится решать, с кем он, а не присоединяться к готовой правоте одной из сторон.
– Само соединение реальных исторических фигур с вымышленными не предвещает ли у Пушкина современный художественный тип романа?
– Предвещает, но почему только у Пушкина? «Война и мир» – величайший политический роман, где историческое соединено с вымышленным: все дело в том, что и вымышленное у Толстого исторично по внутренней задаче.
– Где же начало политического романа в европейской литературе?
– Начало пусть ищут историки литературы. Я думаю, что и в Античности можно найти образцы художественно-политического письма. Хотя установки на увлекающее читателя действие у тогдашних политических авторов не было.
– Зачем же тебе эта внешняя установка?
– Старый спор! Теперешнего читателя – массового, занятого, надо завоевывать. Надо его держать и покрепче! Нужна интрига, нужна тайна, нужно расследование. Роман обязан быть очень интересным. Альберт Бэл, латышский прозаик, не побоялся назвать свой роман «Следователь», не побоялся чисто детективного сюжета, хотя речь там идет о глубоких и серьезных вещах: и герой, и автор размышляют над историей страны.
– Кого бы ты назвал из современных писателей, чьи работы лежат в русле политического романа?
– Замечательными политическими писателями я считаю Владимира Богомолова и Василя Быкова. А знаешь, какая линия делает политическим роман Бондарева «Берег»? Линия Княжко! Выстраданная убежденность человека, прошедшего войну, прошедшего через ненависть к немцам, утверждающегося в необходимости добра, в необходимости диалога с немцами. Это история современного политического сознания. В «Буранном полустанке» Чингиза Айтматова очень важно постоянное стремление писателя подняться «над горизонтом», увидеть событие с глобальной точки зрения: эта тенденция точно передает ситуацию современного человека, который чувствует, как уменьшился земной шар. Я назвал бы Алеся Адамовича, автора «Карателей». Колоссально важен опыт Льва Гинзбурга, автора «Бездны» и «Потусторонних встреч», – этот автор поистине болен политическими проблемами – отсюда и художественная убедительность его работ. Но почему мы ищем узкие жанровые аналогии? Я, например, считаю сегодня одним из самых политических художников поэта Ивана Драча. Считаю таковым поэта Олжаса Сулейменова. Поэтов Андрея Вознесенского и Егора Исаева. Поэта Евгения Евтушенко.
– А прозаика Евгения Евтушенко?
– Нет, поэта! Именно поэт Евтушенко, с моей точки зрения, придал современной литературе эффект непрерывного, живого, острого отклика на политическую реальность, и этот непрерывный отклик обозначил судьбу лирического героя.
– Валентин Распутин назвал роман Евтушенко «Ягодные места» агитационным. Тебе не кажется, что это определение перекликается с определением «политический роман»?
– Не кажется. Мне не надо, чтобы меня «агитировали» за готовые истины. Мне надо, чтобы автор искал истину вместе со мной, исследовал современные структуры, откликался на вопросы, еще не имеющие решения. Здесь-то и лежит главный внутренний признак политического романа: не в том, что речь идет о политике, а в содержании «речи».
– Так, может быть, дело просто в качественном уровне письма? Может быть, всякая отлично написанная вещь сегодня с неизбежностью окажется художественным исследованием политического сознания?
– Вовсе нет. Василий Белов, например, пишет отлично и широко читается, но я считаю его художественный мир непричастным к жизни современного политизированного человека. Этот мир слишком замкнут в своем местном своеобразии, он и ориентирован на такое замыкание.
– А если взять западную литературу? Тут какие ориентиры?
– Дюма-отец, «Три мушкетера» – блистательный политический роман своего времени.
– Нет, поближе.
– Габриель Гарсия Маркес. «Сто лет одиночества».
– Жорж Сименон?
– У Сименона есть прекрасный политический роман «Президент».
– А цикл о Мегрэ?
– Опять ищешь «жанровые параллели»? Да, серия романов об инспекторе Мегрэ – пример художественного постижения сегодняшней насквозь политизированной реальности. Но для этого постижения вовсе не обязательно иметь в основе сюжета криминальную интригу. Хотя я предпочитаю ее иметь.
– Я хотел бы остановиться на этой «формальной особенности» чуть подробнее. Думается, это вовсе не «формальная особенность» твоих книг. Недаром же в глазах столь огромного количества читателей ты не столько автор политических романов, сколько создатель особой жанровой разновидности романа приключенческого: создатель «интеллектуально-милицейского детектива», как сформулировал один мой знакомый. Свое писательское право на такую форму ты отстаиваешь последовательно, в частности и от моих давних нападок. Так я хочу связать воедино две стороны твоего художественного мира: интерес к современной политической реальности и интерес к деятельности современных секретных служб. Я подозреваю, что это вовсе не «форма», удачно совпавшая с «содержанием», это нечто другое, это что-то вроде Магдебургских полушарий, стянутых внутренним вакуумом и притертых до нерасторжимости. Вопрос состоит лишь в том, почему так важен для тебя сам феномен «разведслужбы», «секретного» знания и так далее, то есть некая особая, подспудная, параллельная реальность, существующая кроме, помимо и, так сказать, опричь реальности явной и видимой? Не является ли эта скрытая реальность для тебя более подлинной, чем реальностьявная? Да и писательская твоя манера – беглый сцеп фактов, когда автору как бы «некогда» возиться с объяснениями, – о нем говорит? О вере в потаенно-подлинную, невидимо сцепленную реальность, которая скрыта под обманным флером реальности внешней, «объяснимой» для дураков, не подлинной? Для этого прощупывания и нужен тебе в сюжете «разведчик», «секретный агент», «сыщик»?
– Все проще. Я пишу реальность как она есть. Великие политические писатели Бомарше и Дефо были асами секретных служб. Или пример поближе к нашему времени. Автор книги «Моя тайная война» Ким Филби являлся руководителем одного из важнейших подразделений английской разведки. Вместе с ним служили Ян Флемминг, Грэм Грин и ЛеКappe. Первый стал автором знаменитой «бондианы». Второй – автором политических романов (в «Тихом американце» предсказал вьетнамскую войну). Третий, ЛеКappe, известен у нас романом «В одном немецком городке» – это настоящий политический роман о неофашизме. Так вот, о разведчиках, агентах и работниках секретных служб: они не то что живут в какой-то особой реальности, они по роду деятельности первыми смотрят в глаза фактам и вырабатывают относительно новые факты концепции. Самое страшное в наше время – иллюзия и неосведомленность. Ложь ведет к ужасам. Мера ответственности людей, знающих правду, узнающих ее первыми, – это концентрированная истина о современном человеке. Здесь человек политический выражает себя предельно адекватно. Иными словами, Штирлиц для меня не «средство упования публики», как считаешь ты, а квинтэссенция современной политизированной реальности. Просто я верен фактам и структурам двадцатого века.
Аннинский всегда считал творчество отца интересным и без Штирлица, чем, кстати, очень его огорчал. Но недавно, в разговоре со мной грустно как-то признался: «Штирлица не хватает многим. Мне в последнее время тоже».
Но вернусь к середине 80-х. В тот период отец был занят серией исторических романов, о Штирлице не писал, а письма читателей становились все требовательнее, дескать: «Когда продолжение? Мы ждем!» И папа решил заслать своего героя после войны в Испанию, а оттуда в Латинскую Америку. На это было две причины: во-первых, если бы Штирлиц вернулся в Москву, его бы немедленно посадили; во-вторых, папе захотелось устроить конфронтацию «нашего» штандартенфюрера с нацистскими преступниками, укрывшимися в Латинской Америке. Заблаговременно переслав на счета колоссальные суммы и раздобыв ватиканские паспорта на чужие фамилии, они устроились там очень уютно. Тема фашизма волновала отца всегда. «Ничего в жизни не надо бояться, ничего, кроме фашизма. Его люди должны уничтожать в зародыше, где бы он ни появлялся», – писал отец в романе «Майор Вихрь». Чтобы понять его изнутри, он встречался и со Скорцени, и с начальником личного штаба Гиммлера – Карлом Вольфом, и с Альбертом Шпеером. Настоящим шоком стало для него путешествие в середине 80-х по Латинской Америке. В немецких колониях на границе с Парагваем, не скрываясь, жили старые нацисты, с местного аэродрома частные самолеты то и дело улетали в фашистский Парагвай. В Чили, на границе с Аргентиной, существовала закрытая зона – вход по пропускам, нацистская свастика, нацистские ордена. Изучая феномен преемственности нацизма, папа выяснил, что фюрер национал-социалистической рабочей партии Гарри Лоук – гражданин США по паспорту, был сыном крупного нацистского чиновника. Вальтер Рауф – «отец» душегубок, спокойно жил в Пунта-Аренас, в Чили, а после прихода к власти Пиночета стал начальником отдела в его охранке. Гитлеровский летчик Рудель работал в Аргентине, в авиационном научно-исследовательском институте, возглавляемом штандартенфюрером СС, профессором Куртом Танком, гитлеровским изобретателем. Клауса Барбье завербовали американцы, а создатель ФАУ Вернер фон Браун переехал в 1945 году в США и разрабатывал ракеты для Пентагона.
Обладая дальновидностью и даром абсолютно салтыково-щедринского предвидения, отец еще тогда предчувствовал появление неонацистского движения в России, рассказывая читателям о Штирлице, часто цитировал фразу из Тиля Уленшпигеля: «Пепел Клааса стучит в мое сердце» и повторял набившее всем оскомину: «Никто не забыт, ничто не забыто». Но у него это звучало искренно и значительно. Я поняла его опасения много позже…
…Катя жила в курортном местечке под Бейрутом на огромной белой вилле с видом на Средиземное море. Семья ее мужа-ливанца сделала состояние на торговле наркотиками, наладив крепкие связи с Сирией и Египтом, но я об этом узнала позднее, когда с ней уже не общалась. Двое ее детей – четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка с чуть прикрытым левым глазом, отчего казалось, что она все время что-то подсчитывает, почему-то яростно рвали книжки, попадавшиеся им под руку. Катя нравилась мне невозмутимой серьезностью и рассказами о том, как девчонкой устроилась поломойкой в свою школу, чтобы помочь деньгами родителям. После по-барски капризных, изнеженных ливанок, окруженных черными служанками, слушать Катю было одно удовольствие. В очередной раз приехав ко мне в гости (дома наших мужей находились рядом), она сидела в гостиной, заботливо придерживая огромный живот (была на восьмом месяце беременности), и пила чай. На втором этаже в детской раздался пронзительный визг ее дочки, которая хотела расправиться с томиком Андерсена, а мой сын пытался ее остановить. «Alex, don't touch the book, please!»[18]18
Алексей, пожалуйста, не трогайте книгу! (англ.).
[Закрыть] – растягивая слова, закричала Катя, задрав голову. Она почему-то говорила со своими детьми только по-английски. Визг перешел в недовольное ворчание.
Низко пролетел израильский самолет, и оконные стекла жалобно задрожали. «Вот жиды проклятые, разлетались, – перешла Катя на русский, – жаль, что их Гитлер всех не дожег». Я сразу вспомнила давнишние папины слова и хотела спросить Катю, знает ли она, как он их жег. Знает ли, что сначала сжигали женщин и тонконогих, большеглазых детей. Их было около трех миллионов. Мужчин сжигали потом, когда они уже не могли работать от истощения. Жгли, конечно, и русских, – с красными офицерами любили сперва «пошутить». Отправляли с куском мыла в душевую, офицер доверчиво крутил кран – воды не было, тут в отверстие в стене его и пристреливали, и относили в крематорий, и пускали в душевой воду, чтобы смыть кровь «славянского недочеловека». Жгли и немецких социал-демократов и коммунистов, и французов из Сопротивления, и цыган, но приоритет всегда оставался за еврейскими детьми. Иногда, получив новую партию детей, их для разнообразия не сжигали сразу, а затравливали собаками. Или забивали насмерть дубинками по дороге в лагерь. И варили мыло из их костей, и делали абажуры из кожи, и набивали матрасы волосами. Я хотела спросить Катю, знает ли она все это, но потом вспомнила, что она не может этого не знать, потому что об этом нам всегда рассказывали наши учителя истории, и просто отвезла ее домой, чтобы больше не встречаться… Вскоре в Москве молодые фашисты насмерть забили цепями девятилетнюю таджикскую девочку. Все чаще стали калечить в Питере вьетнамских, африканских, индийских студентов – среди бела дня, на глазах у прохожих. Каждый раз я вспоминала папины слова, понимая, что то, чего он так страшился, в России произошло.
…Работая в Германии, он посетил в 80-х один из концлагерей. Недалеко, в лесу, прогуливались немецкие семьи и, поравнявшись с ним, вежливо здоровались. Он подумал тогда, что так же доброжелательно приветствовали друг друга их родители сорок лет назад, а из трубы крематория в отдалении валил дым, но гулявшие этого не замечали или замечать не хотели. Папа часто повторял слова Бруно Ясенского: «Не бойтесь ваших врагов – они могут лишь убить вас. Не бойтесь ваших друзей – они могут вас лишь предать. Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия в мире происходят все убийства и предательства». Ему равнодушие было незнакомо.
…Серия из четырех романов о Штирлице после войны – «Приказано выжить» и три «Экспансии» – была захватывающей. Вылечившись от старых ранений у старой колдуньи индианки – Канксерихи, Штирлиц находит друзей. Испанскую женщину, полюбившую его и взявшуюся во всем помогать, американца Роумэна, скандинавку Крис. После неимоверных усилий им удается поймать Мюллера. Последний роман заканчивался тем, что Роумэн, связав Мюллера, ждет Штирлица, побежавшего в представительство к русским – за помощью.
И тут папа оказался в тупике – надо было продолжать, а продолжение могло быть только грустным, а он этого терпеть не мог. «В настоящей прозе должны быть провозглашены не только Права человека, но и его Обязанности! А человек обязан быть счастливым. Его надо побуждать к этому, требовать от него поступка, а не слезливого описания горестей, на него свалившихся, – в этом я вижу задачу литератора», – говорит его герой в романе «Псевдоним». Так думал и он сам.
Прав был старенький Сименон, предупреждавший, что расставание со Штирлицем будет болезненным. Никогда отцу не было так трудно писать, как в тот раз, когда он начал о нем последнюю вещь, называвшуюся «Отчаяние». Тяжело было не только из-за приближавшегося расставания, но и из-за сюжета. Штирлиц оказывался на Лубянке, в центре страшной интриги, и терял самое дорогое – сына Санечку и жену, и оттого отчаяние его было «огромно и величественно, как океан». Сломленный, он уходил из разведки в холодную, беспристрастную науку. В конечном итоге происходило то, что не произойти не могло. Личность, порядочный человек, во многом с меньшевистскими идеалами и принципами, сталкивался с системой совершенной и не менее страшной, чем в гитлеровской Германии, и она его перемалывала. К чести отца он написал то, что написать было должно и нужно, но как же больно ему было ту безжалостную правду писать.
Его редко кто видел в минуты сомнения, почти никто – в минуты отчаяния. Я лишь в то крымское лето, когда он работал над этим романом. Оно было молчаливо – это отчаяние и походило на отчаяние его героя, который ничего не мог изменить… Вечером мы вышли на нашу традиционную прогулку. Дорога все время поднималась в гору, поэтому шли не спеша. Низко над землей летали стрекозы, последние солнечные лучи подрагивали в листве деревьев.
– Я писал свои книги, – говорил отец, – глядя на засыпающие горы, – чтобы люди понимали: нет безысходности, всегда есть выход, только надо надеяться на свои силы и во всем и везде видеть красоту.
Мы остановились возле маленького шумного водопада. Здесь он каждый день отжимался от каменной ограды, сегодня этого не сделал:
– Мне все труднее работать. Раньше я видел тех, для кого пишу. У них были добрые глаза, они были рады мне, а сейчас их заслонили ватные маски врагов. Это тяжело. А может быть, я просто старею…
Домой мы вернулись затемно. Устроились на кухне. Отец сидел ссутулившись и грустно смотрел на экран телевизора, глубоко затягиваясь. В комнате плавал голубой сигаретный дым. Мне всегда казалось, что где бы ни появлялся отец, сразу же возникала атмосфера журналистского пресс-центра. Хотя я никогда не была там, мне слышались разноязыкая речь, шум, телефонные звонки, виделось множество людей и обязательно табачный дым.
Я достала две глиняные чашки и начала готовить чифирь. Я готовила его так, как недавно научил отец: в крохотных кофейных турочках на электрической плитке. Самое главное, не пропустить тот момент, когда клокочущий чай готов выплеснуться на раскаленную спираль плитки – хватай поскорее турочки и переливай черную влагу в чашки.
В тот вечер мы сидели недолго и говорили мало. То ли отец устал, то ли все выговорили во время прогулки. Выпив чай, отец пошел в кабинет, бросив на ходу: «Я главу закончил, хочешь почитать?»
Я взяла страницы, забралась с ногами на маленький диванчик и стала читать неправленый текст. Отец сидел за широким письменным столом в большом кресле с высокой спинкой и из-за этого казался маленьким. Он сидел неподвижно и смотрел в окно. Уже совсем стемнело, и в стеклах сначала была видна комната, а потом уже луна и море. Сначала я не могла понять, что рассматривает отец – собственное отражение или море с луной. Потом поняла, что отец никуда не смотрел, а просто сидел непривычно маленький в большом кресле, чуть склонив голову, будто прислушиваясь к чему-то, и глядел растерянно – широко раскрытыми глазами в самого себя.
– Очень интересно, пася, – сказала я. И это была правда. Мне всегда нравился Штирлиц – сильный, одинокий, честный.
– Да-а, – протянул неопределенно отец, по-прежнему не меняя позы, – а по-моему, это хреновина…
– Нет! Это хорошо, папа, грустно, тяжело, но очень хорошо.
Отец поднял наконец голову и посмотрел на мое отражение в окне:
– Не нужно это.
– А может быть, ты придешь к чему-то новому, может быть, это новый виток, – говорила я, понимая, что говорю не то и не так.
– Не знаю, ничего не знаю. Закончу книгу и завяжу с этим. – Отец опять закурил.
«Сколько же папа курит! – мелькнула у меня мысль. – Две пачки в день? Больше, теперь почти три. Выкурила бы я столько, умерла бы от никотинового отравления».
– Как завяжешь? – сначала не поняла я.
– Очень просто, не буду писать, и все. – Отец задумался на несколько секунд, потом договорил: – Ни издательств, ни редакторов, ни рецензий.
Он хрустнул пальцами, и камень в его золотом кольце ярко высверкнул в черном стекле окна. Я постояла за спиной отца, потом, как всегда, сказала:
– Я пошла, пася, спокойной ночи.
У себя в комнате включила радио. Нашла Турцию, почему-то передавали концерт русских балалаечников. Села на пол и, глядя на глазастую луну, прислушивалась к пению цикад и к тому, что делается у папы. Он не писал. Значит, сидел в кресле и курил. Я хотела вернуться к отцу, но почему-то было неловко. Концерт балалаечников кончился, стали передавать грустные английские песни… Ночью мне приснился отец, дерущийся на ринге с огромным детиной, вроде Мухаммеда Али, в красных шелковых шортах.
Утром проснулась словно от толчка: высоко в горах мелькнула фигура папы. Я быстро натянула джинсы, майку, кеды, вышла из дома и побежала за ним. Солнце поднималось, море было тихим и большим. Туман, как прозрачное серое покрывало, сползал с вершин в расщелины гор, а сосны тихо шептались о прошедшей ночи. Я догнала отца, и мы пошли по дороге рядом. Через две недели последний роман о Штирлице был закончен…
…Андропова уже несколько лет как не стало. Папин друг, бывший контрразведчик Кеворков, его по-прежнему любил и поддерживал, но, несмотря на занимаемый высокий пост, не мог оградить от всех нападок «мелюзги». В прессе косяком пошли мерзкие статьи, особенно старался какой-то капитан второго ранга в отставке. Иначе стали смотреть на отца и в комитете, и в партийной верхушке. Юлиан Семенов оказался далеко не таким романтичным идеалистом, каким его многие представляли. До «Отчаяния» любой сотрудник комитета отождествлял себя со Штирлицем. После выхода романа это стало невозможным, – отец открытым текстом заявил, что в течение десятков лет там работали фашиствующие садисты.
Временами подле папы появлялась подруга – некрасивая очкастенькая блондинка, работавшая в цензуре. Он звал ее «Буратино» из-за длинноватого носа. И сестра, и я поддерживали с ней дипломатические отношения, не очень жалуя в душе. Недавно, разбирая папин архив, я прочла ее письма – странный коктейль искренности, сюсюканья и фальши. Папа это видел, и, наверное, поэтому она и не могла, как ни старалась, занять в его жизни постоянное место. В ней было много от интеллектуальной библиотекарши и чуть-чуть от некрасивой, а потому особенно распутной куртизанки, но этого «чуть-чуть» было достаточно, чтобы папа не был счастлив. Она могла неделями разбирать бумаги и наводить порядок в библиотеке, а потом первой подливать отцу во время празднеств с друзьями, зная, что ему с его давлением давно пора завязать. Почти каждый год папа ездил на три недели в Карловы Вары – возвращался худым, помолодевшим. Раз взял с собой Буратино. Гульба продолжалась все три недели, он приехал уставшим и отечным. Иногда, не справившись с дочерней ревностью, я начинала «Буратино» критиковать, а папа вяло ее оправдывал, догадываясь в глубине души о правде значительно более горькой. Наружу это вырвалось только однажды. Мне было уже двадцать, я приехала в Мухалатку. Незадолго до этого папа отправил Буратино в Москву. Мы пошли гулять. «Знаешь, Кузьма, – задумчиво сказал он мне, – странное дело: заезжали тут ребята из девятого отдела, посидеть, книжки подписать. Один что-то сказал Буратино, и у нее сразу изменилось лицо, она вся вдруг переменилась – другой человек, злой и чужой…»
Вполне возможно, папа не ошибся, решив, что Буратино велели за ним приглядывать, лучшей кандидатуры было не найти. Это мало что изменило в их отношениях. Отец просто стал представлять ее знакомым как своего личного серетаря – статус, при котором предательство казалось ему менее обидным.
Стал самому себе не мил,
Седой старик с душою урки,
Коня б завесть, накинуть бурку
И в горы – из последних сил.
Как люб мне круг слепых бойцов,
Чадры старух, чеканка ножен,
Кинжал дамасский, что в них вложен,
И на коня – и был таков!
Подъем все круче, ветра свист
И одиночество, как веха,
Самгин ли ты, или Алеко,
Ложишься в землю, словно лист,
Будь путником, не бойся выси,
Ищи обзора точный смысл:
Глаза совы мудрее рыси, —
Ведь зверь в движенье слишком быстр.
Моли о медленности всхода,
Не торопись, не шпорь коня,
Все в мире суета, что модно,
Ах, жизнь моя, пусти меня.








