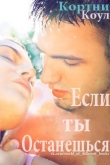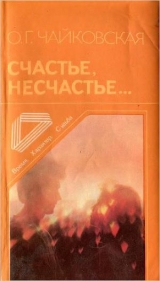
Текст книги "Счастье, несчастье..."
Автор книги: Ольга Чайковская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Павел Максимович охотился за сыном, а тот прятался. Павел Максимович писал, куда мог (подкупили мальчика, развратили мальчика, их надо судить, их надо гнать с работы), и мальчик об этом знал. А Ковалевы терпели, терпели, не вытерпели – и тоже стали собирать на Павла Максимовича «компромат» (что при его характере было нетрудно), все это непрестанно и бурно обсуждали, не стесняясь присутствия мальчика. Конфликт набирал силу, грозя взрывом, который и не заставил себя ждать. Катастрофа приняла вид «объяснительной записки», где Максим объяснял, почему не хочет жить с отцом.
«Объяснительная записка. Я, Михайлов Максим, ученик 7 «В» класса, не могу жить с отцом, потому что: 1. Забрав меня у родной матери, он скрывал меня от нее двенадцать лет; 2. Бил меня до крови и издевался, как хотел, и я фактически потерял детские годы, и как бы мне хотелось их вернуть, но с р. матерью».
В этих горьких жалобах по крайней мере две лжи. Первая: кто поверит Раисе Ивановне, что она искала сына двенадцать лет и все найти не могла; или тому, что ей сказали (анонимное письмо!), будто сын умер, и она на том успокоилась, не пытаясь проверить ужасного анонима или найти могилу. Второе: Максим умолчал обо всем том хорошем, что было в его детстве, и это тоже ложь.
Но зато сколько же тут было злой правды!
«Теперь перехожу к родной матери,– продолжает мальчик,– я могу твердо сказать, что люблю ее так, как ненавижу отца. Я отрекаюсь от отца и мачехи, они мне НИКТО!» (Родители – никто? Зоя Николаевна, которая ночи напролет носила его, больного и маленького, на руках, десять лет заботилась о нем – и никто?)
«Я требую справедливости к семье Ковалевых, а потом уже к себе, во-первых, потому, что так говорят французы, а во-вторых, потому, что они люди, сделавшие за полгода мне добра больше, чем отец за двенадцать лет!» (Сомнительная арифметика.) Кончается письмо цитатой из газеты о том, что здоровье и безопасность детей рассматривается как задача общегосударственной важности...
Из-за этой записки (удивительного варева из ненависти, неблагодарности, позерства казанской сироты, невольной лжи, доноса на отца с цитатами из прессы и непритворных ребячьих жалоб, настоящего горя, жажды тепла и подлинной справедливости) шел тяжкий спор. Павел Максимович был убежден, что ее продиктовали сыну Ковалевы, но на самом деле мальчик писал ее один в школе. А Ковалевы убеждены, что это отцовский дух кляузничества проснулся в сыне.
Не спорьте, добрые люди, думала я, разбираясь тогда со всем этим делом, вы это сделали, вы, общими усилиями; тут, не ведая того, вы были на редкость единодушны. Вместе сеяли вражду и ненависть, вот они и взошли замечательной «объяснительной запиской». Смотрите, как аукнулась родителям ледяная педагогика Зои, каким душевным холодом обернулось это ее «не жалеть». Максима не жалели, и он не пожалел отца, отлично зная, что тот болен, что тот слепнет. Но есть тут еще и общественная сторона дела: никто не вложил в сознание мальчика убежденность, что сын, доносящий на отца,– недостойное, ужасное зрелище.
И вот Максим живет в Норильске у матери. Ему страстно хочется мира, но только мира опять нет. Отец снится по ночам, да и наяву приезжал ловить. Но главное, с «р. матерью» не так-то все хорошо, вот беда.
Это можно было предвидеть. Максим был навязан Раисе Ивановне обстоятельствами (и Ковалевыми); и вот ее начальство и сотрудники, знавшие ее как мать двух дочерей, вдруг узнали, что у нее есть сын, несчастный и страдающий. Наверное, она была правдива в ту минуту, когда протягивала руки мальчику, которого не видела двенадцать лет. Но положение, в котором она оказалась не совсем по своей воле, ее, как видно, раздражало, и сын, несмотря на то что он и в магазин ходил, и суп варил, и учился очень хорошо, никак не мог ей угодить. Впрочем, честно говоря, характер у Максима тоже был не сахар.
И вот снова вокруг мальчика гудит ток высокого напряжения, опять идут взрывы. Снова он слышит: «Уходи, никто тебя не держит»,– а Вера Васильевна, единственный человек, возле которого был оазис тепла и спокойствия, она за тысячу верст, и «р. мать», точно так же как «р. отец», впадает в неистовство, когда речь заходит об отношении к «бабуле» – однажды, когда Максим задержался на переговорном пункте, откуда ей звонил, мать не пустила его в дом («двухвостка!» —кричала она), а поскольку в этом городе ему идти уж вовсе было не к кому, он просидел всю ночь в городском парке.
Было холодно, бедного «двухвостку» трясло, он сидел и грустно думал: «Что это им в мире не живется? Уехать бы – так ведь никак нельзя. С отцом, скажут, не ужился, с матерью не ужился. Что ж, буду тянуть до восемнадцати. Тогда уже – в самый день рождения! – к бабуле». Но до восемнадцати ему было еще далеко.
Он очень устал в свои тринадцать лет, смертельно устал, его ребячьи силы, данные ему для роста, для внутреннего развития, растрачивались ни на что!
Узнав, как живется Максиму в Норильске, Зоя сказала:
– Вот и хорошо. До сих пор он считал, что всем нужен, а как поймет, что никому не нужен, тогда мы с ним и будем разговаривать.
– И разговаривать жестко,– добавил отец.– Или мы или Вера Васильевна.
Глупые люди: не может ребенок жить с сознанием, что он никому не нужен!
Усилиями окружающих было наконец устроено свидание Павла Максимовича с сыном, все очень ждали этого часа – и вот он настал. Как вы думаете, что сделал отец в этот свой единственный час? Вынул знаменитое, против Ковалевых направленное досье (по которому давно плакал мусоропровод) и принялся обличать врагов. Потому что ненависть к ним давно уже переросла в душе его любовь к сыну, и расстаться с этой своей ненаглядной ненавистью он был не в состоянии.
Есть люди, которые могут (хватает у них душевных: сил) подавить свои страсти и в самом деле поставить превыше всего интересы ребенка. А вот Сарибек и Павел Максимович – не могут. Еще противнику своему могут крикнуть через тын, что надо быть мягче и добрее, терпимей, но обратить этот совет к самим себе – никак! Рвут на части детей, каждый тянет в свою сторону. Всяк кричит: «Мое, мое!» И в гордыне своей всяк мнит заменить собой всех остальных родственников – глубочайшая ошибка: ребенку нужен комплект. Да еще сверх комплекта возможно больший круг близких. Вообще, на месте бога я включила бы в число заповедей и такую: «Храни привязанности сына своего. Думай не о себе, а о нем. Ты смертен, ему жить без тебя».
Нетрудно понять, что из пучин семейных конфликтов в жизнь выйдут люди усталые (с самого детства уже усталые!), с дурным жизненным опытом, весьма непростые люди. Если в детстве они наплакались, от них еще наплачутся многие – раз нервная система человека сорвана, он непременно примется мочалить нервные системы других, потому что неврастеник, как правило, питается чужими нервными клетками и без них голодает. Если в детстве человек узнал лицемерие, ложь, клевету, не надейтесь видеть его правдивым. Если склока качала его колыбель, а жестокость вспоила, если во мгле его сознания бродили оборотни, не ждите от него светлого миросозерцания и доверия к людям. Он выйдет в жизнь не только несчастным – он выйдет опасным.
Ненависть – чувство криминогенное. Накопившись в годы детства, она потом уже сама по себе, без всякого добавочного влияния со стороны может дать взрыв какой угодно, вплоть до преступного – особенно, если память с младенчества хранит образ матери-отравительницы или дедушки-мародера, кравшего у мертвых их ордена.
Тихий семейный мир! Этот мир должен, обязан быть тихим, чтобы здесь душа ребенка могла отдохнуть и набраться сил для жизни – а что мы с вами видели? Дикие страсти,, когда властолюбие стремится всех подавить, мстительность жаждет вонзить ядовитый коготь, а ревность... Кажется, эта страсть опаснее всего, тем более что от нее практически никто не застрахован. Не только ревность женщины к мужчине (и наоборот) – родительская ревность, особенно материнская, может быть пагубна в самом прямой смысле этого слова.
В ней что-то не так, в этой фотографии, и чем больше в нее вглядываешься, тем яснее ощущаешь, что с ней неладно. В лицах, обведенных слишком толстыми контурами, есть некая бестелесность, пустота, какая возникает при очень сильном увеличении. Но все же и у мальчика, и ху девочки живые лица: он, прищурившийся из-за своих очков, глядит словно бы с отвагой; ее круглое лицо (много рта, мало носа) было бы забавным, если бы не огромные глаза – они разговаривают, они к вам с вопросом, и, оттого что их обвела черная кайма ресниц, свет их усиливается, а вопрос звучит настойчивей.
Только вот каждый из них, и девочка, и мальчик, смотрят свое, они не вместе тут, не сообща, их плечи не теснят друг друга, а картонно заходят друг за друга, выдавая фотомонтаж.
Борис был веселым юношей, природа одарила его не только музыкальностью, но и невиданной энергией, которой тесно было в рамках музыкального училища, где оба они учились. В студенческом ансамбле он пел, играл на бас-гитаре, побеждал на конкурсах. Лену он заметил еще на первом курсе, а она, хоть и маленькая, хоть и кубастенькая, была эффектной девушкой со своими великолепными каштановыми волосами и огромными зелеными глазами. Он спросил тогда приятеля: «Что за девчонка?» – а тот ответил: «Отличная девчонка», что было чистой правдой. А потом они пошли в кино, а в каникулы он написал ей письмо, осторожное, застенчивое, еще неуверенное в приеме, который, впрочем, был, кажется, самым радушным.
Эти жизнерадостные, одаренные, общительные ребята с каждым днем все больше влюблялись друг в друга. Их попытки скрыть от окружающих свою взаимную склонность оказались напрасными: они стали как бы светоносны, спрятать это обстоятельство было невозможно и скрыться с ним некуда.
Утро. Они еще только увиделись издали, только идут коридором училища, а кругом – все это чувствуют – уже происходит что-то, не то потеплело, не то лампочки горят ярче. «Как-то приятно становилось на душе» – так простодушно, но и всего, наверное, точнее сказал один из их друзей. Они не просто шли навстречу друг другу, их тянуло, как магнитом, и это ощущение счастливого взаимопритяжения – куда его скрыть?
О будущем они не думали, оно напомнило о себе само: Людмила Васильевна, Ленина мать, решила уезжать из этого города, где ей не было работы по специальности. Но как это сделать? Лена в училище. Лена вся в музыке, у Лены любовь. К тому же мать с дочерью, очень близкие, еще ни разу не расставались. А Боря? «Я не знаю, что тогда будет,– писал он Лене в каникулы,– по-моему, будет очень плохо. Для меня. Я уже не представляю себе жизни без тебя, мои планы на будущее связаны с тобой. Я, конечно, не знаю, что думаешь ты на этот счет. Леночка, я очень надеюсь, что мы не расстанемся никогда, даже если ты уедешь. Я люблю тебя, и не думай обо мне ничего плохого. И тетя Люда пусть не думает. Я не хочу тебе ничего плохого. Ты для меня самая добрая, ласковая и красивая». Так призрак разлуки сильно продвинул их отношения, в своем (еще полудетском) письме он первый заговорил о браке. И в его просьбе не думать о нем ничего плохого тоже был свой смысл. С отъездом матери Лена оставалась одна в квартире. Людмила Васильевна уважала дочь, вполне ей доверяла, но все же беспокоилась (девочка еще, едва восемнадцать!), а потому, уезжая, оставляла в доме свою «полицию нравов». Эта «полиция нравов» в лице девушки-соседки приходила к ним по вечерам пить чай (Лена была мастером уюта, и у нее вкусно было пить чай с вареньем), кроме своих надзорных обязанностей она уже от себя осуществляла еще одну инспекцию – Лениного холодильника: если он был пуст, бежала к себе через площадку за супом или чем-либо таким. «Полиция» все больше влюблялась в своих подопечных, но – работала. Когда становилось поздно, она говорила с лукавой улыбкой:
– Боря?
И Боря, покорно вздохнув, поднимался, бедный Ромео. Джульетта не возражала ни словом. То, что она жила одна в квартире, накладывало на нее, так ей казалось, особые обязательства.
Она вообще была замкнута и строга, когда разговор касался их отношений, не терпела никаких шуточек или тем более скользких намеков. Однажды, когда она, проспав, опоздала на занятия и преподавательница, не отличавшаяся тактом, сказала прилюдно: «Ты бы Бориса просила, что ли, чтобы он тебя пораньше будил» – Лена была в страшном гневе. А преподавательница, к слову сказать, не имела ничего против их романа, просто не понимала, что шуточки, которые еще кое-как могут сойти в компании взрослых, неуместны, когда речь идет о юности.
Им хорошо жилось. Дни были, как переполненные чаши, жизнь в них плясала, переливалась через край. И ансамбль, где пел он, и дуэт, где пела она (это кроме учебы), и погоня за новыми пластинками, и участие в конкурсах (а Борис даже однажды, чтобы подработать, играл на свадьбе, за что его – «частное предпринимательство»! – чуть было не исключили из училища). И в кино, и в концерты ходили, и гостей (трех девочек и одного мальчика) принимали и были неразлучны – до того часа, конечно, пока «полиция нравов» не скажет своего: «Боря?»
Еще в начале лета Борис писал Лене: «Мне очень хочется, чтобы наши мамы познакомились». Мамы действительно встретились, и настроение их в ту пору было – совет да любовь, потому что Людмила Васильевна души не чаяла в Борисе, а Лена, когда впервые была приглашена в дом Бориса (это в городке, километров в пятидесяти от областного центра, где они учились), всех очаровала. «Скажу тебе честно и по секрету,– писал Борис,– ты моим паханам (простим ему жаргон, мальчишек в семнадцать, как мух на мед, тянет к жаргону: кругом так много слов, и все не новые!) – страшно понравилась. Я не знаю даже, кому больше, матери или отцу. Мать мне все время говорит: «Какая хорошая девочка Лена. Скромная, умная, культурная. Не то что ты, обормот».
Но такое счастье длилось недолго, безмятежность исчезла, все стало смутным, все сбилось и, наконец, запуталось настолько, что потом нелегко было установить точную связь и последовательность событий.
Говорят, все началось с того дня, когда Борис заговорил со своей матерью о женитьбе. Жениться им действительно было рановато (тем более что мальчику еще не было восемнадцати, Лена старше на год, обстоятельство, по-видимому, переживавшееся ими трагически, во всяком случае Борис со свойственной ему пылкостью писал, что готов отдать год жизни, лишь бы их лета сравнялись), но Борис так не считал и, когда мать сказала «нет», тихо взбунтовался. С практической точки зрения это «нет» ничего не значило: ему вот-вот должно было исполниться восемнадцать. Должно было, но не исполнилось. Борис и Лена покончили с собой в один день и час, оставив записку: «Если вдвоем нам нет места на этой земле, то хоть похороните вместе». Есть тут зачеркнутые слова, которые, впрочем, нетрудно прочитать: «С вашей помощью...»
Убитые, уничтоженные матери, потрясенный, еле живой отчим (это он первый вошел в комнату и их увидел), опухшие от слез друзья – все они старались понять: молодые, веселые, полные сил, что их заставило так страшно распорядиться судьбой своей и своих близких, приговорить матерей к пожизненной казни? Материнский запрет? – они не собирались с ним считаться (уже ходили в загс для предварительной разведки). Рассказывали о какой– то травле, которой будто бы подверглась их любовь, но никакой травли на самом деле не было, никто им в душу не лез, напротив, кругом говорили о будущей свадьбе. Если бы речь шла о психическом сдвиге, о злоупотреблении спиртным – но эти ясные дети, что с ними случилось? И к кому относятся зачеркнутые слова? Все это необходимо было мне понять, когда я приехала по этому Делу, понять – и ради памяти погибших, и потому-что нельзя пройти мимо катастрофы, не поняв ее, не исследовав ее причин.
Итак, отношения портились. Элла Степановна, мать Бориса, приехала в училище, потребовала журнал посещаемости, убедилась, что у Бориса и Лены много пропусков (оправданных, впрочем, медицинскими справками), стала сопоставлять даты, увидела, что несколько дней ребята пропустили вместе... Искала Бориса, не нашла (он в тот день как раз играл на злополучной свадьбе), вызвала с занятий Лену, громко допрашивала ее в коридоре – этот разговор Лену оскорбил. Людмила Васильевна написала Элле Степановне письмо, просила оставить дочь в покое, не мешать ей учиться, а вопрос о браке, мол, ребята будут решать сами, В свой следующий приезд Элла Степановна нашла Бориса у Лены (они вместе с другом Сашей готовились к экзаменам), долго ругала, увела (тогда он еще был покорен), опять ругала («правильна была позиция матери»,—сказала мне одна из преподавательниц училища) и отбыла. Зимние каникулы он провел дома (и все еще был покорен), но уехал на три дня раньше начала занятий, сказав, что они начинаются 23-го, когда на самом деле они начались 26-го.
А теперь – внимание.
Элла Степановна приехала в училище и узнала, что сын неправильно назвал дату начала занятий. Она – на квартиру, где он жил, там ей сказали, что он дома не ночует. Она – к Лене домой, их нет. Они с мужем пришли через два часа (было это около шести часов вечера), им открыла Лена, и они вошли. Дверь закрылась, разговора никто не слыхал. После того как родители ушли, к ребятам забежал их друг Саша, застал их сильно расстроенными, Борис сказал: «Ты нас извини, такое настроение...», и Саша понял, что ему надо уйти (если бы он знал!). До разговора Лена и Борис были веселы и спокойны (Лена напекла блинчиков с мясом, дверь Элле Степановне открыла с улыбкой, это видели), после разговора они покончили с собой не в минутном порыве, но обстоятельно – написали записку; вывинтили пробки, чтобы не звонил звонок; поставили замок на предохранитель, чтобы люди смогли войти, не ломая двери. Мы не знаем, что думали они, что сказали друг другу в свой последний час, но знаем, что решение было принято как обдуманное и непреложное.
В городе была весна, когда я сюда приехала. Лед по краям тротуаров подплывал, сверкая; свечи тополей, их, сплетенные из прутьев каркасы словно бы уже потеплели; сосульки летели с крыш и вдребезги разлетались по лоснящемуся цветному асфальту. А когда на солнце находили облака, все становилось матовым, и в воздухе возникало какое-то недомогание, что-то вроде озноба, то ли от ледяной воды, то ли от обычного весной ожидания. Это их город. Они ходили по этим улицам, взбегали по этим лестницам. Прошел год, а ничто не забылось, ничто не затянулось. Но никто не мог мне объяснить причину трагедии (разве что один разговор мне объяснил, но его предстояло проверить). Сможет ли Элла Степановна?
В ее глазах, когда мы встретились, был не просто страх – ужас, и я почувствовала себя палачом.
У нее просторное лицо с широко поставленными глазами – сильное, достойное лицо казачки (и я сразу вспомнила, как она с первого взгляда понравилась Лене), только не идут ему нехитрые ухищрения косметики, в нитку выщипанные брови, взбитая сквозным шаром светлая прическа. Идут этому лицу красивые, серьезные и сейчас побелевшие губы. Этими губами она с трудом выговаривает:
– Скоро год. А ни одного светлого дня. Все черные.
Она вышла замуж очень молодой и почти тотчас осталась одна. Уехала из родного города вместе с ребенком, жили они вдвоем, по долгим дорогам колесили вместе, вернулись в родные места (Боре было восемь), и когда мать вышла замуж, они с сыном все равно были вдвоем. Ей казалось, что отчим недостаточно ласков с мальчиком. «Я, как кошка, дралась за сына»,– говорит она с гордостью, вряд ли оправданной, потому что отчим был .добрым, тихим человеком, Борис его любил, но все же не так, как любил мать. Элла Степановна в те времена много болела, и мальчик ухаживал за ней с такой заботой, что ей (говорила она тогда, смеясь) и докторов не нужно было. Учился он хорошо, музыкальность его тотчас была замечена. И вот опять, как всегда, вдвоем – красивая энергичная женщина и тонкий весе-
ЛЬШ мальчик-очкарик – отправились они в областной центр. Музыкальное училище?– нашли. Квартиру?– нашли. Репетитора?– нашли. И даже занимались вместе: что можно было, мать спрашивала по учебнику, а он отвечал. Это было их общее торжество, когда Борис, прекрасно сдав экзамен, был принят. Надо ли говорить, что на квартиру, где он жил, шли груды продуктов и банки домашних «закруток».
– До марта ничего худого за ним не замечала, вел себя хорошо,– говорит Элла Степановна и добавляет горько: – Дите, хорошее дите.
Когда он приезжал домой, начинался праздник – веселый любимый мальчик, само внимание, сама забота – и родителям тоже хотелось его порадовать, был предрешен великий подарок – мотоцикл; о котором Борис жарко мечтал. Тогда-то он и просил разрешения привезти Лену, тогда-то она и приехала, всех очаровав.
А летом сына словно подменили.
– Скрытный стал,– говорит Элла Степановна тем тихим, таинственным голосом, каким говорят: «воровать стал» или «пить начал»,– ни о чем не хотел со мной разговаривать. И все к почтовому ящику. Я спрашиваю: «Что у тебя с Леной?» Молчит. Понимаете? Раньше все мне рассказывал, а теперь молчит. Раньше мои дела по цеху его интересовали, а теперь и не спросит. Все к своему почтовому ящику.
«Здравствуй, Леночка! Я не думал получить письмо так быстро, просто так, по инерции, потопал к почтовому ящику – и вдруг нашел твое письмо! А у меня как раз сегодня такое настроение паршивое, что не знаю, куда от себя деться... Леночка! Можно я приеду к тебе на полдня? Я так за тобой соскучился, что ты представить себе не можешь. Я только погляжу на тебя и уеду. А твоих пляшущих человечков я не могу разгадать, у меня нет ключа». Ну скажите, ну разве не беда? – получил человек письмо, а она валяет дурака и пишет (может быть, даже самое главное!) конан -дойлевскими пляшущими человечками, жди теперь, когда достанешь книжку. Дите, хорошее дите, только вот тоска уже не детская.
А Элла Степановна (я следую ее рассказу) места себе не находила. Послала мужа («Тебе, мужчине, проще, узнай, что у них с Леной»), муж покорно пошел в сарайчик, где жил Борис, разговаривал, «много приводил жизненных примеров», сын со всем соглашался, но на вопросы не отвечал. Как чужой.
Нет, конечно, все началось задолго до того дня, когда Борис заговорил о женитьбе.
– Тогда уж я стала сама с ним разговаривать,– продолжает Элла Степановна.– «Боря, говорю, у вас с Леной должны быть только ученические отношения, исключительно ученические!» Вы думаете, что тут он мне что-нибудь ответил? Ничего! А уж как он стал чудесить после ее отъезда!
«Здравствуй, любовь моя, Ленка! Я сейчас буду тебе душу изливать. Начнем с твоего отъезда и дальше в хронологическом порядке. Значит так. Как только ты уехала, я вернулся домой и до обеда провалялся в трансе, а потом вспомнил, что мама мне задала кучу дел. Пришлось вставать и за дело приниматься. Ремонт у нас, сегодня с батей ванну ставили, еще надо рамы на веранде сделать, а потому сказать тебе, когда приеду, не могу. Кто его знает, что мать еще придумает. Я и так уж ей половину проводки поменял. Током бы меня стукнуло, что ли?»
Скажите мне, какие школы, какие курсы должны проходить матери, чтобы они научились понимать сыновей? Какие университеты? Когда женщина растит сына одна, меж ними обычно возникает особо счастливое товарищество, основанное на взаимопониманий, которое возникает не просто от совместного житья, но в том многослойном процессе выращивания, о котором мы уже говорили. Тогда-то всходят и нежно переплетаются между собой самые заветные привязанности. Они всегда под угрозой, потому что жизнь вечно будет их испытывать. Каждая мать знает, что настанет время иных интересов, иных дружб – и, наконец, любви. Придется пережить потерю власти (а у какой матери ее поначалу нет?), утрату собственности (а какая мать не ощущает ребенка как собственность?). Теоретически это всем известно, но когда доходит до дела, требуется умение и даже искусство, чтобы при крутых поворотах не порвались связи. Элла Степановна, неглупый чело век, уважаемая женщина, мастер цеха, о таком искусстве не знает ничего. Просто ничего.
– Я ему говорю: «Ты ведешь себя неприлично по отношению к матери!– продолжает она, разгорячась.– Ты что, не видишь: мать нервничает». А он уйдет к себе в сарайчик и ничего не скажет. «До какого времени,– кричу,– ты надо мной издеваться будешь?!»
«Знаешь, Ленка, после твоего отъезда время для меня снова остановилось. Те три дня, что мы были с тобой, промелькнули, как один миг. Не успел оглянуться и уже снова один. Аленка, милая моя, любимая, медвежонок мой маленький, неуклюжий, без тебя мне не жизнь. Ну ладно, поплакался, ты еще и не поверишь мне, скажешь – трепач. До свидания, дорогая и многоуважаемая Елена Валентиновна! Надеюсь на скорое свидание. Припадаю к стопам. Ваш верный слуга Борис».
Стала Элла Степановна с мужем держать совет: что делать? Пропал у парня интерес к жизни. Давно надо о приписном свидетельстве в военкомат думать – не думает. Решили: это переходный возраст. Опасный возраст, когда нужна осторожность. И было постановлено: больше не ждать, а сразу купить сыну мотоцикл.
То, что произошло дальше, ударило мать в самое сердце: отказался! «Не надо»,– сказал. Уходила, на глазах уходила власть над сыном, и не было сил ее вернуть.
Однако, отказавшись от мотоцикла, он с неожиданной легкостью согласился на шитье костюма, но это (новое оскорбление!) оказалось уловкой – за отрезом надо было ехать в город, а в городе кто живет? Во время этой поездки он и сказал матери о намерении жениться.
Это было, как удар грома, ошеломивший, лишивший языка! Какая женитьба?! Учеба, вот о чем надо думать (опять ошибка, вечная ошибка родителей, которые убеждены, будто на время учебы юная жизнь должна впасть в анабиоз, и только та часть сознания, что ведает учебной программой, пусть будет включена и работает).
А в бессонные ночи после их разговора она лежала и думала: ребятишки еще, не знают, что ранние браки не живучи, не представляют, каково это, в двадцать остаться одной с ребенком на руках. А при мысли, что ее мальчик начнет жизнь с забот, с пеленок, опутанный алиментами... Загубит, загубит он свою молодость, свой талант!
И она сделала еще одну попытку сближения. У нее скопились деньги, крупная сумма, которую она теперь решила положить в сберкассу на имя сына. Рассказывая мне об этом, Элла Степановна горько заплакала – впервые за весь рассказ.
– Если бы моя мать,– говорила она всхлипывая,– такое для меня сделала, я бы ноги ей целовала! А он? «Мне ничего не надо. Оформляй на себя».
Разъезжалось, расползалось взаимопонимание, уступая место отчуждению и разладу.
Он уехал из дому (как мы помним, раньше начала занятий), к этому времени он уже действительно жил у Лены, и чуткая «полиция нравов» сняла свой пост.
Да, она тогда «крепко ругалась» на сына за учебу (боже мой, смерть уже давно все расставила по местам, а эта несчастная женщина все еще говорит о зачетах и прогулах!), требовала, чтобы назавтра оба явились в училище и чтобы вызвали Ленину мать. Но это не все – и я вынуждена длить пытку, задавать свои вопросы – ей, потерявшей единственного сына (я знаю, что теперь она ни минуты не может оставаться одна и нет у нее ночей). Не все это, не все, и я спрашиваю, не говорила ли она еще чего-нибудь. Нет, больше ничего. Наутро они с мужем ждали ребят к назначенному сроку возле училища, потом отчим уехал за ними, Элла Степановна осталась одна у ворот, к ней подошел Саша (вот он, тот разговор, который мне нужно проверить), и она сказала ему: езжай за ними, скажи, чтоб приходили,
– И больше ничего?– спрашиваю.
И тут ее лицо словно бы начинает раскаляться.
– Вы думаете – что,– вдруг говорит она,– я не понимаю, к чему вы подбираетесь? Да, я сказала: не откроют, взломаем дверь с милицией.
– И больше ничего?
Молчит. Не может она, не в силах выговорить теперь своих тогдашних слов, да и как их выговоришь? «Взломаем дверь с милицией, и Лену будут судить за проституцию»,– вот что она тогда сказала.
«Здравствуй, моя любимая Лёнка-Алёнка, мой толстенький колобок. Пишу, как всегда, вечером. Настроение паршивое, скучаю за тобой. Уж и не дождусь, когда мы будем вместе с тобой навсегда. Создадим образцово-показательную семью. Ах, как я за тобой соскучился, медвежоночек мой! Твой Боб».
– Что же, он не знал моего характера? – стонет Элла Степановна. – Я накричу, нашумлю, а потом отхожу ведь быстро! Я просто так тогда Саше сказала. Я бесшабашно сказала!
И снова ошибка, грубейшая: не смеет мать говорить бесшабашные слова, когда речь идет о предметах, дорогих для сына (слово может ранить сильнее ножа – это азы). Но здесь, разумеется, была не бесшабашность, а сердечная судорога, тот злой огонь души, в котором деформируются, корежатся ее устои. Элла Степановна уже забыла о том, чтобы сделать как лучше, она вообще забылась, потеряла себя. Ею уже владела жажда сделать больно, сломить гордость (а ребята были гордые), взять в клещи (а ребята из ее клещей ускользнули тем способом, который казался им единственным).
Она уверяет, что страшных слов, сказанных наутро Саше, в вечернем разговоре не говорила. Но, увы, мы Должны ее опровергнуть. Когда Саша (кстати, с детства привыкший уважать Эллу Степановну) пришел к ребятам после ее ухода, Борис успел сказать, что «скандал был в основном на Лену». Да и требование, чтобы они явились вдвоем и чтобы вызвали Ленину мать, к Борисовой учебе отношения не имело. Нет, не кончают с собой люди из-за выговора по поводу успеваемости. Помните, мы говорили, что обязанность матери – защищать своего ребенка, а тут мать грозила сыну судом и милицией только за то, что он влюблен.
Можно было бы многое сказать в укор погибшим – они думали только о своей боли. И как бы ни была трагична ситуация, нельзя приглашать партнером смерть – это страшная гостья; она – распад, разложение, конец. Нельзя прибегать к ней как к аргументу в жизненном споре.
Но все это трезвые рассуждения на уровне жизненного опыта, а у ребят его не было.
Однажды я рассказала эту историю на заводе в большой аудитории, и, когда дело дошло до слов «взломаем дверь... будут судить», зал в ответ только что не застонал. А чего стоило Лене выслушать эти слова? А что делалось в душе Бориса, когда он их – очень всерьез! – услышал из уст матери? Мир стал другим, жизнь сдвинулась и разом потемнела. Утро шло на них как погибель, грозило самой страшной из всех пыток – унижением. Они метались, мысль о том, что грязные обвинения будут произнесены публично, что им поверят, сводила их с ума. Говорят, утро вечера мудренее, но тянулась длинная зимняя ночь, тянулась, множила, вздувала кошмары, а утро грозило торговой казнью. Как защитить своего медвежонка, Борис не придумал. Запереться?– взломает дверь с милицией. Бежать?– всюду найдет с ее-то энергией. А может быть, у них не было душевных сил, чтобы бежать? А может быть, уже было в их душе отчаянное, мстительное: хочешь взять нас в клещи? Мы ушли.