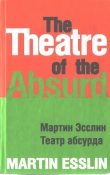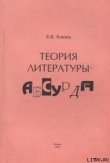Текст книги "Абсурд и вокруг: сборник статей"
Автор книги: Ольга Буренина
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
Пелевин и знаки
С некоторых пор недоверие философии оказывается более или менее распространенной позицией интеллектуалов. Конечно, речь может идти об исследовательской недобросовестности тех, кто называет себя философами, или о том, что философия сыграла свою роль и перестала быть актуальной вообще (позитивистский взгляд). Пелевин также не доверяет философам [435]435
«Был бы Ты философ, – сказал Чапаев, – я б тебя выше, чем навоз в конюшне чистить, не поставил бы»; «Да и к тому же не сам ли я говорил…, что философию правильнее было бы называть софиоложеством?» (Пелевин 1999: 173).
[Закрыть]. Правда, такое недоверие связано не с дисфункциональностью философии, но, напротив, с тем, что она слишком хорошо выполняет свою задачу – создает то, что мы считаем «миром» [436]436
«И Аристотеля этого мы потому именно и рисуем, что это он реальность… придумал» (Пелевин 1999: 136). Удар бюстом Аристотеля по голове (Там же: 138) имеет отчетливую связь с практиками достижения просветления в чань-буддизме.
[Закрыть]. Речь здесь, конечно же, не о мире, а о специфическом способе доступа к нему, который в философии Камю обозначался как абсурд [437]437
«Абсурд равно зависит и от человека, и от мира. Пока он – единственная связь между ними» (Камю 1990: 34).
[Закрыть]. Но если для Камю абсурд – неизбежная судьба человека в мире, то для Пелевина утверждение такой логики – скверное дело философии, что следует дезавуировать и критиковать [438]438
В этом существенное отличие подхода Пелевина от его предшественников. Так, например, если Кэрролл «всего лишь играл в логическую игру…» (Кэрролл 1978: 236), то у Пелевина – игра метафизическая (но эта игра тесным образом связана с теми идеологическими играми, в которые играли писатели, такие как В. Войнович, и в еще большей мере – все постсоветское общество).
[Закрыть]. Представление, что невозможно никакое непосредственное отношение с миром (и, соответственно, что детский опыт – чистейшей воды иллюзия), для Пелевина не более чем подмена реальности, утверждение вместо нее иллюзий, снов [439]439
См. рассказ «Спи»: важно, что практика сонливости восходит именно к лекциям по философии. Следует также отметить, что сонливость – не индивидуальная реакция Пелевина, а скорее проявление общего в художественных вузах отношения к философии в том виде, в каком она преподавалась (образ философа в Литинституте, см. Пелевин 2001: 258).
[Закрыть]. Для того чтобы поддерживать режим абсурда в отношении с миром, необходимо такое представление, которое бы опосредовало это отношение [440]440
Например, представление о бревне, ноше, которую мы должны нести всю свою жизнь (Пелевин 2001: 379). Следует иметь в виду отсылку к господствовавшей долгое время идеологии («Ленин несет бревно на субботнике»).
[Закрыть]. Здесь имеется в виду не какое-то одно конкретное представление, значение или знак, а все общезначимое пространство смысла, поскольку, отрицая одно представление, мы утверждаем другое и тем самым оказываемся по-прежнему не способны вырваться к реальности. Можно сказать, что в корне недоверия философии у Пелевина лежит неприятие любых философских концепций.
Говоря о мысли без концепций или чистой мысли, невольно думаешь, что Пелевин утверждает смысл без значения. Эту парадоксальную претензию долгое время питала восточная мысль, что делало ее весьма сходной с вышеописанным христианским пониманием смысла – говорить о неизречимом, называя не поддающееся именованию [441]441
См., например: Хин-Шун 1972: 115. Даосская традиция сильно повлияла на чань-буддизм.
[Закрыть]. Правда, в отличие от сакрального абсурда в христианстве, у Пелевина, как и в ряде восточных учений (речь, конечно, идет прежде всего об оказавшем определяющее влияние на Пелевина (чань)буддизме), абсурд предстает неизменным свойством повседневного мира, утверждением неприемлемости мира для человека. Абсурд утверждается не только в концепциях философов, но во всех используемых в обыденной практике знаковых системах (здесь имеет место специфический круг: чувство абсурда в обыденном сознании стимулирует философию абсурда, и наоборот). Однако важно то, что этот абсурд привычно воспринимается как смысл всей действительности и для утверждения подлинного смысла оказывается необходимым разоблачить абсурд как таковой.
Разоблачение абсурда у Пелевина подразумевает дискредитацию значений и их систем [442]442
Именно поэтому «прозу Пелевина можно назвать прозой мерцающих смыслов» (Пугачева 2000а: 184). В отличие от традиционного подхода, когда «писатель умножает значения, оставляя их незавершенными и незамкнутыми» (Барт 1994:284), Пелевин пытается занимать позицию исключительно критическую.
[Закрыть]. При этом он широко использует технику, которую я в дальнейшем буду называть «подлогом» [443]443
Иначе эту технику можно назвать «шизофренией словосочетаний», как это делает Т. Л. Пугачева (при этом она, правда, описывает ее скорее как некую мистическую перекодировку: «заполнять этот образовавшийся семантический вакуум новым, а правильнее будет сказать, более древним смыслом» (Пугачева 20006:202)). Я использую именно понятие «подлога», как аллюзию к постмодернистским концепциям (в частности, к специфической интерпретации А. Пешковым хайдегтеровского понятия Unterlage, а также к концепциям симулякра). Стоит, однако, учитывать, что эта специфическая техника осуществлялась задолго до Пелевина, значение же его работы – в активном и методическом использовании подлога для дискредитации значений.
[Закрыть].
Элементарное применение этой техники состоит в том, что замена одних слов другими создает напряжение (или, пользуясь терминологией Лотмана, «смысловой взрыв») между привычной и актуальной речью, которое вызывает по меньшей мере смех [444]444
Смех чаще всего является первичным откликом на абсурд, свидетельствующим, что лингвистический редукционизм – не более чем смелая идеализация: «Смех как бурная реакция на физиологический предел мысли, – невозможность войти в другие ритмы жизни…» (Подорога 1995: 14).
[Закрыть], а по большей – отчуждение значений как таковых.
Поскольку примерами такого рода пестрит вся проза Пелевина, рассмотрим только один фрагмент из рассказа «День бульдозериста», в котором встречаются одновременно два способа применения этой техники:
Это Васька предложил, из «Красного полураспада»… Умный, май твоему урожаю…
Иван вспомнил – так называлась заводская многотиражка, которую ему пару раз приходилось видеть. Ее было тяжело читать, потому что все там называлось иначе, чем на самом деле: линия сборки водородных бомб, где работал Иван, упоминалась как «цех плюшевой игрушки средней мягкости», так что оставалось только гадать, что такое, например, «цех синтетических елок» или «отдел электрических кукол»… [445]445
Пелевин 2001: 560
[Закрыть].
С одной стороны, Пелевин здесь приводит весьма специфическое ругательство (кроме «май твоему урожаю» в рассказе встречаются также «май его знает», «труд твоей матери» и пр.). В этом ругательстве один из важных знаков советской идеологии подменяет мат (в отличие от контаминаций типа блин, елки-палки, японский городовойи др., данный случай может быть представлен как применение тактики семиотической игры, когда один перенасыщенный значением знак используется вместо другого). При этом Пелевин не только осмеивает советский лексикон, но также показывает и условность мата (часто кажущегося универсальным кодом в русскоязычных странах). Однако в данном случае смысл замены прозрачен. Другое применение подлога, которое Пелевин использует в данном фрагменте, состоит в том, что читателю предлагается по заданной модели самому найти скрытое значение «цеха синтетических елок» или «отдела электрических кукол» (при этом вряд ли стоит говорить, что в данном случае у всех читателей возникнет одинаковая интерпретация).
Однако Пелевин не останавливается на этом элементарном уровне, практикуя подлог на уровне отдельных частей или даже произведений в целом. Ярким примером этого являются рассказы «Ника» и «Зигмунд в кафе». Однако в некотором смысле можно говорить о том, что эта техника является нервом всех произведений Пелевина. При этом цель, преследуемая Пелевиным, выходит за пределы только игры значений или фиксации двусмысленности ситуации, он пытается осуществлять нечто вроде терапии, излечения от болезненного влияния многочисленных семиотических систем (пациентом выступает сам Пелевин и любой его читатель), и именно поэтому его тексты производят такой большой общественный резонанс [446]446
То, что восприятие Пелевина варьируется от включения его в школьную программу русской литературы до общественных акций по уничтожению его книг как «порнографии», показывает неоднородность отношения к смыслу в современном русском обществе. Вместе с тем, важно отметить, что большинство противников Пелевина его не читали, а достаточным основанием для его осуждения (кроме совершенно вопиющих случаев, когда никакого представления о критикуемом вообще нет, а есть, например, политический заказ) считают то, что он противоречит концепции универсального смысла.
[Закрыть]. Подлог – это техника работы со значениями, которые представляются как сами по себе подложные, это старый русский принцип «клин клином вышибают». Но терапия от неврозов, которые суть результаты деятельности семиотических систем (и в особенности от того, что в постмодернистской критике именуется «метарассказом»), – не конечная цель работы Пелевина.
Как и всякая критика метафизики, подход Пелевина утверждает специфическую ей альтернативу. Чем же она существенно отличается от постижения смысла в философской традиции? Прежде всего очевидно, что Пелевин принципиально критичен по отношению к античной традиции регистрации тотального порядка, универсального смысла. Универсальность смысла означала бы, что критика значений должна ограничиваться их исправлением, но Пелевин говорит не об их исправлении, а об отказе от них. Здесь Пелевин ближе христианской концепции смысла. Но с его точки зрения абсурд свойствен не сверхъестественному, а, напротив, естественному [447]447
При этом, в отличие от ряда восточных культов, Пелевин утверждает ясность, очевидность и простоту сверхъестественного смысла, напоминающие философию Декарта.
[Закрыть]. Кроме того, если в христианстве утверждается возможность исправления имен (с точки зрения усмотрения их изначального единства с универсалиями или согласованием имен в различных языках), то Пелевин не придает этому никакого значения (основное значение знака – в том, что он выводит за пределы всяких значений). Более того, Пелевин недолюбливает философию и за попытку создать некоторую всеобщую семиотическую систему, поскольку его задачей выступает десемантизация сознания [448]448
«Фиксация механических циклов сознания с целью окончательного излечения от так называемой внутренней жизни» (Пелевин 1999: 7). Естественно, что в рамках литературы Пелевин не может реализовать этот проект полностью (если развивать пелевинскую метафору, то имеет смысл обратить внимание на то, что психотерапия в определенном смысле служит толчком к болезни).
[Закрыть].
Очевидно, следовательно, его отрицательное отношение ко всякой попытке утверждения единства смысла в межкультурной коммуникации – посредством абсолютизации одной из культур или отстаивания некой универсальной семиотической системы. Однако нельзя сказать, что Пелевин утверждает смысловое разнообразие, напротив, он говорит о едином смысле, с которым многообразие семиотических систем разных культур связано в очень слабой мере. Такая связность определяется тем, как каждая из культур ограничивала себя в постижении подлинного смысла (вопрос непостижимости метафизического порядка или отсутствия адекватных имен для его описания), т. е. как каждая культура выявляла собственную абсурдность [449]449
Правда, следует учитывать, что некоторые из культур (прежде всего культура чань-буддийских сообществ или постсоветский нигилизм) все же в большей мере способствуют подключению к этому смыслу, чем другие.
[Закрыть]. Поскольку реализовать эту тенденцию самостоятельно может весьма небольшое количество культур, то здесь чрезвычайно большое значение приобретает межкультурное взаимодействие. Но, в отличие от постмодернистского или диалогического видения интеркультуры, согласно Пелевину, важную роль она играет именно потому, что различные культуры доказывают абсурдность друг друга и тем самым освобождают путь к смыслу [450]450
Можно сколь угодно долго доказывать, например, продуктивность развития туземных культур или даже прирост системы всеобщих значений в связи с появлением, например, у полинезийцев танцев «пишущая машинка» или «взлетающий самолет», но вряд ли можно отрицать некоторую дискредитацию в связи с этим устоявшейся системы значений. Преимущество Пелевина – в фиксации и методичном культивировании контаминации и подлога, которые массово осуществляются в условиях интеркультурности.
[Закрыть]. В культурах, включенных в интеркультуру, уже никому не надо доказывать, что значения относительны и чаще всего вообще произвольны.
Нельзя сказать, что Пелевин вообще исключает метафизику. Скорее, речь идет о принципиально ином регистре метафизики – без создания какой-либо семиотической системы описания сверхъестественного порядка [451]451
Что касается «Чапаева и пустоты», я согласен с тем, что «достоинство романа в том, что… он не создает некоего метанарратива» (Шпарага 2000: 145). Но нельзя отрицать, что Пелевин не только активно работает с метанарративами, но практически во всех своих произведениях имеет в виду некий, я бы сказал, «невозможный» (поскольку он именует неименуемое или, если угодно, рассказывает нерассказываемое) метанарратив, фрагментарно проявляющийся в том числе в «Чапаеве и пустоте». Например, одним из таких фрагментов (с моей точки зрения важным), например, является следующий: «…пока идиоты взрослые заняты переустройством выдуманного ими мира, дети продолжают жить в реальности – среди заснеженных гор и солнечного света…» (Пелевин 1999:88).
[Закрыть]. Отрицать метафизический план столь же нелепо, сколь отвергать реальность мира, – такое отрицание необходимо создает заменитель метафизики, утверждает новый метанарратив или новую форму метафизики, что прекрасно видно на примере всех критик метафизики в философии XIX–XX вв. [452]452
Данное высказывание может показаться слишком радикальным, учитывая вроде бы позитивный опыт антиметафизики в позитивистски ориентированной философии. Однако стоит обратить внимание, во-первых, на то, что для отрицания метафизики требуются обоснования, которые вряд ли могут быть осуществлены вне самой метафизики, а кроме того, на то, что поддержание антиметафизики нуждается в специалистах, разбирающихся в метафизике (некая полиция смысла). То, что проект отрицания метафизики в рамках позитивистски ориентированной философии не вполне удачен, прекрасно видно уже потому, что в постпозитивизме происходит смягчение критичности и даже обоснование необходимости метафизики.
[Закрыть]С другой стороны, говорить о том, что та или иная семиотическая система (концепция, культура) адекватно описывает сверхъестественный порядок, – значит сводить его к нашим абстрактным фантазиям об универсальности. В той мере, в какой Пелевин показывает нам ограниченность смысла наших значений, знаковую пустоту, он осуществляет философскую задачу, будучи менее конъюнктурен, чем его многочисленные критики. И еще важнее понять, что «Пелевин» – это знак, который, как и все прочие, абсурден и к смыслу никакого отношения не имеет [453]453
Дискредитация тех знаков (имен и характеристик), которые мы используем в собственной самоидентификации, – тема практически всех пелевинских работ (хотя, конечно, самым удачным знаком такого рода, подчеркивающим свою оторванность от смысла, является фамилия Петьки – Пустота).
[Закрыть].
Литература
Арнольд 1999 – И. В. Арнольд.Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб., 1999.
Барт 1994 – Р. Барт.Избранные произведения: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
Библер 1991 – В. С. Библер.От наукоучения – к логике культуры. М., 1991.
Б юл ер 1993 – К. Бюлер.Теория языка: Репрезентативная функция языка. М., 1993.
Горский, Петров 1987 – Философия. Логика. Язык / Общ. ред. Д. П. Горского, В. В. Петрова; Сост. и предисл. В. В. Петрова. М., 1987.
Делёз; Фуко 1998 – Ж. Дела. Логика смысла. М. Фуко.Theatrum philo-sophicum.M., 1998.
Камю 1990 – А. Камю.Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990.
Карнап 2000 – Р. Карнап.Значение и необходимость. Биробиджан, 2000.
Клюев 2000 – Е. В. Клюев.Теория литературы абсурда. М., 2000.
Коган 1992 —Л. Н. Коган.Социология культуры. Екатеринбург, 1992.
Кэрролл 1978 – Л. Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. М., 1978.
Леонтьев 1975 – А. Н. Леонтьев.Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
Лотман 1992 – Ю. М. Лотман.Избранные статьи. В 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культур, Таллинн, 1992.
Михайлов 1992 – В. А. Михайлов.Смысл и значение в системах речемыслительной деятельности. СПб., 1992.
Можейко 1999 – М. А. Можейко.Становление теории нелинейных динамик в современной культуре. Мн., 1999.
Ницше 1990 – Ф. Ницше.Так говорил Заратустра. М., 1990.
Опарина 1999 – Язык и культура/Отв. ред. Е. О. Опарина. М., 1999.
Пелевин 1999 – В. Пелевин.Чапаев и пустота. М., 1999.
Пелевин 2001 – В. Пелевин.Generation «П»; Рассказы. М., 2001.
Пирс 2000 – Ч. С. Пирс.Избранные философские произведения. М., 2000.
Подорога 1995 – В. Подорога.Выражение и смысл. М., 1995.
Пугачева 2000а – Т. Пугачева.Особенности творческого метода В. Пелевина // Славянсюя лггэратуры у кантэксте сусветнай. Ч. 2. Мн., 2000.
Пугачева 20006 – Т. Л. Пугачева.Языковые проблемы в прозе В. Пелевина// Русский язык в изменяющемся мире. Ч. 2. Мн., 2000.
Смирнов 1999 – И. Смирнов.Homo homini philosophus… СПб., 1999.
Смирнов, Васюков, Шульга 1999 – Философия и логика Львовско-Варшавской школы / Сост. В. А. Смирнов, В. Л. Васюков; Отв. ред. Е. Н. Шульга. М., 1999.
Фреге 1997 – Г. Фреге.Избранные работы. М., 1997.
Хин-шун 1972 – Древнекитайская философия: Собрание текстов. В 2 т. / Сост. Ян Хин-Шуна. Т. 1. М., 1972.
Шпарата 2000 – О. Шпарага.Введение в теорию пустоты(развернутую в романе В. Пелевина «Чапаев и пустота») //Топос. 2000. № 3.
Шпенглер 1998 – О. Шпенглер.Закат Европы. Мн., 1998.
VIII
Абсурд и мистическая мысль
Нора Букс (Париж)
Имя как прием
К разгадке псевдонима Даниила Хармса
И приди, взгляни на тайну слова.
Зоар, 1,1196
Эта небольшая статья содержит претенциозную заявку: подойти к исследованию поэтики Хармса в свете увлечения писателем еврейской религиозной мистикой, талмудической литературой и языком Торы. До недавнего времени некоторые опознанные следы древнееврейского языка в сочинениях Хармса, всегда с трудом прочитываемые в фонетической регистрации русского и, в силу искажения огласовкой, часто ошибочно переводимые, неизменно объяснялись интересом Хармса к оккультным наукам и магии и не отделялись от свидетельств, уводящих, например, в область египтологии. Исключением является книга М. Ямпольского, в которой отдельные приемы и образы Хармса, восходящие к иудаизму, рассмотрены в свете еврейской средневековой философии и религиозной символики [454]454
Ямпольский 1988.
[Закрыть]Но в целом подтекст еврейской мистики в творчестве Хармса пока едва обозначен, и соответственно не осмыслена его роль в художественной лаборатории писателя.
О значимости этого источника у Хармса свидетельствуют его записные книжки, недавно опубликованные, где в характерной для автора манере краткого конспектирования приводится информация по истории Талмуда, упоминаются жанры раввинистической литературы, Аггада. В них отражен острый интерес Хармса к Зоару, главному каббалистическому тексту, и к трудам о каббале, интерес к литературе на иврите и идише, к занятиям древнееврейским, и на страницах хармсовских книжек даже находятся образчики литературной игры на этом языке. Записи Хармса – следы занятий, чтений и размышлений, которые не могли не оказать влияния на его творчество.
Набоков говорил, что литературное расследование подобно полицейскому. Предлагаемая статья – первый его шаг. Цель, как и водится, выяснение имени, литературного имени писателя.
В истории русской словесности псевдоним Даниила Ивановича Ювачева относится к числу нераскрытых. Эзотерический характер творчества писателя убеждает, что псевдоним был для него не просто литературной маской, подчиненной эстетическим императивам.
Хармс выбирает псевдоним с первых литературных опытов. Как пишет Сажин, впервые он появляется в виде трех латинских букв – DCH – в произведении 1922 года [455]455
Сажин 2000:8.
[Закрыть], видимо, инициалов уже найденного к тому времени имени: Daniel Charms.
Согласно Ж.-Ф. Жаккару, английский вариант псевдонима фигурирует под рисунками 1922 года, а в 1924 г. – на первой странице записной книжки [456]456
Жаккар 1995: 265
[Закрыть].
Имя Даниил Хармсписатель сохраняет практически в течение всей жизни, а в определенный момент даже заносит его в паспорт. Однако псевдоним этот у Ювачева не единственный. В общей сложности исследователи насчитывают их около тридцати [457]457
Александров 1991: 13. Наиболее подробно псевдонимы писателя рассмотрены в статье Е. Остроумовой и Ф. Кувшинова «Псевдонимы Д. И. Хармса», опубликованной в Интернете: http: xarms.lipetsk.ru texts ostrl.html text.
[Закрыть], но почти все, за исключением «детских», произрастают из главного – Даниил Хармс. Так, например, писатель вводит в имя вторую букву: Даниэль Хаармсъ, Хаармс или Ххармс; пишет свой псевдоним на манер фамилии героя Конан Дойля, чей костюм в это время носит: Хормс, Хоермс (что может быть понято как стремление к единой маске, вербальной и визуальной); пишет имя по-английски – Charms – или в русской орфографии воспроизводит его фонетические французский и английский варианты – Шарм, Чармс, – создавая из разных языков, как из разных материалов, копии; внедряет первый слог имени в написанный в орфографии русского французский вариант псевдонима – Шар-да-м [458]458
Ямпольский предлагает другое толкование, см. Ямпольский 1998: 196.
[Закрыть]– или составляет псевдоним из повторения первых трех букв имени: Даниил Дандан. Под отдельными текстами встречаются: Даниил Протопласт, Даниил Заточник, Дукон-Хармс, Гармониус [459]459
«Harmonius, написанный латинскими буквами, включает Harm… s» (Жаккар 1995: 266). К перечисленным псевдонимам следует добавить и те, которыми писатель подписывал сочинения для детей. Их приводит Жаккар (Там же).
[Закрыть].
Ясно, что Хармс придумывает не разные псевдонимы, а множит варианты одного, создает имена-паллиативы основного, возможно в подражание сакральному образцу. Представляется, что и сам хармсовский прием образования литературных масок путем буквенных или языковых манипуляций восходит к каббалистической практике, где потаенный мистический смысл слов добывают посредством перестановки и комбинирования букв.
В записной книжке Хармса (8, л. 53) встречается образчик такого словотворчества, но не по-русски и не на иврите, а на языке идиш, который Хармс, видимо, слышал в быту и, надо полагать, не особенно отличал от древнееврейского. Запись сделана в фонетической регистрации русского:
Последняя пара – восклицание сожаления на идише. Три паронима образуют комический сюжет в миниатюре.
Надо полагать, что к каббале восходит и встречающийся у Хармса прием удвоения буквы в слове, который понимается как графический знак божественного присутствия. Вводя его в фамилию (Хаармсъ), писатель семантически уравнивает ее с именем: Даниэль, последний слог которого Эль(-el) – одно из имен Бога на древнееврейском [461]461
Вейнберг 2002: 150.
[Закрыть]. Отмечу, что имя писателя в подписи 1931 года появляется в этой древнееврейской ветхозаветной форме Дaniel [462]462
Книга пророка Даниила в еврейском каноне называется «Даниэль».
[Закрыть].
Скрытая символическая симметрия этого варианта псевдонима закреплена графически – Даниэл ьХхармс ъ. Стремление сохранить симметрию, или равновесие с «небольшой погрешностью», по Я. Друскину [463]463
Друскин 1997.
[Закрыть], встречается и в псевдониме: Д. Хармс-Шардам (где второе имя, перевод на французский первого, приведено в регистрации русского – Шарм – и включает первый слог имени – Да-).
Но, как уже было сказано выше, главным литературным именем писателя на протяжении всего его творческого пути остается Даниил Хармс.
В хармсоведении известно несколько прочтений этого таинственного псевдонима.
Исследователи считают, что смысл его заявлен самим автором. Так, Ж.-Ф. Жаккар полагает, что слово образовано от английского слова charm [464]464
Жаккар 1995: 265.
[Закрыть], А. Александров – от французского charme [465]465
Александров 1991: 14.
[Закрыть].
Однако предлагаемое толкование противоречит в первую очередь эзотерическому характеру творчества писателя. Трудно согласиться, что Хармс, культивировавший поэтику тайны, создавший собственную тайнопись, сам раскрыл смысл псевдонима, приведя его в переводе на им же указанный язык.
Как человек, увлекавшийся мистикой, внимательно изучавший каббалу, Хармс верил, что магическая сила избранного имени, его защитная и креативная энергия сохраняются лишь при условии смысловой герметичности, непрочитываемости слова. Отношение к имени как к знаку, определяющему судьбу, отражено в записи, сделанной писателем 23 декабря 1936 года: «Вчера папа сказал, что пока я буду Хармс, меня будут преследовать нужды» [466]466
Запись в записной книжке от 23 декабря 1936 года.
[Закрыть].
Очевидно, что демонстративное воспроизведение имени в орфографии английского или французского служит у Хармса не семантическому опознанию, а наоборот, множит прием сокрытия имени в другом языке. Этот «другой» язык, в силу своей неузнанности, обретает смысл тайного кода, шифрует слово, сообщает ему магическую силу заклинания. Таких примеров в текстах Хармса немало. Один из них – фрагмент «Все люди любят деньги». Он заканчивается словом Шибейя,словом на древнееврейском. Хармс маскирует слово посредством фонетической регистрации и орфографии русского. Отличная от иврита огласовка вводит в заблуждение комментаторов: так, Сажин переводит слово как «что проблема!» [467]467
Хармс 2000, II 386.
[Закрыть], что звучит неправильно и странно как на иврите, так и по-русски и семантически не встраивается в текст.
Отказ от огласовки и перевод в орфографию иврита обнаруживает правильное слово – shvua ( швуа) «клятва». Она произносится в тексте в подкрепление сказанного. Будучи неузнанным, слово остается «неувиденным» в произведении, как деньги для рассказчика («Я же не отдаю деньгам особого внимания и просто ношу их в кошельке или в бумажнике, и по мере надобности, трачу их» [468]468
Там же: 232.
[Закрыть]). Можно предположить, что самим приемом Хармс закрепляет заявляемый отказ от идолопоклонничества, одну из главных заповедей Торы. Семантическая герметичность слова обусловлена его сакральным содержанием: клятва, согласно Галахе, законодательной части Талмуда, позитивная заповедь Торы и всегда, явно или неявно, содержит Имя Всевышнего. Сокрытие слова в другом языке может быть понято как художественная форма соблюдения запрета произнесения Священного Имени [469]469
Штейнзальц 1993:313.
[Закрыть].
Перевод высказывания на другой язык отожествляется у Хармса с переключением его в другой смысловой регистр. Так, в письме к Поляковой от 2ноября 1931 года [470]470
Хармс 2000, III: 138.
[Закрыть]Хармс рассказывает о своей любви к первой жене: «Это была Эстер (в переводе на русский звезда) (Примечательно, что имя осознается Хармсом как маска, скрывающая истинное значение слова, отсюда указание на прочтение имени в переводе. – Н. Б.)… Мы разговаривали с Эстер не по-русски, и ее имя я писал латинскими буквами…». Как и в случае с псевдонимом, язык высказывания умалчивается. Надо полагать, им был французский, так как Эстер Русакова была французской еврейкой, эмигрировавшей в Россию в 1919 году [471]471
А Александров пишет: «Эстер Русакова, первая жена поэта, прекрасно говорившая по-французски, но отвратительно по-русски, называла своего мужа Даниэль (…) В тесной близости с этим именем и возникает иноязычный псевдоним – Хармс. Исходное ядро в нем от французского charme, что означает „обаяние“, „чары“» (Александров 1991: 14). Отводя объяснение Александрова, отмечу, что «Даниэль» – на древнееврейском имя ветхозаветного пророка, с которым отожествлял себя Хармс.
Русакова была женой Хармса с 1925 по 1932 г. Отказ от русского в общении был продиктован скорее эстетическими причинами.
[Закрыть]. Биографический факт осмысляется литературно: любовь говорит на языке, отличном от общего, всем понятного, бытового.
Далее Хармс пишет, что из латинских букв имени Эстер он сделал монограмму и получилось изображение окна. Графическое воспроизведение имени превращает его в зримый знак, смысл которого вытесняется в отдаленное пространство, скрывается: звезда становится невидимой и представляется автору «далеким раем». (Ср. в приведенном выше варианте псевдонима (Даниэль Ххармсъ) аналогичное сокрытие высокого смысла слова при сохранении визуальной доступности графического знака.)
Мысль о возможном поиске значения псевдонима в других языках высказал Сажин [472]472
Сажин 2009: 9.
[Закрыть]. Он предложил два возможных ответа: санскритское Dharma, означающее «религиозный долг» и его исполнение, «праведность», и ивритское Herem, означающее, как пишет Сажин, «отлучение от синагоги» [473]473
Там же.
[Закрыть]. Надо полагать, что под «синагогой» комментатор имеет в виду общинную организацию евреев, в этом значении слово возникает в период эллинистической диаспоры (его греческое происхождение свидетельствует о сильном влиянии эллинистической культуры на иудаизм) и сохраняется на протяжении веков [474]474
Шиффман 2000: 87.
[Закрыть].
Herem, – отлучение от общины, мера, принимаемая религиозным судом, могла налагаться и на книги. Так, в начале XIII века, в результате дискуссий, в которых участвовали почти все еврейские общины, философия Моше Маймонида была признана реальной опасностью для религии и herem был наложен на его книгу «Путеводитель растерянных» [475]475
Сират 2003: 335–339.
[Закрыть].
Однако оба слова, привлеченные исследователем по принципу фонетического сходства с именем, не объясняют возможный их выбор в качестве псевдонима и тем более не раскрывают смысл псевдонима в контексте творчества писателя.
В литературе о псевдонимах пример Хармса часто рассматривают как образец эстетической игры [476]476
Бенчич 2001: 127.
[Закрыть]. Вопрос кажется гораздо сложнее.
Напомню, что псевдоним писателя Даниила Ивановича Ювачева состоит из двух слов, и первое – его настоящее имя. Сохранение реального омонима в псевдониме – доказательство его значимости для носителя. Это подтверждают свидетельства мемуаристов и факты биографии писателя.
Хармс родился в день памяти ветхозаветного пророка Даниила и был назван в его честь. Хармсоведы обычно приводят свидетельство отца писателя, которому за две недели до рождения сына во сне явился пророк Даниил. Сон был воспринят как пророчество. Для самого Хармса пророк Даниил был важной знаковой фигурой. Ямпольский полагает, что Хармс «сознательно идентифицировал себя с библейским Даниилом» [477]477
Ямпольский 1998: 258.
[Закрыть]и это узнается в постоянной оглядке писателя на ветхозаветный образ при выборе жизненной и художественной стратегии.
Стремление к отождествлению, возможно, определило и решение молодого Ювачева избрать псевдоним. Как известно, Даниил по приказу царя Навуходоносора, в числе отроков «красивых видом и понятливых для всякой науки» (Дан 1 4) был привезен из Иерусалима в Вавилон, где сообразно с вавилонским обычаем был переименован в Валтасара.
Вся его деятельность тайноведа и волхва проходила под псевдонимом. Однако на протяжении всего повествования Даниил постоянно выступает под двумя именами, настоящим и принятым, что, фактически, и было повторено Хармсом.
Даниилу, единственному из отроков (остальные получают арамейские имена), Навуходоносор дает имя вавилонского бога Beltchazar. Имя расшифровывается как «бог, который хранит сокровища Вавилона» [478]478
Daniel 1979: 66.
[Закрыть].
Такую модель – называние Бога в имени, данном при рождении (Дани-Эль), и языческого бога в псевдониме – Хармс рекреирует в одном из вариантов. Публикаторы архивов обнаружили в бумагах Хармса 1924 года рисунок с подписью «Тот». Тот – египетский бог мудрости, счета и письма [479]479
Сажин 2000: 9.
[Закрыть], в оккультизме «отожествлялся с греческим Гермесом, посланцем Зевса, „хозяином тайн“» [480]480
Натан 1989: 178.
[Закрыть]и Гермесом Трисмегистом [481]481
Блаватская 1994: 135. Арабские герметисты отожествляли Гермеса с Енохом, библейским патриархом, правнуком Ноя. Известна книга Еноха, состоящая из пяти частей. Третья ее часть, Еврейская книга Еноха, название которой «Книга небесных дворцов», описывает путешествие палестинского ученого и законоучителя раби Ишмаэла на небеса, где он был удостоен видения Трона Славы Господа Бога и Божественной Колесницы – Меркавы. Книга является знаменитым текстом еврейской мистической традиции, связанной с экстатическими небесными путешествиями и видениями пророков (Тантлевский 2002:162–170). По наблюдению ученых, некоторые пассажи Книги Еноха близки к тексту Книги Даниила (Scholem 1965).
[Закрыть], которому приписывают авторство раннего герметического произведения «Божественный Пимандр». В записных книжках Хармса есть запись, подтверждающая продуманный ход шифровки подписи:
Велик соблазн увидеть в псевдониме писателя Хармсимя Hermese. Однако предположение не выдерживает проверки, ибо любое саморазглашение псевдонима, как и объяснение судьбоносного слова, для Хармса исключено, а подпись «Тот» напрямую связывает Hermese с Хармсом. Вариант практически предвосхищает другой опробованный обманный ход, но воспроизведенный в обратном порядке: Хармс – Charms – чародей.
Структурной отсылкой к образу пророка Даниила может являться характерный для жизненной и писательской стратегии Хармса прием сокрытия идентичности. Как известно, Даниил остается верен своему Богу и не прикасается к пище с царского стола. Бог за верность дарует отрокам «знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякое видение и сны» (Дан 117). Даниил разгадывает пророческие сны царя Навуходоносора, тайна первого сна открывается ему в ночном видении (Дан 2 19) (ср.: сон – излюбленная форма в творчестве Хармса), и, единственный из мудрецов – придворные чародеи оказываются бессильны [483]483
«И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев и Халдеев, чтоб они рассказали царю сноведения его» (Дан 2 2).
[Закрыть], – прочитывает таинственную надпись, появляющуюся во время пира Валтасара на стене царского чертога: «мене, мене, текел, у парсин» (Дан 5 25). (Отмечу по ходу, что прием шифровки смысла посредством буквенных перестановок становится одним из частотных в поэтике Хармса.) Творческое вчитывание писателя в Книгу пророка Даниила исключает возможный выбор в качестве псевдонима слова «чародей», в библейском тексте оно соотносится с магической несостоятельностью [484]484
Это прочтение псевдонима предлагает А. Александров (1991: 14).
[Закрыть].
Связью с фигурой пророка Даниила обусловлены в сочинениях Хармса некоторые сквозные образы и тематические мотивы, например мотив окна. К пророку Даниилу восходит в иудаизме традиция обязательных окон в молельном доме, обращенных в сторону Иерусалима. Галаха опирается на образец, заданный в стихе 10 главы 6 Книги Даниила, где описана его молитва, которую Даниил, рискуя жизнью, ибо нарушает запрещение царя Дариуса, отправляет в своем доме: «окна же в горнице его были открыты против Иерусалима» (Дан 6 10). Текст Хармса, датируемый 1931 годом, «На сиянии дня месяца июля говорил Даниил с окном…» воспроизводит ветхозаветную ситуацию [485]485
Публикаторы определяют этот текст как «стилизацию древнего заговора» (см. Хармс 1991:399).
[Закрыть].
Два имени, образующие псевдоним, тесно связаны, и первое содержит указание на прочтение второго. Это указание – язык. Книга пророка Даниила, позднейшая в библейском каноне написана в основном на иврите. Исключение составляют главы 2 (начиная с 4-го стиха) – 7, они написаны по-арамейски.
Судя по записным книжкам, Хармс много занимался древнееврейским языком и каббалой. В текстах его встречаются слова на иврите, как правило искаженные и тем самым засекреченные огласовкой и регистрацией в фонетике русского. Интерес к ивриту Хармс, возможно, унаследовал от отца. Иван Павлович Ювачев, автор религиозно-мистических сочинений и проповеднических статей, подписывался псевдонимом Миролюбов.
Е. Строганова в статье «Из ранних лет Хармса» приводит надпись на обложке дневника И. Ювачева на иврите, которую прочитывает как «мир и любовь», слова, по мнению исследовательницы, объясняющие происхождение псевдонима [486]486
Строганова 1994: 75. Автор приводит надпись на иврите на обложке одного из дневников, сделанную рукой И. П. Ювачева, но, к сожалению, оба слова в указанной журнальной публикации содержат ошибки, что искажает их смысл.
[Закрыть].
Однако толкование это упрощенно и неточно. На титульном листе дневника Ювачева-отца за январь 1890 – сентябрь 1892 г., хранящегося в Государственном архиве Тверской области (ф. 911, оп. 1, ед. хр. 4, тетр. 20), слова «shalom ve ahava» (мир и любовь) приведены скорее в качестве главного тезиса системы воззрений, изложенной в дневнике, а ниже, под датами значится приведенное на иврите имя, которое прочитывается как Йоханан Бен-Поломили, с некоторой оговоркой, как Йоханан Бен Павлом.В этом последнем варианте оно выступает как подобранный Ювачевым ивритский фонетический эквивалент русского имени Иван Павлович ( Йоханан Бен Павлом – Иван сын Павла).Имя на иврите несет функцию тайного мистического знака автора дневника, а псевдоним Миролюбовявляется его русской маской. Некоторая аналогия в выборе основного имени, смысл которого скрыт в древнееврейском языке, встречается и у Хармса.
Обращение к изучению древнееврейского и каббалы могло быть объединено для Хармса все той же фигурой пророка Даниила. Известно, что название главной книги каббалы Зоар (Сияние) взято из книги Даниэля: «И разумеющие воссияют как сияние (зоар) небосвода, а приводящие к праведности многих как звезды в вечности века» (Даниэль 12 3). Кроме того, согласно преданию, с которым Хармс мог познакомиться в книге Папюса, «каббала, утраченная евреями в период вавилонского пленения, сохранилась в халдейской академии и была передана Ездре главой магов – великим пророком Даниилом» [487]487
Папюс 1992: 6.
[Закрыть].
На знаковом уровне обращение Хармса к древнееврейскому определялось высокими религиозными коннотациями этого языка, а также его неограниченными возможностями буквенного и семантического варьирования. Несомненно, что для Хармса древнееврейский был интересен еще и как консонантный язык, усложняющий поиски правильного прочтения слова. Хармс знал из каббалы, что магическая сила слова может быть реализована только при правильном его произнесении.
На консонантное происхождение псевдонима указывает необычная для русского, но естественная для иврита последовательность в имени трех согласных р-м-с.В первом же слоге – – ха-узнается детерминантный префикс ha-,определяемый каббалой как звук до звука, означающий «саму возможность звучания» [488]488
Зоар 1994: 313.
[Закрыть]и соответствующий определенному артиклю в западноевропейских языках. Найденный язык псевдонима, иврит, обнаруживает слово, выбранное Хармсом, – haremez, что в переводе означает «намек», «аллегория». Детерминантный префикс ha-тут обязателен, ибо слово сочетается с предшествующим ему именем собственным, и псевдоним можно перевести как «Даниил намек (-аллегория)». Три согласные Рейш(Reish), Мем(Mem) и Заин(Zain) образуют корень. Хармс записывает слово в русской орфографии и по принципу материального произношения, поэтому зв его варианте записи превращается в с.Это объясняется закономерностями фонетики русского у согласно которым в финальной позиции звонкий звук оглушается. Фонетическая реализация слова вообще характерна для поэтики Хармса. Так возникают в его текстах такие слова как скасска, салома, тапор, итти, буттоидр. Однако материальное произношение меняет смысл слова на иврите, и оно получает неожиданное и нежелательное для носителя семантическое наполнение, которое, должно быть, и имел в виду отец писателя. Корень remes,но уже с буквой sameh, несет идею унижения и гибели; так, производное от него слово nirmas означает «быть затоптанным».