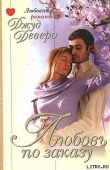Текст книги "Петля (СИ)"
Автор книги: Олег Дмитриев
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Глава 24
Встреча на кладбище
– Я боюсь, что папа прав, Петюня, – не сводя глаз с так увлёкшей его холстины, проговорил отец.
– Почему? – подождав и не дождавшись объяснений, спросил сын. Повезло мне с ним, никаких этих надоевших современных «в смысме?» или «с хрена́ ли?». В интеллигентной семье воспитывался. Ну, я старался, чтоб было именно так, во всяком случае.
– Вот смотри на ткань. Видишь: одну нитку пересекают другие, а она под одну поднырнёт, вторую сверху перепрыгнет? – ого, а вот этой притчи отца я, кажется, не знал. Пока, по крайней мере, точно не узнавал.
– Вижу, деда, – кивнул Петька, прилежно посмотрев на холст. Но почти сразу же вскинув глаза на меня. Я только плечами пожал, не сводя глаз с папы. Втайне радуясь тому, что выпадет шанс ещё одну его историю услышать. Нет, не в тайне. От всего сердца я радовался. Только виду по привычке не подавал.
– Так и люди. Кто одной дорожкой, кто другой ходят. Но дальше всех идут те, кто разными умеет. Обходят, огибают, где-то и сами прогибаются. И дальше себе идут. Это мудрость. Народная или природная – вон, ветки зимой тоже не убиваются и промеж собой не соревнуются, кто снегу больше выдержит. Как наберут свой вес – вжух, и сбросили. И растут себе дальше. Я вот чем горжусь в жизни, так это тем, что папку твоего этому, кажется, научить смог. Что не везде надо рогом переть до последнего. Ну, только если дело семьи или чести не касается.
Лицо его стало строже, даже морщины, кажется, выглядели глубже и как-то острее. А я замер. Он последний раз мной гордился, когда я научился плавать. Потом как-то было не до того. Даже на выписке из роддома он, судя по нему, гордился кем угодно, кроме меня. Хотя, наверное, прав был. Мать родила, ребёнок родился, а отец что? Проблем всем создал на девять месяцев и на всю жизнь? Я знал тех, кто искренне так считал. Но сам согласен с этой дурью не был никогда. И слова «семья» и «честь» для меня с самого детства значили очень много.
– Я-то, бывало, мог и начальству по умным лбам настучать, и поругаться от души. Потом, случалось, и без работы оставался. А как Мишка родился – понял ту мудрость, что каждому дереву с начала времён доступна. Поздно, наверное, но уж как смог. Тут, Петя, главное не ошибиться.
Сын явно за мыслью следил пристально. Но папа умел завернуть так, что поди уследи. Как за той самой нитью на станке.
– И в те года, о каких речь идёт, правильно отец твой говорит, больше шансов с таким богатством было под землю лечь, да ещё хорошо, если сразу всем. Как подумаю, что тогдашние ухари могли с Леной да Мишей сделать, сунься я к каким барыгам с такой монеткой… – он передёрнул плечами. Я думал о том же самом.
– Так что очень свезло нам всем, ребята, что памятка Авдотьи Романовны до сих пор… под Москвой сохранилась. Что сберёг нам её гость столичный, с двойным дном который.
А я подумал о том, что в той, прежней моей памяти, нанятые Алиной, но оплаченные мной мастера поступили гораздо проще. Они тупо залили полы бетоном, прямо поверх паркетной доски и линолеума, кинули сверху подложку и настелили ламинат и новую плитку. Я тогда был, кажется, как раз на том самом Русском Севере, откуда родом были чудесные, будто живые иконы, с которых не сводила глаз мама. Команда одного банка отрабатывала там тимбилдинг. А наше агентство – свой гонорар.
– Вот что, Петелины, – отец чуть прихлопнул ладонями по столешнице. – Я думаю, всё это волшебство, помимо образо́в, пусть лежит, где и лежало. Ты, Миш, возьми по монетке, да осторожно поспрошай у тех, за кого Саша поручится.
Да, я познакомил их с Иванычем. И – да, они подружились с ним ещё лучше, чем я. Возрастом ближе были один к другому, старой советской школой, потому и говорили на одном языке и одними словами.
– Если даст он добро – сам реши, что со всем этим делать. У нас-то с матерью ни фирмы нет, ни обязательств особо никаких. Да и планов, говоря откровенно. Поживём, сколько Бог даст. Вам с Петюней нужнее. Миш, ты чего? – удивлённо спросил вдруг он.
Раньше я на такой вопрос вскидывался, начиная вспоминать, «что же это именно я?». За что мог заслужить такой вопрос от по-семейному внимательного отца? И чаще всего находилось в памяти что-то такое, за что мог. И случалось, что мне за это бывало стыдно. Не за свои поступки и действия, в основном, а за то, что об этом стало известно ему. И он мог расстроиться. Расстраивать их с мамой я терпеть не мог с раннего детства. Но сейчас даже не вздрогнул. Потому что его неожиданная фраза про «поживём, сколько Бог даст» стеганула будто кнутом по мозгам, в том самом месте, где они болели со времени встречи сперва со Шкваркой, а потом и с Игорем-стоматологом. И мне стало гораздо страшнее. Я только сейчас окончательно понял масштаб того, что сделал. И ощутил резкий контраст между Михой Петлёй и Тем, кому полагалось, наверное, делать что-то подобное. Видимо, вечная непроницаемая маска дала вдруг трещину.
– Нормально, пап, нормально. Всё ты правильно говоришь, как всегда. Только я по-прежнему думаю, что вам с мамой, как теперь говорят, сто́ит и для себя пожить. Смотаться к морю, поездить по Союзу, слетать в ту же Турцию, к примеру. Так красиво.
То, что мне ответит отец, я знал, чувствовал. С тех самых пор, как у меня стало попроще с деньгами, и я начал время от времени заводить эти разговоры «хорошего сына», он всегда говорил одно и то же.
– Спасибо, Миш. Мы с мамой подумаем. Но, боюсь, годы не те, чтоб по Союзу фестивалить. А тут знакомое всё, родное. Всё и все. Вы с Петюней тут. До́ма, говорят, и стены помогают. Вон и холодильник с полом не дадут соврать.
И он улыбнулся с какой-то невероятной доброй хитринкой, с какой кроме него не мог никто и никогда. И я снова не стал ни спорить, ни настаивать.
Мы сложили добро столичного гостя туда, где оно и лежало. Выбрав по одной монетке из каждой группы. Ту, что с императором Константином, я положил сразу в портмоне, предположив, что баба Дуня не зря так берегла эти три, храня их отдельно. Да, я носил его, эдакую книжечку-кошелёк из старой кожи, где лежали права, паспорт, СНИЛС, купюры и банковские карты. Кирюха-покойник такие называл «потерять всё сразу». Только в слове «потерять» делал четыре ошибки. Остальное рассовал по карманам куртки. Удивившись ещё, что основная масса моего барахла почему-то оказалась в шкафу в моей комнате. Ну, то есть теперь нашей с сыном. Но решил, что в этом варианте развития событий поступил взрослее и осмотрительнее и уехал из дома на улице Освобождения не в том, в чём был.
Давно не слышны были привычные вечерние разговоры мамы и папы. Сопел на матрасе на полу Петька, высунув из-под одеяла ногу. Я подумал как-то отстранённо, что сын стал совсем большим. Вон какой длинный. И про то, что спрашивать у Гугла, Яндекса и прочих ясеней о цене находок или спорить со мной он тоже не стал. Зато почистил память в смартфоне. И предложил завтра смотаться в книжный магазин, или один из тех, что поближе, или в «Букинист», который хоть и назывался теперь по-другому, и находился в другом месте, но притягательного шарма не утратил. Не знаю, как другие, а я очень любил книжные. Особенно старые, небольшие, непередаваемо душевные, где работали пожилые люди, знавшие в книгах толк и способные подсказать и посоветовать любому, от дошколёнка, до доктора наук. В каждой из поездок я старался находить такие, заходил и редко выходил с пустыми руками. Стараясь не думать о том, что многим делал своим нечаянным визитом недельную «кассу». Не разрешая себе думать о том, что новые поколения читают совсем мало, и что это очень дурной знак.
Я с Петей тогда согласился, насчёт магазина. Только предупредил, что пойдут они, скорее всего, со Стасом. Того в каждом книжном знали, как и меня, но он был гостем более долгожданным. Потому что мог себе позволить, поскольку жил один, тратить на книги значительно больше и чаще. Я бывал у него в гостях. Три комнаты-библиотеки, одна игровая.
– Стас, у тебя не квартира, а детский сад. Книги, комп навороченный с игрушками, приблуды всякие, рули эти, штурвалы… Тебе так неуютно в окружающей среде? – сделал вид, что пошутил я тогда.
– Так, – привычно ответил он, подтверждая мою мысль словом, в котором почему-то никогда не заикался. – И в ч-ч-четверг-г-ге. И во-во-вообще.
Та его ответная шутка, помню, поразила меня очень сильно. Так, что глядя на моё растерянное лицо, он хохотал от всей души, дёргаясь и икая. Такие проявления эмоций для него тоже были нехарактерны и смотрелись страшновато. Но он не боялся. Потому что твёрдо знал, что ни дразниться, ни издеваться я не стану.
Утром, после завтрака, на который была та самая гречневая каша с молоком, которую и Петька уминал за обе щеки с видом полного блаженства, разошлись-разъехались.
Отец поехал, как всегда, на двух автобусах на Ленинский проспект, в Тверской технический, где служил на кафедре технологии текстильных материалов и изделий лёгкой промышленности. В этой реальности, где он был живым, его с возрастом стало подводить зрение. Я продал свой пикап, а его забрал себе. Того же самого Рому, но при других обстоятельствах. Я, помнится, сто раз предлагал папе и машину, и даже машину с водителем. Он отшучивался, отбрехивался и даже, бывало, отругивался. А потом как-то признался мне по большому секрету, что просто боится. «Стар я слишком, чтоб привычки менять» – сказал он тогда сперва. А только я разинул рот для контраргументов, продолжил: «И страшно мне, Миша. Начну на автомобиле служебном кататься. И что? На то, что коллеги подумают, мне плевать. Но ходить-то я меньше стану. Дышать воздухом меньше буду. Сердце станет ленивее биться. Помру, мамку одну оставлю. Не дело это. Я уж по привычке. Но спасибо, что предложил». Я вспомнил обеими памятями тот разговор этим утром. И злой мороз дохнул мне в затылок. Потому что я точно так же вспомнил одной из них, что случилось тогда, когда он оставил маму. И с ней, и потом со мной. И порадовался про себя за фамильное упрямство Петелиных. И за то, что в этом варианте действительности ни один из нас не курил. Раньше, помню, вон там и вон там пепельницы стояли. И дух тяжелый табачный всегда был в доме, на кухне особенно.
Петька пообещал после площадки подойти в офис и найти Стаса. Удалось мне с детства приохотить его не только к походам, но и к турничкам. Стыдно, конечно. Сам-то я, как он говорил, «слился» давно. Но сын без физ.нагрузки жизни не мыслил. И старался при первой возможности о ней вспоминать.
Мама привычно пообещала беречь тылы. Всем нам, всем троим. Чтоб каждый был уверен, что дома будет тепло, чисто и сытно. И для каждого найдётся и время, и доброе слово. Я давным-давно отчаялся понять, как женщины это могли. Почти сразу после того, как стал жить с Алиной. Но уверял себя в том, что это был мой выбор, моё решение и моя ответственность. И запрещал себе думать о том, как было у мамы. Или у Светы…
Рома, здоровенный пикап-грузовик, на которого давно перестали ругаться соседи по двору за занимаемое место, заурчал сытым тигром, приветствуя меня. А я всё никак не мог выкинуть из головы те мысли. О том, что тот выбор и та, последовавшая за ним, «ответственность» оказались обманом. И, хуже того, предательством. Я обманул самого себя и предал хорошего человека. Возможно, лучшего из всех, кого встречал в жизни. В обеих жизнях и на обеих памятях. И от этого становилось противно смотреть и на упрямую баранью голову, логотип Доджа, на руле Ромы, и на почти такую же – в зеркале заднего вида.
Утробно булькая, пикап выехал из двора. И замер, будто решая, куда бы поехать. А потом вырулил направо. Короткой дорогой. Налево выходило через весь город, до развязки на Южном обходе. Но Рома поехал привычным, старым путём, по «Спартака», по «Калинина», через Волгу. Коротким путём. На кладбище.
Аллейка была точно такой же, как и в первой моей памяти. Раз в год мы непременно приезжали сюда с родителями. А после уж и я сам. Они тогда лежали в другой части кладбища, но заходя проведать бабу Дуню я всегда доходил до них. Сегодня маршрут был обратный. На месте могил отца и мамы, серой и белой надгробных плит с родными именами, стояли равнодушно чужие кресты. Я поклонился им по привычке, как всегда делал, стоя на этом месте раньше. Будто благодаря незнакомых мне покойников за то, что именно они заняли этот участок, оставив моих жить. А ведь у этих, незнакомых, тоже были, наверное, семьи, дети…
Могила прабабки была на своём месте, и памятник над ней стоял точно так же и точно тот же. Гравировка с осы́павшейся кое-где позолотой сообщала, что Авдотья Романовна Круглова тоже здесь, как и все последние тридцать пять лет. Я остановился, глядя на дату смерти. Ту самую, что видел вчера на тетрадном листочке, который в сказочной форме принёс сказочные же богатства. Не пригодившиеся, не использованные Петелиными ни в одном из известных мне теперь прошлых. День Успения Пресвятой Богородицы, двадцать восьмое августа. Мысли об исторических параллелях, образах и знаках, что подавала мне Вселенная, или о том, что я сам хотел видеть и считать подсказками от Неё, тянулись неторопливо, вполне соответствуя пейзажу. Здесь, на старом кладбище, торопливым мыслям делать было нечего. Думалось и о том, что преставиться в такой день было для прабабки вполне ожидаемым ходом. В отличие от того автографа на протоколе собственного вскрытия. И её подарок в виде древних икон тоже наверняка имел какое-то значение, которое только предстояло разгадать. Спаситель скорее всего был добрым пожеланием. Почитаемые крестьянами больше прочих Фрол и Лавр говорили о том, что от земли и корней отрываться никак нельзя. Илья-пророк, вероятно, как-то был связан с путешествиями во времени, с его-то огненной колесницей небесной. Егорий, как звала мама Победоносца, тоже что-то означал. Только вот копья у меня не было. И колесницы тоже. А образ Богоматери остро напомнил мне ту фотку на странице Светы, где она маленькая сидела на коленях у мамы, а за ними высилась древним обережным чуром бабушка. Наверное, за каждым из нас именно так и стояли предки, не только на старых фото.
Вся эта философия и метафизика настроили меня на какой-то буддистский лад, когда ничему не удивляешься и хранишь в душе покой. Подумалось, что выйди сейчас из-за плиты с именем хозяйки чёрный кот – я и не удивлюсь. Зря так подумалось.
Когда здоровенная чёрная морда выглянула из-за памятника, моё сердце пропустило удар. Или несколько. Казалось, всё то время, пока кот выходил плавно из-за серого гранита, и я не дышал, и пульса не было. А гроза боксёров невозмутимо уселся прямо на пустую цветочницу и принялся вылизывать лапу. Переднюю. Левую.
Словно ухватившись за эту привычную, по-петелински обстоятельную, мысль, я удержался в сознании. И в своём уме. Наверное. Хоть и не полностью. Стараясь запустить такую необходимую сейчас оценочную реакцию, которая что-то «не схватывала». Как движок старой машины после долгой стоянки: стартер скрипит и кряхтит еле-еле, но толку от этого никакого, кроме риска в ноль высадить старый же аккумулятор. Результата никакого – стоим, не едем.
Да, это вполне мог быть какой угодно случайный и незнакомый кот. Возможно даже дикий. Хоть и не похож был. И именно из-за этого камня он вышел, вероятно, исключительно случайно. И так же нечаянно оказался чёрным с жёлтыми на Солнце глазами, которые прищуренными выглядели темнее. В оранжевый аж отдавали. Да, я не видел того Кащея вблизи. Опыта опознавания на очной ставке котов тоже не имел. И в кошачьей офтальмологии и прочей ветеринарии не разбирался. Но что-то, от логики и рационального мышления далёкое очень, уверяло меня – это именно он. И это настораживало ещё сильнее.
– Ну привет, что ли, Кощей. Хорошо выглядишь, – умнее ничего не придумалось.
Кот опустил руку, то есть лапу. Посмотрел на меня как-то странно. И мяукнул ещё хуже, совместив как-то «мяв» с «муром», а в конце будто кашлянув, поперхнувшись. Мне отчётливо послышалось «муа-а-а». И кхеканье в конце. Среднюю букву, как и в прошлый раз, удалось подставить самому. Да, это определённо был именно он. Других чёрных котов-матерщинников с оранжево-огненными глазами я не знал.
– Опять ты лаешься, Коша? Ну что мне с тобой делать, – раздался за спиной огорчённый вздох. Голосом, который мог принадлежать и мужчине, и женщине, любого возраста. Но принадлежал женщине.
От того, чтобы скакнуть вперёд и притаиться за могилкой, меня удержал только сидевший прямо на пути кот. Он, как говорили факты, лапой ловко бил и когти имел острые. Проверять не хотелось. Оглядываться, откровенно говоря, тоже. Но было надо. Опять это гадкое слово.
Позади меня стояла старушка в коричневом мутоновом пальто почти до земли. Из-под него выглядывали серые валенки в чёрных лаковых калошах. На голове был, кажется, вязаный мохеровый берет зелёного цвета, а на нём – тёмно-серый пуховый платок. Я такие, кажется, только в фильмах про войну видал. То, что лет ей было много, сомнений не вызывало. Но странного серо-водянистого цвета глаза смотрели не по-старчески пристально.
– Здравствуйте, Авдотья Романовна, – и снова умнее ничего не получалось выдумать.
– Эва как официально. Ну слава Богу, хоть не по званию, – проговорила она. Но не улыбнулась, не перекрестилась, не хмыкнула. Ни одной из ожидаемых и объяснимых реакций от неё не последовало. Как и слов о том, что я обознался.
– Виноват, товарищ генерал-лейтенант, – пожал я плечами, испортив уставной ответ неуставной жестикуляцией.
– Ишь ты – Миш ты, – прищурилась она. Впервые мелькнув какими-то эмоциями на покрытом глубокими морщинами лице. – Это ж откель ты такой умный да внимательный взялся-то?
– Боюсь, что не удивлю в этом вопросе. Вернее, ответе… Вернее… Я запутался, баб Дунь, – глянул я на неё едва ли не жалобно, подняв брови домиком, как один известный ирландский киноактёр. Мне говорили, что я был на него похож в молодости. Только у него была очень располагающая, хоть и хулиганистая, улыбка. У меня же слишком долго не было никакой.
Кот за моей спиной повторил первую реплику. Я, говоря откровенно, был с ними полностью согласен: и с Кощеем, и с его определением касательно меня.
– Коша! Без «Вискаса» оставлю! Мышковать в поле будешь! – грозно сказала мёртвая прабабушка. Не сводя глаз с полуживого правнука. Коту, о котором относительно градации «живой – мёртвый» версий у меня не было.
– Ну ма-а-ам-а-а-а… – басом проныл Кощей, сидевший на могиле. А я осел на давно не крашенную оградку. Ногам как-то веры не было. Глазам тоже. И ушам. И вообще никому, даже мозгам. Которые пока определились только с тем, что коты-матерщинники им нравились гораздо больше тех, которые намекали на родство с генералами-лейтенантами Комитета Государственной Безопасности.
Глава 25
Бабкины сказки
– Ох, ё-моё! – неожиданно среагировала товарищ Круглова, подхватив полы пальто и скакнув ко мне с проворством, не характерным и вряд ли посильным для её возраста. Какого, кстати?
Я смотрел за внезапной бабкой как-то индифферентно, без интереса. Казалось, что мозги перешли в какой-то очень энергосберегающий режим: происходящее вокруг фиксировали, но как-то выборочно и без привычного петелинского анализа. И было в них очень необычно и тревожно пустовато. А ещё казалось, что я вот-вот потеряю сознание. И где-то на самом краю помаргивала, как дежурный светодиодик, мысль о том, что я его и так давно потерял.
– Кощей, трепло ты мохнатое! Сто раз же говорено: молчи громче! В этот раз хрен тебе, а не чучелком! Ковриком сделаю, в чулане брошу, умолять, гад такой, о нафталине будешь! – сыпала старуха. Но при этом как-то неожиданно твёрдо держала меня за плечо маленькой рукой в основательно вытертой лаковой перчатке. И внимательно смотрела в глаза своими, серо-водянистыми.
– Он же недавно совсем! Да ещё и не раз, поди. Да, не приведи Господи, грабками своими, знать, хватался за всякое, я нашу породу знаю… Миша, если ты меня слышишь – моргни!
О, а это мне. И это мне, наверное, по силам. Я чуть склонил голову к правому плечу, будто всерьёз задумавшись над несложным, в общем-то, вопросом, и моргнул. С трудом открыв глаза, правда. С большим. Не хотелось почему-то.
– Так, отставить моргать. Слышишь – и ладно. Как давно ты спал на печке, два дня назад? Три? Пять? Мать моя… Сколь годов тебе было, когда первый раз попал, понял ли? Взрослым был? Институт? Школа? Раньше? Пять лет? Три⁈ Твою-то в Бога душу! Кощей, падла чёрная!
Я с трудом отвёл взгляд от серо-водянистого марева, что плескалось напротив, занимая, кажется, весь мир вокруг. Будто мокрый снег на поверхности чёрного лесного озера. Или зимнее зябкое вечернее небо. И увидел, как на бёдра мне взлетел кот, заглядывая в лицо своими огненно-оранжевыми фарами. И морда у него, я клянусь, была виноватой и испуганной. Он обернулся вкруг себя, умостился как-то удивительно ловко, уткнув лобастую голову мне практически в гульфик, и заурчал.
Мысль, та самая, что моргала дежурной тусклой лампочкой, заморгала чаще. Будто энергии стало больше. И в гулкой пустоте стали появляться пока не связанные размышления, а эмоции, или их какие-то зачатки. Основным было удивление. Откуда я знаю слово «гульфик»? Почему кот урчит точно так же, как холодильник ЗиЛ-Москва?
– На-ка, глотни! Глотни, Мишаня, надо! – каждый глаз весил, кажется, полтонны. Поднять их от гудевшего трансформатором кота было очень тяжело, но я как-то справился. И увидел прямо перед лицом фляжечку, верного спутника бытового алкоголика или просто обстоятельного пожилого человека, который мог себе позволить в течение дня глотнуть крепенького, для сугреву или бодрости.
Моргавшая всё чаще лампочка удивила образами из «Москвы и москвичей» Гиляровского, старой, но какой-то удивительно душевной книжки. Я читал её когда-то очень давно, но сразу же вспомнил те впечатления. О том, какой ровной и размеренной казалась описываемая дядей Гиляем жизнь столицы. В резком контрасте от той, что окружала маленького Миху Петлю в те годы. Нет, купцы тверские и тогда тоже были с причудами и в плане пожрать большие мастера. Но вот той обстоятельности и неспешности вокруг не было и в помине. Казалось, что каждый стремился взять от жизни всё, оторвать и откусить побольше, заглотать, не тратя времени на наслаждение вкусом и вдумчивое движение челюстей. Поэтому многие давились. Потому что очень мало в ком из них была твёрдая уверенность в том, что завтрашний день принесёт что-то хорошее. И в принципе настанет. Новости той поры уверяли, что хорошего ждать глупо: каждый день кого-то взрывали, стреляли, забивали ногами, кто-то пропадал. И очень мало, кто находился.
Я присмотрелся к откинутой винтовой крышечке. Постарался втянуть ноздрями кладбищенского воздуха, чтобы оценить, подготовиться к тому, чем меня могла угощать на собственной могиле покойница-прабабка. И помотал головой, вытянув вперёд кулаки, будто руки лежали на руле Ромы. Осторожно, чтоб не спугнуть Кощея, косившего снизу огненным глазом.
– Пей давай, «за рулём» он! Умничать некогда, и так чуть всё на свете не протупили. Тут уж не полуторка твоя, а скорая карета маячит, если не катафалк сразу! – гаркнула бабка, тыча мне фляжку уже почти в рот.
Спорить с пожилыми людьми я не любил с детства. И не приучен был. Поэтому приложился и отхлебнул.
Жизнь Михи Петли была не сказать, чтоб очень уж длинная. Повидать, конечно, всякого довелось. Побывать в разных местах и в разных компаниях. Выпивать случалось, и тоже всякое. Внезапно вспомнились посиделки в одной общаге, из тех, которые часто превращались в те годы в «полежалки». Хотя случалось, что и в «побежалки». Тогда наутро мы с Кирюхой с непривычно больными головами задумчиво рассматривали остатки застолья. И что-то настораживало меня, но что – не хватало сил понять. Он поднял пластиковый стаканчик, осторожно, двумя пальцами за краешек. И всмотрелся в тару с несвойственной ситуации внимательностью. И я понял, что смущало меня в пейзаже, помимо окурков в банке с килькой, которых было больше, чем кильки. Стакан был двухцветным. Такие тогда не продавали. Присмотревшись к плясавшей в руке друга посуде, понял, что оригинальный дизайн объяснялся тем, что пластик оплавился изнутри где-то до середины, став матовым, непрозрачным. А мы это вчера зачем-то пили.
– Надо было углём закусывать, – хрипло и очень неуверенно предположил Кирюха.
– Надо было это не пить, – не менее хрипло, но гораздо более уверенно сообщил я.
Мы одновременно кивнули и одновременно же сморщились от чего-то, жалобно звякнувшего в головах. Видимо, это осыпАлись кристаллы формальдегида в сосудах мозга.
Жидкость во фляжке бабы Яги оказалась неожиданной. Там совершенно точно был спирт. А ещё, кажется, битое стекло, расплавленное железо и скипидар. По крайней мере, хвойный запах точно присутствовал. Но вот эффект был неожиданным.
Вместо ожидаемого расплывавшегося внутри жара, было какое-то невероятное уютное тепло. Такое бывает, когда болеешь маленький, а мама перед сном даёт молока с мёдом. Не обжигающе горячего, а такого, которое сразу требует лечь на бочок, положить ладошки под щёку и закрыть глаза. Чтобы утром проснуться здоровым.
Этот напиток или, скорее, зелье, сработало иначе. Глаза наоборот вытаращились. А когда вернулась способность вдыхать, оказалось, что внутри, прямо поверх уютного тепла, разливается свежая мятная прохлада. Лампочка, перестав моргать, засветилась ровным мягким зелёным светом.
– Ого, – только и смог выговорить я. Удивившись тому, что в принципе мог говорить.
– Ого-го, – довольно отозвалась бабка. – Успели, кажись, Кош, а?
Но кот промолчал. То есть ни слова не сказал, продолжая мурчать-урчать в каком-то инфразвуковом диапазоне. Но от этого, кажется, становилось легче.
– Ты не торопись, Мишань, не спеши. Посиди, отдышись. Время есть. Время всегда есть, – под конец голос её стал каким-то грустно-задумчивым.
Я наклонил голову влево-вправо, хрустнув шеей. Кот скосил фары наверх, моргнул – и невесомо соскочил с ног на землю. За оградку могилы, на которой продолжал сидеть ошалелый внучек, таращась на прабабушку. Которую, как в детстве, и там, и тут показывали. Ну, то есть ту, что по идее должна была лежать за моей спиной, не показывали. И слава Богу.
– Дыши, дыши, Мишаня. Воздух тут приятный, чистый. Понатычет заводов да производств всяких прогрессивное человечество, туды его, так что полной грудью вздохнуть только на погосте и выходит, – бабушка говорила совершенно мирно и спокойно, сообразно возрасту. Не так, как рычала вот только что на Кощея.
– А время-то, хоть и есть, да больно хитрое, что нынче, что давеча. Да ты и сам малость уже знаешь о том, думаю. Отдышишься чуток – ко мне поедем. Поедешь, Миша, в гости к баушке?
Вопрос, заданный низким голосом, способным принадлежать и женщине и мужчине, но прозвучавший с непередаваемой народно-деревенской интонацией, домашней какой-то, милой, заставил вздрогнуть. И обернуться назад, на могильную плиту.
– Не, не туда. Туда рано тебе пока. Тем более, что мы так ловко успели с Кошей тебя только что не за ухо вытянуть оттуда. Ну-ка, глянь на меня? КрасавЕц! Орёл! Стоять можешь?
В голосе её неожиданно не было иронии. Как во мне – уверенности в утвердительном ответе. Но зато очнулись фамильные дотошность и внимательность. Оценили физические кондиции Петли как удовлетворительные и велели кивнуть, соглашаясь. А затем и встать, осторожно, медленно, придерживая руками оградку, будто это не я должен был завалиться набок, а она собиралась ускакать прочь.
– Ай, это кто у нас тут такой молоде-е-ец? А ну-ка, левой ножкой топ? А правой? – удивительно, но издёвки я не почувствовал. Она словно и впрямь гордилась разменявшим пятый десяток дитятком за то, что оно научилось стоять и готовилось делать первые шаги. Которые, как известно, очень нелегки.
На собственные ноги я смотрел очень внимательно. Но той детской мягкости в них не видел и не ощущал. Ровно стояли, уверенно. И притяжение земное не чудило, норовя накренить горизонт. Поднял ногу и сделал шаг. Как всегда. «Милое дело» – сообщил бы Иваныч.
– Очень хорошо. Ну тогда бери баушку под руку, внучок, да пошли к экипажу твоему. Покатаюсь ещё разок на грузовой-то, под старость.
Она неуловимо и грациозно, будто вальсируя, сдвинулась вправо и сама взяла меня под локоть. Но мне почему-то особенно бросился в глаза её острый взгляд, которым она окинула молчаливые надгробия вокруг, будто ожидая, что из-за какого-то из них выйдет кто-то нежданный. Но без страха, а с какой-то невозмутимой готовностью ко встрече. И то, как правая рука её скользнула за пазуху пальто, мне тоже в памяти отложилось. В обеих памятях.
– Кощей, по коням. Загостились у покойников, – не оборачиваясь, скомандовала она. И меня едва не качнуло вперёд, когда на левое плечо приземлился чёрный кот, гроза боксёров.
К Роме подошли тем же порядком: сухонькая бабушка, генерал-лейтенант КГБ, вела под руку косолапившего на деревянных ногах Миху Петлю. У которого на левом плече покачивался здоровенный котище с оранжевыми глазами. Если бы я не был уверен в том, что американскому железу эмоции не доступны, точно решил бы, что он, мягко скажем, удивился. Широкая хромированная нижняя полоса переднего бампера будто ниже стала, как отпавшая челюсть, а здоровенные и без того фары, кажется, стали ещё больше. Показалось даже, что баранья голова посреди решётки радиатора пару раз дёрнулась, словно говоря: «Бр-р-р, это чего такое? Ты где откопал эту бабку, Куклачёв? Иди, положи, где взял, и поехали домой!».
– Здоровая таратайка у тебя. Подсоби подняться, что ли, – недовольно буркнула Авдотья Романовна, без приязни осмотрев Рому.
Я проводил её до пассажирской двери, в которую тут же, стоило чуть приоткрыть, скользнул чёрной молнией Кощей. Оттолкнувшийся сперва от меня, едва не уронив снова, потом от сидения, от широкого подлокотника. И скрылся на заднем диване.
– Ну чего озяб-то? Он всегда позади ездит, его впереди укачивает последнее время, – сообщила она, вынимая руку из-под моего локтя. Который формы «крендельком» не поменял, даже ощутив прохладу, вместо руки спутницы. Мозги, кажется, тоже начинали принимать эту же форму.
– Мишаня-а-а, – поводила она у меня перед глазами старой перчаткой, заставив вздрогнуть. – Петля, хорош тупить, как Кирюшка твой говорил.
Вот это был уже перебор, конечно. Даже для бабы Яги вышло чересчур неожиданно. И я обвис на двери качнувшегося Ромы, сползая вниз, на подножку.
– Да тьфу ты, ё-моё! И сама туда же, карга старая! Всё ты, чёрная морда! – гавкнула она в салон, откуда донеслось недоумевающее басовитое мяуканье, означавшее, видимо: «А чего я-то опять? Я вообще молчал!». – На-ка, ещё глоточек, давай-давай, тут ментов нету!