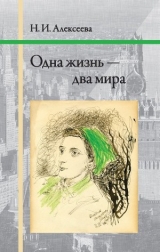
Текст книги "Одна жизнь — два мира"
Автор книги: Нина Алексеева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
У студентов кроме изнурительно долгих собраний и заседаний был еще один бич. Каждое воскресенье устраивались так называемые «воскресники». В субботу нас предупреждали явиться ровно в 8 часов утра в институт, попроще одеться, прихватить с собой пару старых перчаток, если есть. Мы уже имели удовольствие в одно прекрасное воскресенье разгружать вагоны с загнивающими овощами, которые через некоторое время с успехом можно было бы отправить на свалку или на удобрение. Или рыть котлованы, перетаскивать строительные материалы, кирпичи, цемент, песок. Таким же способом мы помогали строить наш институт, который до конца нашей учебы так и не был полностью достроен.
Самое неприятное было разбирать гнилую картошку. От запаха гнили кружилась голова, тошнило. Помню, как-то появился упитанный чистенький зав. складом, мы все набросились на него:
– Зачем же вы продукты гноите, не отправите покупателям?
– Видите, до сих пор разрешения от «Пищеторга» не пришло. Овощи попахивают гнильцой, но ничего не поделаешь, начальству виднее.
Обувь, одежда, руки покрывались липкой гнилью. Я лично предпочитала таскать цемент, кирпичи, все что угодно, так как после таких «прогулок» даже помыться было негде. Бани по воскресеньям не работали. Горячей воды и в помине не было. Достать кусочек мыла было невозможно, а в нашем общежитии просто подойти к умывальнику было трюком высшего пилотажа. Весь пол был загажен, залит водой и грязью из вечно невообразимо засоренной уборной. Чтобы пройти к нам со двора и не утонуть в этой грязи, от порога до порога были проложены дощечки, и, как я раньше сказала, по ним надо было пройти с акробатической ловкостью.
В ответ на наши просьбы и жалобы приходил комендант, заколачивал огромными гвоздями дверь в уборную. Сезонные рабочие тут же ее отрывали, и так продолжалось до тех пор, пока дверь не отлетела совсем.
Как мы умудрялись следить за собой и соблюдать чистоту, уму не постижимо. А ведь умудрялись. Ходили в баню, простаивали там в длиннющих очередях. Шаек и мыла там тоже не хватало и приходилось за них воевать, и радостные, веселые, с таким облегчением возвращались в общежитие.
Мы все уже успели привыкнуть к этой нестерпимой вони в проходной комнате, от которой даже крысы могли подохнуть, и к пьяному галдежу строительных рабочих, и к тесноте и духоте наших полухолодных, вечно наполненных едким дымом комнат, в которых было уже 22 студентки – и все это ни капельки не мешало нам не только радоваться жизни, но даже заниматься.
Каждое крохотное улучшение заставляло думать и верить, что все изменится к лучшему. Не сразу, правда. Но вот неделю тому назад я приходила в отчаяние, а теперь я уже в общежитии. Ведь принять с резолюцией «без предоставления стипендии и общежития» было равносильно «отказать».
СтипендияИтак, я уже преодолела одно препятствие. Вопрос с общежитием решен. Надо было бороться дальше. Я давно уже существовала на голодном пайке, и если бы я в этих тяжелых, стесненных условиях не сумела бы иногда подработать в одной строительной конторе (размещением на чертежах размеров), то, наверное, умерла бы с голоду. 16 копеек стоил наш студенческий обед, 12 копеек батон хлеба. И часто, очень-очень часто у меня не было денег даже на это. Мой рацион был до предела ограничен. По натуре я довольно замкнутый человек. Не люблю говорить о себе много. Я никогда никому не жаловалась, никогда ни у кого ничего не просила, ни у кого денег не одалживала. Вела себя так, как будто ни в чем не нуждаюсь, если даже была голодна до обморочного состояния. Такой я была с детства, такой и осталась на всю жизнь.
Но студенты, которым всегда не хватало денег от стипендии до стипендии, и которые постоянно ходили «стрелять» друг у друга денег, всегда говорили:
– У Нины? Да, у Нины денег куры не клюют.
Потому что никто из них никогда не слышал от меня ни жалоб на безденежье, ни просьбы одолжить.
Шел уже четвертый месяц нашей учебы. Я дошла до точки, когда без стипендии не могла прожить больше ни одного дня. Считая, что на стипендию, так же как и на общежитие, я имею полное право, я в один прекрасный день решилась. Была не была, один у меня выход – подать заявление, просить стипендию.
И до сих пор вспоминаю и забыть не могу, как после подачи заявления я ночи не спала, нервничала, готова была, как львица, бороться за свое право на учебу. И не просить, а уже требовать.
И вдруг ко мне подошел староста нашей группы Ваня Шалдов и, как ни в чем не бывало, так запросто, сказал:
– Иди получать стипендию.
Сначала я даже подумала, что это злая шутка. Но у кассы мне выдали ровно 55 рублей, даже без вычетов. И никто меня никуда не вызывал, никаких вопросов не задавал. Мне сказали: «Иди получать стипендию» – и точка.
Это было накануне Нового 1931 года.
СтенгазетаМы с Аннушкой помогали ребятам оформлять новогоднюю стенную газету нашего института на 1931 год.
– Тебе нравится? – любуясь газетой, спросила Аня.
– Знаешь Анечка, красивое оформление еще не все, главное содержание. Я хочу, чтобы была правда в каждой букве, в каждой строчке. Я не хочу лживой мишуры. За что мы распекали Юрия? Честного, умного и самого смелого и справедливого из всех, кого я знала.
– Да, я с тобой согласна. Но он не должен был так резко выступать, он мог бы высказаться не в такой форме о том, что видел на практике, и тем самым не компрометировать авторитет нашего правительства и нашей партии.
Уже несколько недель подряд, чуть не каждый день вечером, после занятий, в огромной аудитории Горной академии проходил общественный суд над только что вернувшимися с практики студентами Юрой и двумя его товарищами. И мы после занятий должны были сидеть и слушать бесконечные наставления «шибко умных» активистов, которые умели, в буквальном смысле, делать из мухи слона и которых я впоследствии просто ненавидела. В конце концов, этот «общественный суд» вынес им приговор. Их отправили на два года на перевоспитание на производство с правом окончить институт после того, как они исправятся и «наберутся ума-разума». Всем этот суд надоел до чертиков, он шел по принципу «тебе дочка говорю, а ты невестка слушай». Для этого мы все и сидели там по два-три часа после утомительных занятий. Я за это время успевала получить уйму записочек от ребят. Одни приглашали в кино, другие просто хотели познакомиться, а некоторые даже успевали объясниться в любви. Сидевший рядом со мной парень пожаловался:
– У меня уже руки отсохли записки тебе передавать.
Уже это говорит о том, с каким «вниманием» относились все ребята к этим судам.
Тогда еще было более или менее мягкое отношение к таким студенческим выступлениям: ругали, выносили выговор, устраивали «общественный суд», как вот сейчас, выносили приговор, но до арестов еще не доходило. Вот это событие и было освещено в стенгазете.
– Я с тобой не согласна, народ и все должны знать о наших ошибках и недостатках. Мнение народа – это закон для партии…
Раздался звонок.
– Ну, Нинок, дискуссия окончена, мы едем встречать Новый год. Уже пол-одиннадцатого. Давай скорее, скорее. Ты не одета? Фу, какое мещанство. Вот только пятно от краски на лице сотри. Да не ходи в уборную, ее всю залило, туда не подступись, – пока я приводила себя в порядок, она без устали тараторила. – В довершение хочу предупредить, что там будет чудесный мальчик, новый друг моего Севы. Смотри, не влюбись, потеряешь покой, сон, аппетит. Даже я во сне и наяву его вижу, прошу Севку: «Да не приводи ты его к нам».
– За трамвай плачу я, у меня есть трамвайные билеты.
Новый, 1931 годНовогодняя Москва особенно хороша. Кузнецкий мост под пышным покровом новогоднего снега. Третий этаж – и мы в роскошной гостиной. Шумно, весело встречает нас уже немного подвыпившая компания.
– Мы старый год уже спровадили, сейчас пробьют кремлевские куранты, и мы выпьем шампанское за новый год.
Бой часов, «Интернационал» и голос диктора из репродуктора:
– С Новым годом, товарищи… Желаем вам новых подвигов и новых побед на пути к построению социализма и нового бесклассового общества….
Так наступил новый 1931 год. ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА, ГОД КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ГОД РЕШИТЕЛЬНОГО ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ.
Это был мой первый Новый год в Москве, вдали от родных и близких, старых друзей и знакомых. Компания была интересная, но я никого не знала и не чувствовала себя так свободно, как среди моих знакомых.
Я никогда не умела быстро знакомиться с людьми, не умела вести светские разговоры, не умела, абсолютно не умела кокетничать. Я немного, по-хорошему, завидовала девчатам, кто умел это делать. Но сама всегда старалась быть как можно менее заметной, спрятаться, как рак, в свою скорлупу.
Потихоньку я подошла к огромному трюмо, на столике перед которым стояли удивительно красивые косметические баночки, флакончики, совсем не похожие на наши «Метаморфозы». Это была заграничная косметика племянницы хозяина, которая недавно приехала к нему в гости из Парижа. (Тогда еще можно было приезжать и даже уезжать за границу, железный занавес еще не прочно опустился).
Ко мне подошел хозяин этой роскошной квартиры, обнял меня за плечи, кивнул на батарею этих косметических принадлежностей и сказал:
– Тебе совсем все это не нужно, ты у нас без этого самая красивая.
Это и был тот «чудесный мальчик», в которого Аннушка предупреждала не влюбиться. Я не влюбилась, но мы стали большими друзьями. Мы любили встречаться, ходить, гулять и долго-долго разговаривать. Он мне нравился, но никакого чувства, что называется любовью, у меня к нему не было. Он это знал, и мы просто остались хорошими друзьями. Гуляли мы здесь всю ночь, за мной тогда настойчиво ухаживал наш студент Петя Бельский, без пяти минут инженер, как мы тогда говорили. Утром после завтрака все отправились в парк на каток, обедали в ресторане «Шестигранник» в парке и ужинали снова у Даниэля (так звали этого красавца).
Первая производственная практика
В конце 1930 и в начале 1931 г. мы, студенты первого курса института Цвет-метзолота, уже проходили практику в Казахстане на гигантском Риддерском комбинате по добыче и обработке свинцово-цинковых руд, на Красноуральском медеплавильном комбинате, Магнитогорском металлургическом комбинате на Урале и на многих других, только что отстроенных, недостроенных или находящихся еще в процессе строительства предприятиях. Обновлялись или строились новые гиганты: новокраматорские заводы в Донбассе, Березинский и Солекамский химкомбинаты, а также в таких городах, как Запорожье, Мариуполь, Ростов.
Осуществление всех поставленных перед нами и перед страной задач в области развития народного хозяйства и такого огромного капитального строительства за 6–7 лет после окончания гражданской войны требовало не только миллиардных вложений, для чего были мобилизованы все внутренние ресурсы, но и сверхчеловеческих усилий теперь уже советских людей.
Комсомол весь свой неугасимый энтузиазм вложил в дело индустриализации нашей страны.
В эти годы десятки, сотни тысяч партийной и беспартийной молодежи, юноши и девушки по призыву комсомола со звонкими песнями и веселыми улыбками отправлялись на самые тяжелые далекие новостройки Сибири, Дальнего Востока, Урала, Кузбасса, Донбасса, на Северный полюс и во многие другие далекие, еще необжитые места. И каждый из них чувствовал себя винтиком этой огромной родной страны. Такого гигантского энтузиазма в таких невыносимо тяжелых условиях, я думаю, никогда нигде, ни в одной стране на нашей планете не было, все, что строилось, все, что добывалось, все, что плавилось, создавалось и производилось – производилось для НАС для ВСЕХ, для НАШЕЙ СТРАНЫ, на благо всех. Казалось, вся страна принадлежит НАМ, и МЫ принадлежим стране, все было НАШЕ. НАШИ недра, НАШИ шахты, НАШИ заводы, НАШИ необъятные просторы, степи, реки и леса – где хочу, остановлюсь, куда хочу, поеду, за это «НАШЕ» все готовы были жизнь отдать. В этот период миллионы рабочих были охвачены пафосом гигантского строительства, охватившего всю страну.
Я помню стихи моего любимого поэта Владимира Маяковского, который писал их о таком именно народе и его энтузиазме:
Я знаю —
Город будет,
Я знаю
Саду цвесть,
Когда
Такие люди
В стране
советской есть.
Или Тихонова:
Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей…
Эти стихи были написаны до сталинских массовых репрессий. Когда еще во главе нашей страны находились такие крупные руководители как Орджоникидзе, Пятаков, Серебровский Бухарин, Рыков, Косиор, Постышев и многие, многие другие, которых ликвидировал Сталиным.
СборыПервый семестр первого курса нашей теоретической учебы подходил к концу. 31 января 1931 года мы должны были уехать на 4 месяца на производственную практику. Вся эта система называлась НПО – непрерывное производственное обучение. Эта система давала нам возможность ознакомиться с предприятиями, на одном из которых, вероятно, впоследствии пришлось бы кому-нибудь из нас работать. Это были те годы и то время, когда, взамен старых методов обучения, шли усиленные поиски новых более рациональных методов, при которых старались сблизить теорию с практикой. Поэтому студенты так едко шутили, называя себя кроликами, над которыми проводятся бесконечные эксперименты.
До отъезда оставались считанные дни. Идея поездки была очень приятна, всем очень нравилась, и собирались мы на нее, как на увеселительную прогулку.
В конце семестра преподаватели без экзамена, на основании результатов текущих занятий, ставили всем просто зачет.
Когда наш профессор по высшей математике Брауде поставил всем, и мне, зачет, я запротестовала, попросила не ставить мне зачет, так как из-за общественной работы, которая всегда приходилась на уроки математики, на занятиях я присутствовала всего 3–4 раза, следовательно, считала я, математику я знала недостаточно хорошо. Вся группа зашипела на меня, между группами шли соревнования, и я тем самым подвела бы всю группу. Но я категорически настаивала, чтобы мне не зачли математику. И только после долгих препирательств со стороны группы профессор согласился со мной. Так я получила «хвост» по математике, который должна была сдать осенью, кстати, он был первый и последний.
Итак, в самый разгар зимы, в конце января, мы должны были поехать на производственную практику в Казахстан на Риддерский горно-металлургический комбинат по добыче и обработке полиметаллических руд. За неделю до 31 января нам выдали дополнительные продовольственные карточки на дорогу и ордера на обувь и на некоторые вещи первой необходимости.
Я разбогатела, получила стипендию, купила полотенце, простыню, а главное, ботинки, и считала, что теперь я могу хоть на Северный полюс отправиться.
Но только что приехавшие оттуда студенты, глядя на нашу обувь и наши пальто «на рыбьем меху», горько улыбались:
– Разве можно в такой одежде на Алтай ехать? Вы же понятия не имеете, что такое сибирские морозы, в таком виде вы туда и носа не суйте, это вам не Москва.
Одежда наша зависела главным образом от снабжения московских магазинов. Теплой одежды достать было невозможно: перчаток, теплых носков и в помине не было, а о валенках и мечтать нельзя было, но нам просто повезло.
У нас в группе учился Коля Кротков, он работал в ГПУ еще при Дзержинском, и даже потом каждое лето он пристраивался к какой-либо группе, уезжавшей в Крым или на Кавказ, что они там делали и кого они там охраняли – неизвестно. Хотя, как он сам нам тогда еще рассказывал, охрана в то время там была еще та, «липовая».
Но когда он заявил:
– Ребята, собирайте деньги, валенки будут.
Мы поверили ему. И он где-то и как-то сумел достать для всех нас валенки-чесанки, не тяжелые, грубые, а уютные, легкие, красивые, как картинки.
На продовольственные карточки мы купили: маргарин, консервы из дельфиньего мяса, колбасу из конины (все шутили, колбаса у нас фифти-фифти пополам, один рябчик, один конь), колбасу сильно прожарили, насушили сухарей. Едем в Казахстан, значит, надо привыкать есть конину, там это любимое мясо.
Сахар, который получила по карточке, я отправила родным на Украину, решила сделать им подарок, так как там давно уже нельзя было достать его.
Накануне отъезда я получила посылку от дедушки: бутылку топленого масла и бутылку меда с его пасеки. Этой бутылке меда все очень обрадовались, и мы решили устроить чаепитие.
Посреди нашей комнаты стоял длинный стол из плохо обструганных досок, стульев не было, были длинные скамейки по бокам. На стол поставили ведерочко с горячей водой, чтобы растопить застывший мед и масло. По мере оттаивания каждый наливал масло и мед прямо на хлеб, никакой посуды у нас просто не было. Несмотря на убожество нашей обстановки и сервировки, чаепитие было очень веселое.
Даже такое небольшое событие, как бутылка меда, могла создать среди 22 человек столько радости, хохота и песен. И действительно, нет более счастливой поры в жизни, чем студенчество. Никакие лишения не страшны, каждый был уверен, что все это только временно, до окончания института, а затем – работа в свое удовольствие по специальности, при полном материальном благополучии. И только тогда, когда мы окончили университет, то все, с кем мне пришлось встретиться, вспоминали:
– Вот дураки, мы-то не ценили, а жили ведь как у Христа за пазухой.
И я должна без излишней скромности сказать, что наш институт за эти годы, несмотря на тяжелые условия учебы и жизни, выпустил огромное количество крупных, замечательных специалистов. Почти все гигантские предприятия в области цветной горнодобывающей металлургической промышленности были подняты, достроены, отстроены и поставлены на ноги выпускниками наших институтов. Каждое предприятие было, как наше общее детище, мы вкладывали всю свою душу в эти наши предприятия.
Иногда работы – как в Норильске, Красноярске, Риддере, в Красноуральске и многих других местах – начинались почти с нуля, на ровном месте. Начальники главков, главные инженеры, директора, профессора, научные сотрудники, преподаватели были питомцами наших выпусков.
При встречах все рассказывали, какие невероятные трудности им приходилось преодолевать, за что они получали Ленинские и Сталинские премии, становились Героями труда. Ведь такое предприятие, как Норильский горнометаллургический комбинат по добыче и обработке никеля, кобальта, меди, золота, серебра и других редких и цветных металлов, был буквально создан и поставлен на ноги лучшим другом Кирилла, замечательным, гениальным инженером Николаем Селиверстовым. Они вместе учились, вместе кончили наш институт, и Николай Селиверстов был один из тех светлых, блестящих умов, которыми восторгались профессора нашего института.
И там же он стал героем и лауреатом тех же пресловутых премий. И, потеряв здоровье на тех же предприятиях, парализованный, заработал себе право лечиться в Кремлевской больнице, где и находился под конец своей жизни чаще, чем в бедно обставленной квартире где-то далеко за городом. Он с гордостью рассказывал нам о тех трудностях, с чего и как начинал он строительство этого гиганта, очутившись после окончания нашего института в 1935 году в этом самом пресловутом Норильске, куда якобы до сих пор засылали только самых заядлых преступников.
– И вот один я, вольнонаемный, и человек пять заключенных в пустом помещении с какой-то игрушечной муфельной печью.
Так началось строительство и так был построен гигантский Норильский горно-металлургический комбинат. И точно так же на наших глазах были построены и многие другие, подобные ему. И работая в этих тяжелых сверхчеловеческих условиях, он заработал паралич ног. Лечили его, правда, в Кремлевской больнице, но дома за ним ухаживали жена, дочь и его внуки. Жили они на какую-то крохотную его пенсию, и Тоня, его жена, мучительно старалась получить пенсию за время, проработанное в нашей институтской лаборатории до замужества, чтобы хоть как-нибудь улучшить условия жизни. Умер парализованный Николай в Кремлевской больнице, а вскоре после него умерла и Тоня, его жена, от рака мозга. Такой ценой осваивались эти предприятия.
С мечтой в карманеНакануне нашей первой поездки на практику староста нашей группы объявил, что мы все должны подписаться на государственный заем, и что из нашей стипендии ежемесячно будут вычитать 10 процентов, а также что мы должны покрыть нашу задолженность с 1 октября, с начала учебного года. Мы все согласились единогласно.
Итак, 31 января 1931 г., в самый трескучий мороз, мы заняли почти целый вагон в поезде «Москва – Новосибирск». В кармане у меня осталось 20 копеек. Но мы не унывали.
Поезд мчал нас мимо Вятки, мимо Перми, мимо Свердловска по заснеженным лесам. На остановках ребята бегали за кипятком и прикупить кое-что к нашей, уже достаточно всем осточертевшей, колбасы. На одной из остановок ко мне подошел Хохлов – наш профуполномоченный:
– Что же ты не выходишь? Хочешь, я принесу? А лучше вот, – он положил на столик передо мной 25 рублей, – в получку ты мне вернешь. Договорились?
И быстро ушел. Такое внимание было трогательно до слез. Никаких «спасибо», никаких «не надо, не хочу» – ничего этого, а просто положил и вышел.
Наконец, ночью мы прибыли в Новосибирск. Выгрузились со всем нашим скарбом. На следующий день мы должны были пересесть на поезд «Новосибирск – Семипалатинск». Здесь мы решили переночевать в городе в гостинице. Ночь, темень и никакого транспорта, мне до сих пор кажется, что мы шли по открытому полю, утопая в сугробах снега, в жгучий сибирский мороз -50 °C. Когда мы добрались до гостиницы «Сибирь», мы хорошо прочувствовали, что такое сибирская зима. У многих были отморожены носы, уши, щеки, и все усиленно бросились растирать снегом побелевшие от мороза части тела.
В гостинице не было ни одного свободного места, и все мы расположились спать в коридоре, прямо на полу.
Утром Новосибирск произвел на меня впечатление глухой деревни. Длинный, утопавший в снегу бульвар и два ряда невзрачных домиков по сторонам. Ну, просто, захолустье.
Из Новосибирска на поезде мы доехали до Семипалатинска – сердца Казахстана. В Семипалатинске мы остановились в доме-конторе главного управляющего «Цветметзолота».
А дальше из Семипалатинска до Усть-Каменогорска, расположенного в предгорьях Рудного Алтая, мы должны были, передохнув пару дней, ехать почти 75–80 км на санях по замерзшему Иртышу.
Нас разместили на пяти санях-розвальнях. Мы все старались как можно глубже зарыться в наваленное здесь сено и сверху укрыться чем попало – одеялами, подушками. Когда уже все были готовы тронуться в дорогу, управляющий «Риддерзолота» взглянул на меня, быстро вернулся обратно в контору и вынес оттуда огромную волчью доху и сибирские валенки «пимы», они были такого размера, что я прямо всунула в них ноги в моих «красивых» чесанках. Я до сих пор думаю, что если бы не это, то вместо меня привезли бы сосульку, да не только я, а все мы с трудом выдержали это путешествие.
Лошади выглядели как сахарные. Ямщики были мертвецки пьяны. Одеты они были в длинные овчинные тулупы и огромные овчинные шапки, повязанные сверху башлыками, и с поллитровками за пазухой. Когда становилось невмоготу от холода, они останавливали наш транспорт, прикладывались к поллитровкам и, широко размахивая руками, пританцовывали на месте, чтобы согреться. Мы вылезали тоже, бегали вокруг саней, чтобы размять онемевшие и окоченевшие ноги.
Иногда наши ямщики, разогретые водкой и задремав на козлах, летели на ухабах в такие огромные, глубокие сугробы, что мы их еле-еле оттуда вытаскивали. А бывало даже так, что седоки летели в сугробы так, что одни ноги оттуда торчали.
Температура в начале февраля доходила до -50 °C. Дышать было трудно, струя воздуха леденила все внутренности. То и дело мы натирали чей-либо отмороженный нос, щеки, уши. Лица у всех потрескались от мороза и были в ранах от усердного натирания снегом.
Но это было не все. Наше путешествие еще не кончилось и продолжалось дальше. Из Усть-Каменогорска нам надо было преодолеть, кажется, еще 28 км до Риддера по узкоколейной железной дороге. Этот почти игрушечный поезд шел черепашьим шагом, то и дело слетая с рельсов, мужчины водворяли его на место, паровоз пыхтел, скрипел и иногда даже не мог двинуться с места, как будто примерзал к рельсам. Топливом служили дрова, и мы, чтобы окончательно не замерзнуть в этих игрушечных вагончиках, бегали вокруг поезда, собирали и таскали дрова для паровоза.








