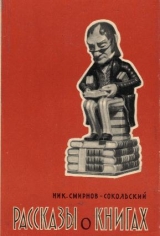
Текст книги "Рассказы о книгах"
Автор книги: Николай Смирнов-Сокольский
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Среди этих «глупейших романов» П. И. Быстрое назвал на первом месте «Сказки духов», напечатанные в шести частях «иждивением типографической компании» Н. И. Новикова в Москве, в 1785 году81.
Случайно это редчайшее издание попало ко мне на полку, и даже при беглом ознакомлении с ним, легко убеждаешься, что «Сказки духов»– одно из самых смелых и вольнодумных сочинений того времени.
Повествование ведется от лица некоего Горама, написавшего это сочинение якобы на персидском языке. Указывается, что с персидского «Сказки духов» переведены на английский Карлом Мореллом. Русский переводчик не указан вовсе. Весьма возможно, что все эти сведения выдуманы от начала до конца и служат лишь маскировкой для подлинного автора книги.
ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ
О прижизненных и ранних изданиях сочинений Александра Радищева
ВСТУПЛЕНИЕ
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.
Вл. Маяковский.
В «курганах книг», написанных людьми предыдущих поколений, понятие «старого, но грозного оружия» как нельзя более подходит к книгам великого русского писателя – революционера Александра Николаевича Радищева.
Направленные против самодержавия, рабства и крепостничества, книги Радищева более ста лет были «жупелом» для царского правительства, которое не только беспощадно уничтожало все издания сочинений Радищева, вышедшие при его жизни, но и позже яростно пресекало попытки некоторых смельчаков-издателей напечатать их вновь.
Начиная с 1790 до 1905 года книги Радищева жгут на кострах или перемалывают на бумажных фабриках.
Однако от каждого такого «аутодафе», устроенного царской цензурой для книг Радищева, всегда оставалось несколько считанных экземпляров, припрятанных и почитателями революционных идей автора «Путешествия из Петербурга в Москву», и некоторыми ревностными книголюбами.
С этих уцелевших экземпляров снимались многочисленные рукописные копии, которые потом, переходя из рук в руки, делали свое революционное дело. Имея в виду именно это распространение сочинений Радищева в списках, Пушкин писал: «Радищев рабства враг – цензуры избежал!»4
Революция 1905 года на время сбила цензурные оковы с сочинений Радищева, но по-настоящему широко, полно и научно произведения его дошли до народа только в наше, советское время.
Огромными тиражами, во всех видах и вариантах напечатаны и продолжают печататься книги Радищева.
Советские люди знают и высоко чтут писателя, который «нам вольность первый прорицал».
Но чем больше сейчас выпускается новых книг Радищева, чем богаче и роскошней их одежда, печать и бумага, тем драгоценней становятся те немногие, скромные на вид, уцелевшие экземпляры его «Путешествия из Петербурга в Москву» и других произведений, напечатанные при жизни писателя, или после его смерти, до 1905 года.
Книги эти – замечательные реликвии истории развития русской общественной мысли, истории революционного движения в России.
Иметь экземпляр «подлинного Радищева» всегда было заветной мечтой каждого библиофила, начиная с самого Пушкина. До наших дней сохранилось первое издание «Путешествия из Петербурга в Москву» из личной библиотеки поэта, с его собственноручной надписью: «Экземпляр, бывший в Тайной канцелярии, заплачен 200 рублей. А. Пушкин».
Судьба каждого уцелевшего экземпляра «потаенного Радищева» чрезвычайно любопытна и полна самого романтического интереса.
Много лет назад, начав собирать старые русские книги, я поставил себе целью во что бы то ни стало найти «всего Радищева». Старые, седые антиквары, узнав о моем намерении, стали встречать меня ироническими улыбками. Известный книжник Павел Петрович Шибанов, «Шаляпин книги», как его называли, весьма сердито сказал мне:
– Помню я, молодой человек, какую-то историю с синицей. Она что-то там пыталась зажигать, что именно – я уже забыл, но история весьма поучительная...
Милейший человек Павел Петрович! К старости его беззаветная любовь к книге начала уже переходить в манию, хотя именно против маньячества в книжном собирательстве он сам выступал неоднократно.
Заведуя крупнейшим книжно-антикварным магазином «Международной книги» в Москве, он начал припрятывать более или менее редкие и замечательные книги от покупателей. Прятать не для кого-нибудь, а просто от всех. Когда вы подходили к нему с горкой отобранных книг, он делал такое печальное лицо, что вам становилось неловко.
– Ну зачем вам «Полтава» Пушкина? – вдруг начинал «советовать» Павел Петрович.– Подумаешь, прижизненное издание! И вид у книги не первоклассный – явно «усталый» экземпляр. Подождите, найдете для себя безукоризненный.
Потом, вдруг, увидя помеченную им же самим на книге цену, он всплескивал руками и начинал кричать: Как тридцать рублей! За такую книгу? За такой изумительный экземпляр? Это ошибка! Я должен проверить! – Вы оставьте книгу и приходите завтра!
Люди, хорошо его знавшие, давали ему вдоволь накричаться и... шли платить в кассу. Огорченный Шибанов провожал их напутствиями: Да вы хоть берегите «Полтаву»! Ведь это же Пушкин! Понимаете ли – Пуш-кин! Первое издание!
Многие собиратели очень обязаны Павлу Петровичу Шибанову. Он как бы делился с ними своей неистощимой любовью к книгам.
О книгах Радищева Шибанов говорил непременно складывая молитвенно на груди руки и произнося каким-то свистящим шопотом: Ра-ди-щев!
Более молодой, но не менее замечательный книжник-антиквар, ныне здравствующий Алексей Григорьевич Миронов продавал книги, наоборот, весело, с улыбкой, радуясь вместе с вами находке.
– Лишь бы книга попала в хорошие руки! – говорил он при этом. Именно ему я обязан лучшими книгами в своей «Радищевиане». Однако для того, чтобы собрать ее полностью (книги прижизненные и отпечатанные до 1905 года), тридцати с лишком лет поисков не хватило. Я так и не нашел пока двух, правда не самых главных, книг Радищева: «Офицерские упражнения» и «Письмо к другу».
Ниже делается попытка изложить историю и сделать подробное описание всех отдельно вышедших до 1905 года книг Радищева, с указанием обстоятельств, сопровождавших их появление в свет и некоторыми другими подробностями. Работа разбита на главы, из которых каждая посвящена отдельным книгам Радищева, в хронологическом порядке их выхода в свет.
ПЕРВАЯ КНИГА РАДИЩЕВА
Первой отдельно изданной печатной работой А. Н. Радищева был перевод с французского1, сделанный им после возвращения (в конце 1771 года) в Россию из Лейпцига, куда он был отправлен Екатериной II для «изучения юридических наук».
Определенный, после возвращения из-за границы, на службу протоколистом в Сенат, с присвоением ему чина титулярного советника, молодой Радищев быстро разочаровывается не только в службе, но и во всех попечениях Екатерины II о «благоденствии» своих подданных. Не удовлетворяясь только чиновничьей деятельностью, Радищев ищет возможности попробовать свои силы в литературно-общественных делах.
Обратившись в основанное в 1768 году «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг на российский язык», Радищев получает для перевода труд французского публициста, историка и политического мыслителя аббата Мабли (1709—1785), ярого противника просвещенного абсолютизма, проповедывавшего в некоторых своих произведениях «уже прямо коммунистические теории»2. Произведение Мабли в переводе Радищева называлось «Размышления о греческой истории или о причинах благоденствия и несчастия греков».
Не говоря уже о том, что с сочинениями Мабли, как и со многими другими произведениями французских просветителей, Радищев познакомился еще будучи в Лейпциге, выбор именно этого труда для перевода далеко не случаен. Вопрос о судьбе греческого народа, находившегося в то время под турецким владычеством, был для России весьма актуальным, связанным с происходившей тогда (1768—1774) Русско-турецкой войной. Рабство греческого народа наталкивало Радищева на мысли о рабстве крепостных крестьян в России.
Первое издание книги Мабли на французском языке было осуществлено в 1749 году; второе, значительно переработанное – в 1766. Радищев, читавший оба издания книги, делает перевод по второму.
Этой своей работой Радищев начинает активную борьбу против усердно распространявшегося тогда мнения о якобы просвещенном характере самодержавного правления Екатерины П.
Радищев не только переводит книгу Мабли. Он снабжает ее семью собственными примечаниями, одно из которых начинается более чем смелыми для того времени словами: «Самодержавство – есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние».
Полностью это примечание занимает в книге всего двадцать строк, но оно, по определению Г. П. Макогоненко, «было по сути краткой политической статьей. Оно сразу включало Радищева в начатую просветителями борьбу»3.
Напечатан был этот перевод «Обществом, старающемся о напечатании книг», созданным в 1773 году передовым деятелем русского просвещения Николаем Ивановичем Новиковым, в то время уже издателем нашумевших сатирических журналов «Трутень» и «Живописец».
Перевод Радищева вышел в 1773 году в Петербурге. Напечатана книга была без имени переводчика в количестве 650 экземпляров. В архиве Академии наук имеются две расписки Радищева в получении гонорара за перевод: одна от 7-го мая 1773 года на 60 рублей данных ему «в зачет», а другая, от 6-го декабря того же года, на 45 рублей «остальных».
Трудно установить – почему именно эта книга Радищева стала столь большой библиографической редкостью. Отнюдь не только сравнительно малый тираж этому причиной. Надо думать, что после трагедии, разыгравшейся с Радищевым в 1790 году, в связи с его книгой «Путешествие из Петербурга в Москву», все печатные труды его, в том числе и перевод «Размышления о греческой истории», всячески изымались и уничтожались, как по линии официальной, так и по собственному почину держателей книг «крамольного» автора: обнаружение таких книг при обыске не сулило ничего приятного их владельцам.
За долгие годы книжного собирательства я видел эту книгу в частном собрании только у одного, ныне покойного, И. Д. Смолянова, много поработавшего над библиографией Радищева. Из прижизненных изданий Радищева у него была лишь эта книга, но он весьма дорожил ею.
Оказавший мне помощь в приобретении «Размышлений» А. Г. Миронов удостоверяет, что он, почти за полувековой период работы с антикварной книгой, впервые провел этот труд Радищева через свои руки.
ПЕРВАЯ КНИГА РАДИЩЕВА
Первой отдельно изданной печатной работой А. Н. Радищева был перевод с французского1, сделанный им после возвращения (в конце 1771 года) в Россию из Лейпцига, куда он был отправлен Екатериной II для «изучения юридических наук».
Определенный, после возвращения из-за границы, на службу протоколистом в Сенат, с присвоением ему чина титулярного советника, молодой Радищев быстро разочаровывается не только в службе, но и во всех попечениях Екатерины II о «благоденствии» своих подданных. Не удовлетворяясь только чиновничьей деятельностью, Радищев ищет возможности попробовать свои силы в литературно-общественных делах.
Обратившись в основанное в 1768 году «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг на российский язык», Радищев получает для перевода труд французского публициста, историка и политического мыслителя аббата Мабли (1709—1785), ярого противника просвещенного абсолютизма, проповедывавшего в некоторых своих произведениях «уже прямо коммунистические теории»2. Произведение Мабли в переводе Радищева называлось «Размышления о греческой истории или о причинах благоденствия и несчастия греков».
Не говоря уже о том, что с сочинениями Мабли, как и со многими другими произведениями французских просветителей, Радищев познакомился еще будучи в Лейпциге, выбор именно этого труда для перевода далеко не случаен. Вопрос о судьбе греческого народа, находившегося в то время под турецким владычеством, был для России весьма актуальным, связанным с происходившей тогда (1768—1774) Русско-турецкой войной. Рабство греческого народа наталкивало Радищева на мысли о рабстве крепостных крестьян в России.
Первое издание книги Мабли на французском языке было осуществлено в 1749 году; второе, значительно переработанное – в 1766. Радищев, читавший оба издания книги, делает перевод по второму.
Этой своей работой Радищев начинает активную борьбу против усердно распространявшегося тогда мнения о якобы просвещенном характере самодержавного правления Екатерины П.
Радищев не только переводит книгу Мабли. Он снабжает ее семью собственными примечаниями, одно из которых начинается более чем смелыми для того времени словами: «Самодержавство – есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние».
Полностью это примечание занимает в книге всего двадцать строк, но оно, по определению Г. П. Макогоненко, «было по сути краткой политической статьей. Оно сразу включало Радищева в начатую просветителями борьбу»3.
Напечатан был этот перевод «Обществом, старающемся о напечатании книг», созданным в 1773 году передовым деятелем русского просвещения Николаем Ивановичем Новиковым, в то время уже издателем нашумевших сатирических журналов «Трутень» и «Живописец».
Перевод Радищева вышел в 1773 году в Петербурге. Напечатана книга была без имени переводчика в количестве 650 экземпляров. В архиве Академии наук имеются две расписки Радищева в получении гонорара за перевод: одна от 7-го мая 1773 года на 60 рублей данных ему «в зачет», а другая, от 6-го декабря того же года, на 45 рублей «остальных».
Трудно установить – почему именно эта книга Радищева стала столь большой библиографической редкостью. Отнюдь не только сравнительно малый тираж этому причиной. Надо думать, что после трагедии, разыгравшейся с Радищевым в 1790 году, в связи с его книгой «Путешествие из Петербурга в Москву», все печатные труды его, в том числе и перевод «Размышления о греческой истории», всячески изымались и уничтожались, как по линии официальной, так и по собственному почину держателей книг «крамольного» автора: обнаружение таких книг при обыске не сулило ничего приятного их владельцам.
За долгие годы книжного собирательства я видел эту книгу в частном собрании только у одного, ныне покойного, И. Д. Смолянова, много поработавшего над библиографией Радищева. Из прижизненных изданий Радищева у него была лишь эта книга, но он весьма дорожил ею.
Оказавший мне помощь в приобретении «Размышлений» А. Г. Миронов удостоверяет, что он, почти за полувековой период работы с антикварной книгой, впервые провел этот труд Радищева через свои руки.
«ОФИЦЕРСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ»
Упомянутые выше две расписки Радищева в получении гонорара за перевод книги Мабли имеют одну, весьма важную подробность.
Первая из расписок от 7-го мая 1773 года подписана «Титулярный советник Александр Радищев», а вторая, от 6-го декабря того же года, имеет подпись: «Штаба его сиятельства графа Якова Александровича Брюса обер-аудитор Александр Радищев»5.
Эта перемена титулов ясно говорит о том, что в период между двумя этими расписками Радищев бросает службу в Сенате и определяется в армию, по той же юридической части, в качестве прокурора. По мнению Радищева и его ближайших друзей, соучеников по Лейпцигу А. М. Кутузова и А. К. Рубановского, также ушедших из Сената, служба в армии давала больше досуга для их самостоятельной деятельности.
Однако служба в штабе Брюса, командира финляндской дивизии, дислоцированной тогда на Карельском перешейке, оказалась тяжкой. Сопровождавшие разбирательство проступков военнослужащих неизбежные шпицрутены, битье кнутом и батогами, с «вырыванием ноздрей» и прочим членовредительством, достававшимися на долю основной массы рекрутчины из крепостного крестьянства,– все больше и больше открывали глаза Радищеву на страдания народа.
Здесь он, между прочим, встречается с одним из своих подчиненных по работе, аудитором Тобольского полка поручиком Федором Кречетовым, будущим организатором вольнодумного общества, за которое поручику после пришлось расплачиваться казематами Шлиссельбурга6.
Глубоко принципиальный в каждом своем поступке, Радищев не хотел прийти в армию несведущим в армейских делах человеком.
С этой целью он, в том же «Собрании, старающемся о переводе иностранных книг», берет для перевода, а, следовательно, и для изучения, военно-технический труд неизвестного немецкого автора под названием:
«Офицерские упражнения», в 4-х частях. На части первой имеется подзаголовок: «Упражнения пехотных офицеров, от капитана до прапорщика, в окружных местах их гарнизона». Часть вторая содержала «Упражнения пехотных офицеров от капитана до прапорщика вне их гарнизона», часть третья – «Упражнения пехотных офицеров от полковника до капитана вне их гарнизона», часть четвертая – «Маневры одного батальона, на восемь плутонгов разделенного, которые равномерно могут представить восемь батальонов, восемь бригад или восемь дивизионов».
Приведенные здесь заглавия отдельных частей этого перевода дают представление о характере и содержании второго, отдельно вышедшего печатного труда Радищева.
Переводя книгу, Радищев хотел помочь среднему офицерскому составу русской армии, в то время почти лишенному каких-либо руководств в своем ратном деле.
Перевод был осуществлен Радищевым в 1773—74 годах. Сохранились его расписки в получении за перевод первых двух частей 84 рублей, а за две последующие—70 рублей. Книги были напечатаны тем же новиковским обществом, дела которого к этому времени настолько пошатнулись, что напечатанные в 1773 году первые две части, а вскоре за тем и две последующие, из типографии не были выпущены. Известен только один экземпляр первых двух частей, датированный 1773 годом. Он был преподнесен Екатерине II. Все остальные сохранившиеся экземпляры имеют дату на выходном листе: «1777 год»,– и уже без марки новиковского общества.
Напечатанные в количестве 650 экземпляров «Офицерские упражнения» стали чрезвычайной редкостью. К предполагаемым причинам этого, изложенным мною при описании радищевского перевода Мабли, следует еще добавить узкоспециальный характер «Офицерских упражнений», не способствовавший охоте книголюбов хранить эти книги в своих библиотеках.
Мне так и не удалось достать ни одной части «Офицерских упражнений» – второго печатного труда Радищева.
«ЖИТИЕ УШАКОВА»
Следующая отдельно изданная книга Александра Радищева появилась в свет только в 1789 году, примерно через шестнадцать дет после первых двух указанных выше книг.
Называлась она «Житие Федора Васильевича Ушакова, с приобщением некоторых его сочинений»1. Книга состоит из двух частей. В первой помещено «Житие Ушакова», написанное Радищевым, во второй—«размышления» самого Ушакова (они были написаны на французском и немецком языках): 1. О праве наказания и о смертной казни; 2. О любви; 3. Письма о первой книге Гельвециев а сочинения о разуме.
Вторую часть Радищев не только перевел, но и отредактировал с внесением многого от себя8.
Федор Васильевич Ушаков – один из товарищей Радищева, посланный вместе с ним в Лейпциг для изучения юридических наук. Он оказал большое влияние на Радищева, был «вождем его юности».
Вся книга об Ушакове, по существу, повесть, – первое художественное произведение Радищева, появившееся в печати. Об обстоятельствах, предшествовавших выходу в свет этой книги, необходимо сказать несколько слов.
Осенью 1773 года, когда Радищев продолжал еще оставаться обер-аудитором при штабе Брюса, вспыхнуло крестьянское восстание, возглавленное «мужицким царем» Емельяном Пугачевым. Позже Пушкин писал: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства»9.
Однако и среди дворян, в особенности из офицерства, было не мало переходивших на сторону Пугачева. Перепугавшаяся Екатерина II мобилизовала армейские части для подавления восстания. В ноябре 1774 года «мужицкий царь» Емельян Пугачев был пойман и доставлен в Москву, а 10 января 1775 года – казнен.
Несмотря на жестокую расправу над участниками восстания, оно оказало громадное влияние на развитие общественной мысли и было своего рода «университетом» для революционного мировоззрения Радищева.
Служба в армии Радищеву становится невмоготу. Он уходит в отставку, женится на Анне Васильевне Рубановской и почти три года нигде не служит. Только в 1777 году он поступает в Коммерц-коллегию, где сближается с А. Р. Воронцовым, вельможей, не убоявшимся позже, после ссылки Радищева за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», всячески поддерживать писателя.
С 1780 года Радищев назначается на службу в столичную таможню, где занимает должность сначала помощника, а потом и Управляющего до самых дней грозы, разразившейся над ним как автором «Путешествия из Петербурга в Москву».
Все эти годы Радищев сосредоточенно работает над созданием Новых литературных произведений. В 1780 году он пишет «Слово о Ломоносове», в 1781—1783 годах работает над созданием первого русского революционного стихотворения – оды под названием «Вольность». Он ничего не печатает, бережет. Позже эти произведения войдут фрагментами в его книгу-подвиг «Путешествие из Петербурга в Москву», давно уже им задуманную. Не печатает он и написанное в 1782 году «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске». Оно тоже позже выйдет отдельной, оттиснутой в собственной его типографии, книгой.
За эти годы в печати точно известна только одна статья Радищева, появившаяся без его имени в журнале «Беседующий гражданин» в 1789 году.
Статья называлась: «Беседа о том, что есть сын отечества».
В какой-то мере эта тема является и темой книги «Житие Ушакова». После подавления крестьянского антифеодального восстания, вопросы воспитания юношества являлись одной из главных «забот» императрицы. Выпущенная по ее повелению книга «О должностях человека и гражданина» поучала, что первой обязанностью «сына отечества» является «повиновение». Всякого рода «роптания, худые рассуждения, поносительные и дерзкие слова против государственного учреждения и правления, суть преступление...»
В противовес этому русские просветители выдвигали свою систему воспитания, основанную на теориях Руссо.
Радищев в «Житие Ушакова» делает шаг вперед, и, приводя в качестве своеобразного примера студенческий бунт в Лейпциге против жестокого обращения надзирателя Бокума, предлагает воспитывать «сынов отечества» в духе непримиримой ненависти к поработителям.
О революционности и смелости высказанных в книге суждений лучше всего свидетельствует письмо сотоварища по образованию Радищева – А. М. Кутузова, которому посвящена эта книга. В своем письме на имя Е. И. Голенищевой-Кутузовой последний пишет: «Книга наделала много шуму. Начали кричать: какая дерзость, позволительно ли говорить так и прочее и прочее. Но как свыше молчали, то и внизу все умолкло...»10
И «свыше» и «внизу» молчали, однако, не долго. С момента ареста Радищева 30-го июня 1790 года и уничтожения его «Путешествия» все произведения писателя усердно изымались, как из продажи, так и из частных собраний.
Получилось даже так, что книга «Житие Ушакова» стала значительно более редкой, чем само «Путешествие». Если уцелевших экземпляров последнего насчитывается сейчас библиографами все-таки около четырнадцати, то «Житие Ушакова» известно в количестве всего пяти-шести, включая и находящийся в моей библиотеке экземпляр.
Логика подсказывает причину такой разницы. «Житие Ушакова» возбуждало у современников интерес несравнимо более слабый, чем «Путешествие». Если для утайки последнего стоило даже рискнуть, то охотников рисковать ради «Жития Ушакова» было куда меньше. Отсюда, как мне думается, и меньшее количество дошедших до нас экземпляров этой книги.
«Житие Ушакова» было продано поэту Демьяну Бедному, примерно, в 1930 году московской Книжной лавкой писателей, куда этот экземпляр поступил из собрания известного библиофила доктора А. П. Савельева.
Обстоятельства, при которых книга эта перешла от Демьяна Бедного в мою библиотеку, как мне кажется, не лишены интереса и я позволю себе рассказать о них здесь.
*
Не все, может быть, знают, что скончавшийся в 1945 году замечательный советский поэт Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов) был большим знатоком и страстным любителем книги. Свою огромную (свыше тридцати тысяч томов) библиотеку он собирал несколько десятков лет и, доведя ее до совершенства в смысле полноты и подбора, отдал в Государственный литературный музей (Москва).
– Устраивай книги на место, пока сам еще жив. Не оставляй их сиротами!
Так, примерно, говаривал мне поэт, до самозабвения влюбленный в русскую литературу и в русскую книгу. Но отдав свою великолепную библиотеку в музей, он заскучал и... начал собирать книги снова. Буквально за несколько дней до смерти Демьян Бедный еще путешествовал по букинистическим магазинам, похохатывая и радуясь той или иной находке.
Знал он книгу, как сейчас знают только немногие. Не было такого вопроса в русской литературе, на который бы не ответил Демьян Бедный. От допетровских старинных «Вечерей душевных» до новой современной книги, вышедшей только вчера,– все знал и любил этот самобытный, талантливый русский поэт.
– Ефим Алексеевич,– обратился я раз к нему, будучи тогда еще сравнительно молодым собирателем,– как вы думаете, стоит ли мне взять «Житие Ушакова» Радищева в издании 1789 года?
Я не обратил внимания на паузу, которую сделал Демьян, прежде чем ответить. Он знал, что я беспрекословно слушаю его советы – взять или не взять ту или иную книгу, и частенько звонил мне сам, рекомендуя: в такой-то лавке есть такая-то книга – возьми!
Он любил людей, ценящих книгу, и мог возненавидеть человека, небрежно с ней обращающегося. Он был рыцарем книги!
На этот раз, после паузы, он спросил, как бы совсем равнодушно:
– Где это тебе предлагают Радищева?
– Да вот, в Лавке писателей,– отвечаю,– только дороговато просят. Радищев-то, Радищев, но, все-таки «Житие Ушакова» это же не «Путешествие из Петербурга в Москву»! Как вы посоветуете?
И опять я не обратил внимания ни на сверлящие глаза Демьяна, ни на то, что поэт и на этот раз оставил мой вопрос без ответа.
За ночь раздумья я, все-таки, решил взять книгу и часов в 12 дня пошел в лавку. Велико же было мое изумление, когда мне заявили, что Демьян Бедный часов в 8 утра, за час до открытия лавки, дежурил у ее дверей, вошел первым, купил «Житие Ушакова» и просил передать, если кто меня увидит, чтобы я немедленно явился к нему на квартиру в Кремле. Через несколько минут Демьян пушил меня на все корки.
– Книгу, конечно, я взял себе! – гремел он.– Может быть это и не красиво, и не этично – пожалуйста! Но собиратель, который смеет советоваться – взять или не взять ему «Житие Ушакова» Радищева – обладать этой книгой не имеет права. Можно не знать многого, но не знать, что каждая прижизненная книга Радищева– на вес золота, значит не знать ничего! Собирай марки! Коллекционируй подштанники великих людей, но не смей думать о книгах!
Позже в мою библиотеку пришло и само «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева и многое другое, но все мои собирательские радости не могли изгнать из памяти тех огорчительных дней, которые пережил я, попавшись Демьяну, как карась на муху...
– И не отдам! – гудел Ефим Алексеевич,– пока не увижу, что ты хоть что-нибудь знаешь о книгах! И не заикайся – срам!
Года три после этого, когда возникал какой-нибудь «книжный вопрос», Демьян ехидно говорил:
– А вот спросим у знаменитого библиофила Сокольского! Иногда, удовлетворенный ответом, он добродушно подшучивал:
– Вот, вот, еще лет пяток и выманит он у меня «Житие Ушакова»!
Выманить удалось чуточку раньше. Надо заметить, что у меня хорошая память, развитая, вероятно, профессионально, как у артиста. Как-то, копаясь в книгах Демьяна Бедного (редко кому позволял он это делать!), я обратил внимание на маленькую книжку издания 1827 года – «Фемида». В книжке говорилось о правах и обязанностях лиц женского пола в России, и представляла она собою нечто вроде свода судебных узаконений по женскому вопросу11.
Для работы над каким-то фельетоном для «Правды» Демьяну потребовалась именно эта книга. Звонок: – Слушай, «знаменитый библиофил», нет ли у тебя, случайно, книжки «Фемида» 1827 года?
Я затаил дыхание. Как? Я видел книгу у самого Демьяна на полках, а он ее разыскивает? Он, считающий незнание книг собственной библиотеки – самым смертным грехом на земле? Ну, сейчас грянет бой!
Дипломатично ответил, что сию минуту приеду. Приехал с вопросом:
– А разве у вас, Ефим Алексеевич, нет этой книги?
– Да нет, понимаешь-ли! Ищу ее лет десять – ну не попадается, да и только. Книжка-то чепуховая, а вот нужна. У тебя-то она есть?
– У меня, Ефим Алексеевич, ее нет, но у одного моего знакомого собирателя она имеется. Собиратель, правда, чудной: книг насбирал уйму и даже не знает – какие у него есть, каких нет...
– Кто это безграмотное чудовище?
– Да вы его знаете, Ефим Алексеевич! Это – известный поэт Демьян Бедный. Книга у него дома в четвертом шкафу, на второй полке, а он, видите ли, ее десять лет у других разыскивает...
Пауза была тяжелая, как камень. Демьян молча открыл несгораемый шкаф, в котором у него хранились наиболее редкие книги, достал радищевское «Житие Ушакова», сел за стол, раскрыл книгу и, вынув самопишущее перо, все еще молча, написал на обратной стороне переплета:
«Уступаю Смирнову-Сокольскому с кровью сердца! Демьян Бедный».
Молча отдал мне книгу, и я, так же молча, унес домой драгоценный подарок поэта.
Сейчас его собственные книги стихов тоже стоят у меня на полках, как на жердочках птицы.
Но это грозные, суровые птицы. Орлы!
Подаренная Демьяном Бедным книга «Житие Федора Васильевича Ушакова» издания 1789 года – одна из самых замечательных русских книг в моей библиотеке.
ПЕРВЕНЕЦ ВОЛЬНОЙ ТИПОГРАФИИ РАДИЩЕВА
Когда всеми правдами и неправдами Радищеву удалось провести через цензуру (как именно, будет рассказано в следующей главе) рукопись «Путешествия из Петербурга в Москву», перед ним встал вопрос: где же ее напечатать?
Радищев обратился к известному московскому типографщику С. Селивановскому. Опытный типографщик, прочитав рукопись, понял, «чем она пахнет», и печатать категорически отказался. Что было делать? Обращаться к Николаю Ивановичу Новикову, крупнейшему издателю и просвещеннейшему деятелю того времени, не имело смысла. В этот год положение самого Новикова было уже весьма критическим, и он, несмотря на близкое знакомство с Радищевым, печатать такую книгу никогда бы не согласился.








