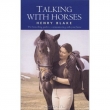Текст книги "Гомункулус"
Автор книги: Николай Плавильщиков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
Не думайте, что Бюффон просто завидовал Линнею. Нет! Разве мог скромный шведский профессор оспаривать мировую славу у такой знаменитости, как граф Бюффон. Причина была в другом: Бюффону очень не по душе была классификация – он видел в ней попытки втиснуть живую природу в рамки мертвых схем.
Линнеевская «Система природы» нашла в Бюффоне ожесточенного врага: он не любил педантичности.
– Помещать льва с кошкой, говорить, что лев – это кошка с гривой и длинным хвостом, – это значит унижать природу вместо того, чтобы описывать и наименовывать, – возмущался Бюффон.
Вскоре подоспела и еще одна неприятность. Составив множество описаний зверей и птиц, Бюффон решил, что нужно дать и некоторые обобщения.
И вот он уселся за новую работу: стал писать о жизни, о Земле, о возникновении живого.
«Высоко на Апеннинских горах встречаются раковины морских моллюсков. Не значит ли это, что когда-то там было море…» – писал Бюффон в одной из своих книг.
– Хороша «Натуральная история»! – не утерпел Вольтер. – Море на горе… Это не «натуральная история», а «неестественная история».
Бюффон рассердился:
– Да? Что же Вольтер думает об этих раковинах? Может быть, их понатащили туда пилигримы и прочие богомольцы, раскаявшиеся под старость в грехах молодости?
Это было очень ловко сказано, и Вольтер, сам весьма опытный в злословии, оценил такой ответ по достоинству. И когда Бюффон прислал ему очередной том своих сочинений, ответил ему дружеским письмом.
«Вы – второй Плиний», – написал он Бюффону.
Бюффон растаял. Он долго думал, как ответить Вольтеру, чтобы перещеголять его в любезности, и наконец написал:
«Если я второй Плиний, то никогда не будет второго Вольтера».
Философ был очарован комплиментом. И когда кто-то из его знакомых, противников Бюффона, напомнил ему о спорах с автором «неестественной истории», он буркнул:
– Не стану же я ссориться с Бюффоном из-за каких-то пустых устричных раковин.
Слава росла. Еще при жизни Бюффона ему поставили памятник. Статуя натуралиста красовалась при входе в «естественный кабинет» короля. Так приказал Людовик XVI.
Гости и посетители, почитатели таланта и любопытствующие иностранцы толпились у дверей кабинета ученого. До работы ли тут? А работы много, очень много. Потерянный час не вернешь, это Бюффон знал хорошо.
– Я очень польщен, – кланялся Бюффон заезжему итальянскому графу. – Такая честь… Я не знаю, куда и посадить вашу милость. Сюда, – указывал он на кресло. – Здесь вам будет хорошо… Нет, нет, нет… Что я наделал! Не в это кресло, у него слаба ножка… Вот это кресло!
Посетитель волей-неволей пересаживался. Не проходило и минуты, как Бюффон вскакивал:
– Окно! Здесь дует от окна!
И граф снова пересаживался.
Переменив в течение пяти минут полдюжины кресел, иностранец вставал и прощался.
– Это какой-то сумасшедший, – бормотал он про себя, выходя на улицу. – Прыгай ему с кресла на кресло.

Жорж Бюффон (1707–1788).
А Бюффон весело подмигивал – спровадил посетителя! – и спешил к столу.
Ни для политики, ни для общественной жизни у него не оставалось времени. Он только писал, писал, писал…
4
«История Земли» и «Эпохи природы» – книги, замечательные и по содержанию и по языку. Не зря же Бюффон переписал свои «Эпохи природы» одиннадцать раз – так тщательно работал он над языком: старался писать не только красиво, но и понятно.
– Земля не оставалась неизменной. Семь периодов было в ее истории и каждый из них нес с собой изменения.
Бюффон описал те изменения, которые, по его мнению, происходили на Земле в давно прошедшие времена. Он не был ученым-геологом, да и сама-то наука геология в те годы только нарождалась. Конечно, в рассуждениях Бюффона оказались ошибки, но некоторые из его объяснений можно повторить и в наши дни. И кое-кто их повторяет в несколько измененном виде, не подозревая того, что примерно то же самое писал французский натуралист двести лет назад.
На Солнце (Бюффон начинает историю Земли с него) упала какая-то комета. И сколько-то отдельных частей оторвалось от Солнца. Так народилась Земля и другие планеты. Это – первый период истории Земли.
Во втором периоде общая масса Земли разделилась: наиболее легкие частицы выделились. Далеко отброшенные от огненно-жидкой земной поверхности, они образовали первичную атмосферу – смесь газов и водяных паров. Земля остывала, и огненно-жидкая масса понемногу покрывалась корочкой – твердой оболочкой. Она оказалась неровной: в ней было множество углублений, возвышенностей, пещер. Появились горные хребты.
В конце концов Земля отвердела полностью, и ее центральное ядро оказалось очень плотным, раскаленным, но твердым. Вытекающая из вулканов лава, в которой видели доказательство расплавленного состояния внутренней части земного шара, совсем иного происхождения. Она – результат происходящих в земных недрах процессов, развивающихся под воздействием внутреннего жара. Эти процессы – причина образования лавы, причина вулканических извержений.
Земля остывала все сильнее. Окутывавшие ее водяные пары охладели, и потоки дождей полились на Землю. Начался третий период. Глубокий всемирный океан покрыл Землю. Доказательства налицо: остатки морских животных находят в толщах земной коры, даже на высоких горах. Океан не просто покрыл сушу. Он вызвал огромные изменения в рельефе Земли, пусть пока в подводном. Воды разрушили часть подводных гор. Продукты разрушения заполнили низины и глубокие долины.
И вот наступил четвертый период. Уровень мирового океана понизился. Суша выступила из воды. Это был единый континент среди единого моря.
Зачем понадобился Бюффону единый континент? Иначе он не мог объяснить распространение некоторых животных и растений, как и почему на разных материках оказались близко родственные животные? Да и как вообще объяснить возникновение животных и растений на разных материках, разделенных глубоким океаном? Переселиться с материка на материк мог лишь кое-кто. Ну, птицы, те летают, для них океан не препятствие. А звери? Как мог слон или носорог перебраться из Африки в Индию? Как смогли кошки оказаться и в Америке, и в Африке, и в Азии? Как могли расселиться по материкам лягушки? Соленая вода для них – гибель, да и какой пловец лягушка!.. Единый материк объяснял все. На нем возникли и размножились наземные животные и растения. Таков был пятый период (возникновение животных и растений на суше).
А в шестом периоде единый материк распался на несколько материков, и они расползлись в стороны, отодвинулись друг от друга. Вместе с ними «разъехались» и животные и растения.
Седьмой период – время появления человека.

Молодой шимпанзе (рисунок 1748 года).
Поверхность Земли продолжала изменяться. Но изменяли ее не извержения вулканов, не землетрясения. Важны не катастрофы, а причины, действующие медленно и незаметно, но постоянно.
«Наиболее великие и повсеместные перемены на поверхности обусловлены деятельностью дождей, рек, речек и потоков… Воды спускаются сперва в долины, не придерживаясь определенного пути. Постепенно вырывая себе ложе и ища места наиболее низкие, податливые, доступные для прохода, они несут с собой землю и песок, вырывают глубокие овраги и, несясь быстро по долине, открывают себе путь к морю… Эти воды не только увлекают с собой песок, землю, гравий и небольшие камни, но и волокут огромные скалы, уменьшая таким образом поверхность гор… Существует бесчисленное множество новых островов, которые образовались из ила, песка и земли, принесенных водами рек и моря в различные места…»
Чем плохи эти строки? Их можно и сегодня повторить в учебнике физической географии.
Если Земля испытала ряд изменений, то неужели ее население оставалось неизменным? Неужели животные и растения всегда были такими же, какими мы их видим сегодня?
И еще вопрос: откуда взялись все эти животные и растения?
Бюффон ответил на эти вопросы. Понятно, по-своему.
Весь окружающий нас мир образован молекулами двух родов: неорганическими и органическими. Все живое – огромный дуб и крохотная водоросль, инфузория и слон – все они сложены из органических молекул, особых невидимых частиц. Эти молекулы имеются всюду, где есть хоть какие-нибудь признаки жизни, они рассеяны во всей Вселенной. Они бессмертны: животное или растение умирает, но составлявшие его молекулы не погибнут. Смерть – это лишь разрушение определенной комбинации молекул.
Освободившиеся молекулы могут при подходящих условиях вновь объединиться. Они или положат начало какому-нибудь простейшему организму, или послужат для увеличения размеров более крупного и более сложного организма.
Количество молекул постоянно. Сколько их было от начала веков, столько остается и сегодня. Но комбинации их беспрерывно изменяются: одна и та же молекула побывает на протяжении веков и в воздухе и в почве, войдет в состав то растения, то животного. Молекула из травы попадает в тело зайца, съевшего эту траву, и превратится на время в «заячью»… А там зайца схватит и съест волк или лисица, и молекула войдет в состав тела хищника. Пройдет сколько-то времени, и волк умрет. Распадается «волчья комбинация», и освободившиеся молекулы рассеются в воздухе. И снова начнутся их «приключения».
Жизнь во всей ее сложности и красоте – извечный круговорот органических молекул. С ними связано все – рост и развитие, размножение, изменчивость и наследственность. Все, что мы видим вокруг себя, все это – игра органических молекул.
«Первый продукт объединения органических молекул» – это инфузории и бактерии. Живые тельца, которые возникают в настоях из растений или мяса животных, произошли из соединения органических молекул.
Бюффону не нужна была загадочная «жизненная сила», которой так увлекались многие ученые не только его века, но и куда более поздних времен. Зачем она нужна, когда есть молекулы, из которых можно построить все, что угодно. (Помните, однако, что бюффоновские «молекулы» совсем не те молекулы, о которых вы знаете из учебника химии: схожи лишь названия.)
Какая же сила управляет комбинациями молекул? Бюффон попытался объяснить и это.
Организм – это своего рода кристалл, сложенный из все более мелких кристалликов той же формы. Молекулы поваренной соли, притягиваясь друг к другу, образуют кристалл кубической формы, и такой кристалл – куб – характерный признак поваренной соли. Разнородные органические молекулы, характерные для данного организма, также притягиваются друг к другу, образуя некую первоначальную «внутреннюю форму». Эта «форма» растет и развивается за счет новых и новых порций молекул, поступающих в нее благодаря питанию. А питание заключается в том, что из пищи «изначальная внутренняя форма» выбираетлишь родственные ей частицы, подобно тому, как кристалл поваренной соли «выбирает» из раствора молекулы поваренной соли и растет за их счет.

Жорж-Луи Леклерк, граф Бюффон.
Двести лет назад были написаны эти страницы. И подобные мысли не исчезли, не ушли безвозвратно в историю науки. В ином пересказе мы слышим их и теперь.
Бюффон писал страницу за страницей, его «молекулы», казалось, решали все проблемы. И все же…
– Могла ли природа своими собственными силами создать растения и животных такими, какими мы их видим?
Сегодня Бюффон решал: да, могла. Но наступало завтра, и он начинал сомневаться.
– Все ли возможно для природы? Нет ли границ для ее творчества? Человек… Как он…
И тогда… тогда появлялась мысль о всемогущем творце.
– Ему доступно все!
А там снова: всемогущая природа… Смелые мысли рвались вверх, «творец» тянул книзу. И мысль не могла взлететь, она только – подпрыгивала.
– Виды животных и растений изменяются. Климат и пища воздействуют на животное. Но как велики эти изменения? Приведут ли они к возникновению новых видов, или все ограничится появлением новой разновидности?
От ответа на этот вопрос зависело все.
– Если природа всемогуща, то новый вид появиться может, но…
Бюффон так и не решил этой задачи.
Домашние животные, культурные растения – с ними больших сомнений не было. Применяя отбор, человек создает новые формы. И даже такие, каких «сама природа не произвела бы на свет».
Линней спокойно утверждал, что новых видов не появлялось со дня творения (помеси-гибриды не в счет: что тут нового?). Бюффон сомневался – «а может быть…» Ему почти не с кем было поделиться своими сомнениями, а главное, союзников у него не оказалось. Хуже: у него были враги.
– Как? Семь периодов, да еще по многу веков каждый? По библии история Земли охватывает всего шесть дней.
Богословский факультет Сорбонны – ученого центра Парижа и всей Франции – всполошился.
Книги Бюффона признали не просто еретическими, а богохульными. Сгоряча постановили даже, что их должен сжечь палач.
Бюффон пробовал оправдаться. Он доказывал, что его предположение о периодах земной истории совсем не противоречит библии, что для Земли совсем не зазорно быть дочерью Солнца, что у него, как и в библии, человек появился на Земле после всех животных. Доказательства Бюффона были довольно убедительны, он был очень вежлив с профессорами-церковниками, и защитники библии на время притихли.
Вскоре нападки возобновились. Появилась анонимная брошюрка: «В то время как другие писатели, развлекая нас историей отдельного насекомого, умеют вознести нас мыслью к творцу, господин Бюффон, объясняя устройство мира, позволяет нам почти не замечать творца». Это было обвинение почти в безбожии. Церковники снова подняли крик. Впрочем, они шумели недолго: объявили, что и семь периодов Бюффона и вся его философия – старческий бред. Это не означало, что они так думали, но что им оставалось делать? Граф Бюффон был одним из популярнейших людей во Франции, его очень уважали при дворе короля. Нельзя же было посадить в тюрьму столь почтенного человека.
Бюффона оставили в покое, но сам-то он не успокоился.
Авторитет Линнея был признан всюду. Его система растений получила общее признание. Во всех крупных ботанических садах начали рассаживать растения применительно к линнеевской системе. Пришлось заняться такой пересадкой и Бюффону – ведь он был интендантом Королевского сада. Это было ему очень не по сердцу – признать правоту ученого шведа.
Линней же вместо благодарности назвал в честь Бюффона одно очень ядовитое растение «Бюффонией».
«Он еще смеется надо мной! – задыхался от злобы старик. – Проклятый швед!»
Кровная родня
1
 Почему так схожи некоторые животные? Почему у кошки, льва, тигра, пантеры, ягуара, пумы, рыси, гепарда столько общего? Потому ли, что все они кровная родня? Или потому, что они построены по единому плану, частные случаи которого творец разнообразил на все лады?
Почему так схожи некоторые животные? Почему у кошки, льва, тигра, пантеры, ягуара, пумы, рыси, гепарда столько общего? Потому ли, что все они кровная родня? Или потому, что они построены по единому плану, частные случаи которого творец разнообразил на все лады?
Бюффон раздумывал и сомневался. Так прошел не один год, и вдруг он увидел небольшую немецкую книжку. В ней было всего двадцать четыре странички, и она называлась «О перерождении животных». Составлена Афанасием Каверзневым из России.
Прочитав книгу Каверзнева, Бюффон задумался:
– Этот русский очень старательно изучил мои сочинения, правда не все. Иногда он просто повторяет мои строчки. Но он делает из них совсем другие выводы. Он не признает моего «единого плана творения», а полагает, что все животные находятся в кровном родстве, что все они произошли от одного общего ствола. Он ушел в своих мыслях гораздо дальше меня. Но человек… – Бюффон вскочил с кресла и прошелся по кабинету. – Человек… Человек – это существо неба, а животные – дети земли. Так говорю я! А русский… Он считает человека и обезьян кровной родней. Человек – и обезьяна!
С предположением Каверзнева, что человек – кровная родня обезьян, Бюффон согласиться никак не мог. Его смущали и другие рассуждения русского: об изменчивости, о родстве животных, об общем стволе животного мира.
– Он не делает окончательных выводов, но они сами напрашиваются, когда прочитаешь его сочинение. Хорошо бы поговорить с ним самим, – но где искать его? Впрочем…
Книжечка Каверзнева была посвящена профессору естественной истории Лейпцигского университета Натаниэлю Леске. Посвящение начиналось словами: «Дорогой учитель!», а кончалось: «Благодарный Вам на всю жизнь ученик Афанасий Каверзнев».
«Леске наверное знает, где находится его ученик», – решил Бюффон и написал Леске письмо с просьбой сообщить адрес Каверзнева.
Бюффон с нетерпением ждал ответа от Леске, но письмо профессора не порадовало знаменитого натуралиста. Леске ничего не знал о своем бывшем ученике и смог сообщить лишь одно: в начале осени 1775 года Каверзнев уехал в Россию.
Бюффон сердито скомкал письмо, но через минуту разгладил его и прочитал еще раз.
– Уехал в Россию, – проворчал он. – Ищи его там…
Впрочем, если бы Бюффон и попробовал искать Каверзнева в России, вряд ли ему удалось бы разыскать его.
2
В 1765 году в Санкт-Петербурге повелением императрицы Екатерины II было учреждено «Вольное экономическое общество» – первое научное общество в России. Академия наук должна была заниматься науками, целью нового общества было «распространение в государстве полезных для земледелия и промышленности сведений».
Общество интересовалось всем. В его «трудах» помещались статьи и о том, как пахать землю, как ее удобрять, как сеять, и о том, как ухаживать за лесами, и о том, как варить мыло и гнать деготь.
Русские издавна занимались пчеловодством. Общество решило, что нужно познакомить русских пчеловодов с различными новыми приемами, научить их водить пчел не «по старине», а по последнему слову науки.
– Пошлем двух-трех молодых людей за границу. Пусть едут к Шираху в Саксонию. Он знаменитый пчеловод, и у него есть чему поучиться.
Написали Адаму Шираху письмо с просьбой принять в ученики двух – трех молодых людей и обучить их всем секретам пчеловодческой науки. Ширах ответил согласием.
Найти подходящих молодых людей оказалось не так просто. Будущий ученик Шираха должен знать немецкий язык: ведь он поедет учиться к немцу. Он должен знать и латинский язык: в те времена языком ученых была латынь. Дворяне обучали своих детей французскому языку; можно было найти среди такой молодежи знающих латинский и немецкий языки, но… Какой же дворянин поедет учиться пчеловодству? А если и поедет, если и овладеет пчеловодным искусством, то разве станет он потом обучать пчеловодов? Вряд ли…
– Нужно искать среди семинаристов, – решили члены общества. – Они не дворяне, с ними хлопот не будет. Прикажут им – и они поедут.
Послали запросы в разные семинарии. В смоленской семинарии нашлись два подходящих семинариста: они отлично учились, хорошо знали немецкий и латинский языки и были благонравного поведения. Так, по крайней мере, их аттестовало семинарское начальство.

Морские рыбы и чудовища в изображении ученого XV века.
Семинаристов вызвали в Петербург. Здесь два академика – Штелин и путешественник Эрик Лаксман – устроили им экзамен. Семинаристы бойко переводили с латинского языка на немецкий, с немецкого на русский, а с русского – на латинский, знали грамматику и синтаксис. Заодно их проэкзаменовали и по другим предметам.
– Они вполне пригодны для заграничного вояжа, – доложили экзаменаторы обществу. – Из них будет толк.
Семинаристов приодели и дали им по сто рублей на проезд.
– Ну, поезжайте! Ведите себя смирно и благопристойно, учитесь и почаще пишите о своих занятиях. Помните, мы отсюда будем следить за вами.
Молодые люди – это были Афанасий Каверзнев и Иван Бородовский – сели на корабль и поплыли на Запад.
С самого начала путешествие не ладилось. В Балтийском море корабль потрепала буря. Хорошо еще, что крушение произошло вблизи от острова Рюген и пассажиры и команда уцелели.
От Рюгена до саксонского городка Бауцен, в котором жил Ширах, около 350 километров.
Денег у будущих учеников Шираха было мало. Пришлось идти пешком, а под конец двухнедельного пути продавать свое белье и одежду, чтобы кое-как прожить.
– Добро пожаловать! – встретил Ширах путешественников. – Как только отдохнете от длинного пути, мы начнем наши занятия.
Бывшие семинаристы превратились в студентов. Они прилежно изучали немногие в то время системы ульев: колоды, «сапетки» – изготовленные из соломы ульи, имевшие форму колокола, и дощатые. Изучали медоносные растения. Ширах знакомил их с жизнью пчел, а эту жизнь он знал великолепно. Ведь именно он сделал замечательное открытие: узнал, почему в одних ячейках выводятся рабочие пчелы, а в других – матки. Наблюдательный стеклянный улеёк с одним сотом был уже придуман, и он-то позволил узнать ряд пчелиных секретов.
– Все дело в пище и величине ячейки, – рассказывал Ширах своим русским ученикам. – Посмотрите, насколько ячейки будущих маток крупнее, чем ячейки рабочих пчел. Но ячейка – это еще не все. Пища! – и Ширах поднимал указательный палец и морщил брови. – Пища – вот что важно. Пчелы кормят своих личинок по-разному. Личинка рабочей пчелы только в первые дни получает особо питательную пищу – «царское желе». Более взрослых рабочих личинок пчелы кормят медом и пыльцой – менее питательной пищей. Личинки маток все время получают «желе». Маленькая ячейка, худшая пища дают недоразвитую, бесплодную самку – рабочую пчелу. В большой ячейке, при отборной пище выводится матка. Вам понятно, почему это важно знать?
Каверзнев и Бородовский переглядывались и молчали.
– Не смущайтесь! – успокоил их Ширах. – Не так давно этого не знал ни один пчеловод, даже самый опытный. Смотрите, – он подвел их к наблюдательному улейку и показал сот. – Похожи эти ячейки на маточные? Не совсем. А почему? Это рабочие ячейки, переделанные на маточные. Я взял отсюда матку, а личинок в маточных ячейках не было. И вот рабочие пчелы надстроили несколько обычных ячеек с только что выведшимися личинками и кормят этих рабочих личинок «царским желе». Выведутся матки. Нужно только, чтобы рабочая личинка была не старше трех дней: более взрослую рабочую личинку в матку уже не превратишь, чем ни корми ее.
Каждый день будущие пчеловоды узнавали что-нибудь новое. Они интересовались естествознанием все больше и больше. Ширах был очень доволен прилежными учениками и хвалил их в своих письмах обществу.
Плохо было одно: денег, которые студенты получали от общества, не хватало на жизнь, а им хотелось поучиться не только пчеловодству. Чем платить учителям?
«С крайней нашей охотой и нетерпеливостью желаем упражнение иметь в обучении натуральной истории и в других науках, полезную часть экономии составляющих, также к распознанию прочих, окроме пчелиных примечаний, нужных знаний», – писали студенты в Петербург, прося об увеличении жалованья и о разрешении остаться за границей еще на некоторое время. Ширах тоже писал в общество, что его русские ученики очень интересуются естествознанием и что им полезно было бы поучиться не только пчеловодству, но получаемых ими денег не хватит на оплату учителей.
Общество, довольное успехами Каверзнева и Бородовского, разрешило им остаться в Саксонии еще на два года, а их жалованье увеличило до трехсот рублей в год.
Осенью 1772 года студенты переехали в Лейпциг и начали там изучать естественные науки. Они не только учились: Каверзнев перевел на русский язык руководство по пчеловодству, составленное Ширахом. Этот перевод был издан в Петербурге, а переводчик получил в награду сто рублей. Так появилась книга «Саксонский содержатель пчел, ясное и основательное наставление к размножению пчел, сочиненное г. Ширахом. Переведено с немецкого Афанасием Каверзневым» (1774, 338 страниц). Ширах не увидел этой книги и не смог порадоваться сразу и успехам своего ученика и тому, что его книгу издали в России: в 1773 году он умер.
В Петербурге были так довольны студентами, что, когда они попросили разрешения остаться в Лейпциге еще на один год, им это позволили.

Урок зоологии (рисунок 1491 года).
Наступил 1775 год. Именно в этом году Каверзнев издал свою книжечку, которая несколько позже так удивила Бюффона. И в этом же году истек срок: нужно было возвращаться в Россию.
Осенью 1775 года Каверзнев и Бородовский были в Петербурге. Снова, как и четыре года назад, им устроили экзамен. Теперь их экзаменовала целая комиссия: знаменитый путешественник по России и переводчик сочинений Бюффона на русский язык Иван Лепехин, натуралист и путешественник по Сибири, великий знаток минералов Эрик Лаксман, исследователь Кавказа Иоганн Гильденштедт, все трое – знаменитые натуралисты-академики. Четвертым экзаменатором был физик и астроном Иоганн Альбрехт Эйлер, сын крупнейшего математика Леонарда Эйлера, красы и гордости Российской Академии наук.
Каверзнев прекрасно выдержал экзамены, и академики написали похвальный отзыв о его успехах. Мало того: за труды по переводу книги Шираха общество наградило его серебряной медалью.
Казалось, перед Каверзневым открылась дорога будущего ученого. Увы! Все испортили письма из-за границы.
Жизнь в Лейпциге не была уж очень дорогой, да студенты и не привередничали, но половина годового жалованья в триста рублей уходила на оплату профессорских лекций. Каверзнев и Бородовский наделали долгов: нельзя же было ходить оборванцами и не обедать (а что сделаешь на полтораста рублей в год?). Долг был не такой большой: всего триста семьдесят один талер. Пока Каверзнев и Бородовский жили в Лейпциге, портной, сапожник и трактирщик терпели и ждали, но когда русские студенты уехали в Россию, испугались, что их талеры пропадут. Они принялись писать жалобы в русское посольство.
Посольство переслало жалобы в Петербург, а здесь дело дошло до самой Екатерины II. Общество просило императрицу помочь Каверзневу и Бородовскому, но Екатерина не выручила бедняг-должников. На просьбе общества она наложила резолюцию: «Объявить, что оные студенты, обучаясь на казенном коште разным наукам, могут сами себе сыскать места, какие они по знанию и способности своей удобней найдут, и через то содержание себе получат».
Подходящей службы в Петербурге не нашлось. В конце концов Каверзнева отправили в Смоленск. Здесь ему дали место в канцелярии с жалованьем в двести сорок рублей в год.
Будущий ученый попал в мелкие провинциальные чиновники. Он знал немецкий и латинский языки, изучал естественные науки, физику, химию, перевел на русский язык книгу по пчеловодству, сам написал книгу (о которой, правда, в России никто не знал), получил от Вольного экономического общества серебряную медаль за свои труды. О нем дали лучшие отзывы известные ученые – русские академики. И все это для того, чтобы сидеть в смоленской канцелярии и заниматься работой простого писца.
Каверзнев уехал в Смоленск, получив сорок рублей на дорогу. С наукой было покончено, он стал канцеляристом.
В конце 80-х годов Каверзнев вышел в отставку и поселился в небольшом именьице жены, невдалеке от Смоленска. Здесь он занялся сельским хозяйством и пчеловодством.
В 1812 году войска Наполеона во время марша на Смоленск и Москву прошли через имение Каверзнева и разграбили его. Жена Каверзнева умерла, он остался без всяких средств, с детьми на руках. Устроить дочерей в учебные заведения на казенный счет не удалось, и это – последние сведения о Каверзневе.
3
В Петербурге Каверзнев никому не сказал о своем немецком сочинении. Он умолчал о нем и в отчете о своих занятиях за границей. Русские академики придерживались взглядов Линнея и крепко верили в постоянство видов. Показать им сочинение о «перерождении», иначе – об изменчивости видов было опасно: вольнодумцев не жаловали.
А вольнодумства в книжечке Каверзнева было очень много.
Начало сочинения Каверзнева выглядит совсем не вольнодумным. «Существует убеждение, что все виды животных, сколько мы их ни находим в наше время, вышли такими же из рук создателя», – это слова Линнея. Но приводит их Каверзнев для того, чтобы спросить в дальнейшем – а так ли это? И на следующих страницах он пишет: это не так, животные изменчивы.
Легче всего заметить изменчивость у домашних животных.
«Кто бы мог подумать, что большой дикий муфлон является предком всех наших овец! Как отличаются последние от первого в отношении телесного сложения, волосяного покрова, проворства и т. д.! Если сравнить домашних овец из различных местностей, то найдутся между ними такие, которые не имеют никакого сходства между собой. Даже в одной и той же стране встречаются различные овцы и в отношении их сложения, покрова, величины, что известно каждому, несколько знакомому с естественной историей и сельским хозяйством».

Титульный лист книги А. Каверзнева.
Не меньше различий и между породами собак, коров. Эти различия иногда так велики, что если бы натуралист нашел такие породы в дикой природе, то принял бы их за различные виды.
Так рассуждал Каверзнев. Восемьдесят лет спустя Чарлз Дарвин писал примерно то же самое о породах домашних голубей.
Домашние животные изменчивы. А дикие?
Изменчивы и они, решает Каверзнев. Большое влияние на животных оказывают климат и пища. Изменяются они – изменяются и животные. Эти изменения могут сделаться настолько значительными, что положат начало новым видам.
Но ведь если животные изменчивы, если изменения могут положить начало новым видам, то очевидно, что близкие виды – близкая родня?
Да, отвечает Каверзнев. Мысль о кровном родстве животных подтверждается и их внутренним строением. Каверзнев не занимался изучением анатомии животных. Но в «Натуральной истории» Бюффона собран большой анатомический материал: не зря же замечательный анатом, Добантон был столько лет его помощником. Каверзнев изучил этот материал, но сделал совсем иной вывод, чем Бюффон.
«…надо будет признать, что все животные происходят от одного общего ствола… У всех животных наблюдается удивительное сходство (во внутреннем строении), которое, по большей части, соединяется со внешним несходством и, по необходимости, пробуждает в нас представление о первоначальном общем плане. С этой точки зрения можно бы, пожалуй, не только кошку, льва, тигра, но и человека, обезьяну и всех других животных рассматривать как членов одной единой семьи. И если бы кошка действительно была видоизмененным львом или тигром, то могущество природы не имело бы более никаких границ и можно было бы твердо установить, что от одного существа с течением времени произошли органические существа всевозможных видов».
Бюффон утверждал, что животные сотворены создателем по единому плану: они различны просто потому, что создатель разнообразил план на все лады. Каверзнев говорит о кровном родстве, об едином происхожденииживотных. Для Бюффона человек – существо неба, для Каверзнева он – кровный родственник обезьяны.
Начав со слов Линнея, что виды постоянны, Каверзнев страница за страницей опровергает это утверждение:
«Виды изменяются. Все животные произошли от одного общего предка, все они ветви одного ствола. Человек – не исключение».