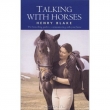Текст книги "Гомункулус"
Автор книги: Николай Плавильщиков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
Отъезд задержался. На этот раз причиной оказалась не обычная медлительность Бэра, а неторопливость петербургских чиновников. Они не спеша перекидывались прошением Бэра, пересылали его из «стола» в «стол», из департамента в департамент, требовали то справку, то удостоверение, а время шло. Сидеть без работы Бэр не умел: он начал присматриваться к академическим делам и скоро узнал замечательную вещь. Оказалось, что книга знаменитого русского путешественника Палласа «Зоография Россо-Азиатика», отпечатанная еще в 1811 году, вышла в свет всего в нескольких экземплярах.
– Почему так? – заинтересовался Бэр и услышал, что заказанные для этой книги таблицы рисунков до сих пор не получены.
Эти таблицы были заказаны в Лейпциге известному граверу. Тот почему-то их не доставлял и не отвечал ни на письма, ни на запросы.
Бэру поручили выяснить судьбу таблиц, а так как он собирался ехать за границу, то ему предложили заодно побывать в Лейпциге.
– Где таблицы? – спросил Бэр гравера, разыскав его в Лейпциге.
– Заложены, – весьма развязным тоном ответил гравер. – У меня очень плохи дела, я кончил работать, а таблиц так и не выкупил: нет денег.
Таблицы уже несколько лет лежали в закладе, гравер забыл о них, а академия его не очень беспокоила. Бэр выкупил таблицы и отправил их в Петербург, а сам поехал в Кенигсберг.
Вскоре петербургские академики получили письмо: Бэр извещал своих «почтенных коллег», что слагает с себя звание академика. Жена, друзья и знакомые сумели уговорить нерешительного человека, и он остался в Кенигсберге.
Академики выбрали на место Бэра немецкого профессора Федора Федоровича (Иоганна-Фридриха) Брандта, рекомендованного самим Гумбольдтом. Этот зоолог не медлил, не раздумывал и не побоялся возни с чиновниками. Он энергично принялся за дело и живо устроил лабораторию и даже зоологический музей.
Пока Брандт устраивал музей в Петербурге, Бэр занялся тем же самым в Кенигсберге. Начало музею было положено еще раньше: страусовым яйцом, гнездом какой-то птицы и чучелом, поеденным молью. Тогда еще Бэр обратился за помощью к охотникам, лесничим и всем любителям природы и при их содействии собрал неплохие коллекции. Теперь правительство отпустило денег на постройку нового здания для музея, и коллекции нужно было и сильно пополнить и разместить в новых залах.
При музее была выстроена квартира и для самого Бэра. Это было и хорошо и плохо. Теперь Бэру было рукой подать до музея, и он никуда не выходил из дому. Он гнул спину над микроскопом, продолжая все глубже и глубже проникать в тайны зародыша, и месяцами не показывался на улице.
Как-то ему пришло в голову, что недурно бы прогуляться за городом. Музей находился почти у городского вала, и до полей было совсем недалеко. Бэр вышел из кабинета, машинально оделся и пошел. Выйдя на вал, он увидел колосящуюся рожь.
Он был поражен: во время его последней прогулки за городом всюду лежал снег. Это он хорошо запомнил.
«Что ты делаешь! – горько упрекал он себя, бросившись с отчаяния на землю. – Законы и тайны природы найдут и без тебя. Год, два года – какая разница? Нельзя же из-за этого жертвовать всем…»
Впрочем, на следующую весну повторилась та же история.
От такой сидячей жизни Бэр заболел: начались приливы к голове, даже галлюцинации. Он так расхворался, что врачи велели ему прекратить работу и как следует отдохнуть. А тут еще со всех сторон посыпались неприятности. Умер старший брат и оставил в Эстонии родовое поместье. Долгов на этом поместье лежало столько, что нужно было немедленно ехать в Эстонию и спасать родной угол от продажи с молотка. Министр, раньше очень благоволивший к Бэру, за время затворнической жизни ученого успел от него отвыкнуть и начал к нему всячески придираться. Начались еще и политические волнения, а этого Бэр очень не любил.
«Нужно уезжать отсюда», – решил он и написал письмо в Петербург.
Академики еще раз выбрали Бэра членом академии.
Теперь Бэр не очень медлил: в конце 1834 года он приехал в Петербург.
По дороге он даже немножко вылечился от желудочной болезни.
«Поездка на русских телегах от Мемеля до Ревеля, – писал он в своих воспоминаниях, – привела мой пищеварительный аппарат в сносное состояние и не только доказала мне с очевидностью необходимость иметь побольше движения, но и буквально вбила мне это убеждение во все члены». Он не был лишен юмора: русские дороги и русская телега действительно могли «вбить» все, что хочешь, во все члены тела.
4
Как и в первый приезд в Петербург, эмбриологические работы не налаживались, хотя теперь в академии были и музей и лаборатория. Бэр махнул рукой на исследования зародышей и издал вторую часть своей книги «История развития животных» незаконченной.
Он принялся изучать моржа – животное, которое ему вряд ли удалось бы положить на свой анатомический стол в Кенигсберге. Этот морж пробудил в нем старые мечты о поездке на Новую Землю: от Петербурга до нее было гораздо ближе, чем от Кенигсберга.
– Я хочу посмотреть, как живут моржи, как их бьют, а заодно познакомиться и с природой Новой Земли, – сказал Бэр своим коллегам и написал длиннейшую докладную записку об организации экспедиции для исследования Новой Земли, на которой не побывал еще ни один натуралист. Бэра очень занимал вопрос: «Что может природа сделать на Крайнем Севере с такими малыми средствами?»
В начале июня 1837 года он был уже в Архангельске, а после всякого рода приключений добрался, в середине июля, и до Новой Земли. 17 июля он вступил на эту «землю», доступную тогда лишь несколько месяцев в году.
Здесь Бэр пробыл шесть недель, восторгаясь всем, что видел и слышал. Его поражали и отсутствие деревьев, и молчаливость птиц, и ночной лай песцов, бойких и вороватых зверьков, подходивших к палаткам путешественников и то и дело покушавшихся на их имущество. Он ловил жуков и бабочек, засушивал растения, собирал минералы. Бэр собрал богатые коллекции – первую коллекцию с Новой Земли – и в начале сентября был уже в Петербурге.
Через три года он вместе с Миддендорфом [37]37
МиддендорфАлександр Федорович (1815–1894) – натуралист, академик Российской Академии наук. Много путешествовал по Северу и Сибири. Внес много нового в изучение фауны России (современные и ископаемые животные). Автор ценных работ по общей и физической географии.
[Закрыть] – позже знаменитым путешественником по Сибири – отправился в Лапландию. Путешествия привлекали его все сильнее и сильнее, но – увы! – ему пришлось временно отказаться от них: его назначили профессором в Военно-медицинскую академию.
Десять лет Бэр читал лекции студентам, но ему так и не удалось наладить толком преподавание физиологии и сравнительной анатомии: не было ни хорошего помещения, ни средств для оборудования лабораторий. Бэр мало помог студентам в приобретении надлежащих знаний по физиологии, но сильно помог самой академии. Вместе с Н. И. Пироговым [38]38
ПироговНиколай Иванович (1810–1881) – знаменитый хирург, педагог и общественный деятель. Устроил в Петербурге Анатомический институт. За время своего четырнадцатилетнего профессорства (там же) сделал и подробно описал двенадцать тысяч вскрытий. Создал русскую школу хирургии.
[Закрыть] он добился постройки при ней анатомического театра. Теперь хоть преподавание анатомии человека было поставлено хорошо.
Ездить по России в эти годы было некогда, но Бэр не разлюбил географию. Он принимал самое деятельное участие в создании Географического общества. Вместе с Гельмерсеном начал издавать «Материалы к познанию России», посвященные географии, экономике, этнографии и отчасти зоологии с ботаникой. Наконец, он устроил и снарядил много экспедиций по России, в том числе и замечательную сибирскую экспедицию академика А. Ф. Миддендорфа. Миддендорф побывал и на Таймыре, том самом полуострове, о котором когда-то мечтал Бэр.
Летом 1845 года Бэр поехал в Венецию и Геную. Он работал здесь, изучая анатомию и развитие низших морских животных. Снова пробудились надежды – поработать над историей развития зародышей, и на следующее лето Бэр опять отправился на Средиземное море. Он собрал здесь большие материалы и мечтал заняться их обработкой, но… работа так и осталась неоконченной.
Вскоре Бэра назначили директором анатомического музея Академии наук. Теперь с эмбриологией было покончено.
Разве должность директора анатомического музея мешала заниматься эмбриологией? Конечно, нет. Лабораторию устроить было бы не так уж трудно, но… очевидно, были причины, почему Бэр сделался путешественником и «описательным зоологом».
Систематика и фаунистика, отчасти и анатомия – именно этими разделами увлекались зоологи того времени, и крупнейшие имена тогда – имена систематиков и фаунистов, флористов. Если так было в Западной Европе, то тем понятнее, что это произошло и в России. Колоссальная территория неизученной страны, богатейший животный и растительный мир, множество неожиданных открытий, конечно, влекли к себе исследователей. А еще… еще и трудновато было в те времена заниматься изучением и решением «общих вопросов» и проблем. Казенное библейское толкование никого не привлекало (да и что было с ним делать? Все ясно и понятно: крестись и славословь «творца»), а всякое «вольнодумство» грозило многими неприятностями. Николай I не любил шутить, и под «родительской» опекой этого царя и его голубомундирных помощников, вооруженных батистовыми носовыми платками, все должны были жить «тихо и смирно» и не решать никаких «проблем».
Этот период полного застоя в разработке общих вопросов биологии был временем исследования природы России. Именно в те годы создавалась школа русских систематиков и фаунистов. Эта школа заняла позже первое место в мире и посейчас никому его не уступила.
В начале пятидесятых годов были начаты большие работы по исследованию рыболовства в России. Бэр с радостью взялся за это.
Начались путешествия по России. В первые же два года Бэр шесть раз съездил на Чудское озеро и на берега Балтийского моря. Он так увлекся этими поездками, что отказался от профессорства в Медицинской академии: нельзя же сразу и читать лекции и ездить по озерам и рекам.

Сельдь-черноспинка («бешенка»).
Эти поездки были только началом.
Жалобы на плохое состояние рыболовства на Волге и Каспийском море раздавались уже давно. Промышленники хищничали, рыбы становилось все меньше. Из Петербурга выехала экспедиция под начальством Бэра. Нужно было изучить и способы лова, и условия жизни рыбы, и многое другое.
Начав с Нижнего, Бэр спустился по Волге до Астрахани, а отсюда проехал на Мангышлак. Съездив зимой на два месяца в Петербург, он вернулся на Волгу. Затем проехал до устьев Куры, побывал в Шемахе и на озере Севан, изъездил не только Волгу и Каспийское море, но и все места по соседству.
– Что это за рыба? – спросил он в Астрахани, увидев, как из «бешенки» топят жир.
– Бешенка, – почтительно ответили ему.
– Ее кушают?
– Что вы! – засмеялись кругом. – Только жир с нее и годится. Да и тот плоховат.
– Зажарьте мне одну бешенку! – распорядился Бэр.
Он с аппетитом съел рыбу и разразился длинной речью. Речь была очень горяча, но почти никто Бэра не понял. А суть речи сводилась к тому, что «бешенка» – прекрасная рыба, что ее нужно есть и есть, а вовсе не топить из нее жир.
Бэру не сразу поверили: астраханские купцы и рыбопромышленники были упрямые люди. Но позже, понемножку, «бешенку» стали есть. Так появилась на свет астраханская селедка. Ее все ели, но никто не знает (специалисты-рыбоведы не в счет: им это полагается знать «по должности», да и то – все ли они это знают?), что всего сто лет назад она была извлечена из небытия Бэром.
Волжско-Каспийская экспедиция растянулась на пять лет. Бэр мерз поздней осенью и ранней весной, стыл на ветру, трясся в лихорадке, обливался потом в июльские жары в душной, провонявшей рыбой Астрахани. Ему минуло уже шестьдесят лет, когда он вернулся из последней поездки на Каспийское море.
– Я старею, – печально сказал он. – Дальние путешествия мне уже непосильны.
Сделав несколько небольших поездок на Чудское озеро и Азовское море, Бэр отказался от путешествий. Это не было ни капризом, ни мнительностью стареющего человека. Дальние поездки в те времена были очень нелегки: ведь основным средством передвижения оставалась та самая телега, с которой познакомился Бэр еще давным-давно.
Во время своих путешествий Бэр изучал не только рыболовство: он уделял много внимания географии, этнографии, живой природе. Он сделал немало открытий за это время, и самое замечательное из них – явление, получившее позже название закона Бэра.
Еще русский академик Паллас, знаменитый исследователь географии и природы России, заметил, что у многих русских рек правый берег высокий, а левый – низкий. Это же заметил во время своих путешествий и Бэр. Он задумался над причинами такого явления и сумел объяснить его. Вращение Земли отклоняет течение рек (текущих, примерно, с юга на север или с севера на юг) в северном полушарии к правому берегу. Поэтому вода подмывает правый берег сильнее, и он круче левого. Мало того, подмывая берег, вода разрушает его, и русло реки потихоньку отходит вправо.
Бэр перестал заниматься эмбриологией, перестал путешествовать. Но он не привык ничего не делать, не мог жить, не работая как ученый. Построить дачу и начать разводить в садике душистый горошек, розы или – как делают более практичные люди – яблони и садовую землянику он не смог бы.
«Это не работа, а развлечение», – сказал бы он.
Еще когда-то давно, в Кенигсберге, Бэр заинтересовался наукой, носящей звучное, но малопонятное для непосвященного название – «краниология». И вот теперь, на старости лет, он увлекся этой наукой.
Краниология – наука о черепе. Изучая человеческие черепа, Бэр узнал, к своему огорчению, что никаких правил для измерения нет: всякий исследователь измерял черепа на свой лад. Еще в Кенигсберге Бэр собирался заняться этим очень важным вопросом – правилами измерения черепов, – но тогда ему не пришлось закончить эту работу. Теперь он снова взялся за нее.
Составлять правила измерения черепов на свой риск Бэр не захотел: поехал за границу переговорить об этом с тамошними учеными.
Он много говорил, еще больше слушал, но ни до чего определенного ученые так и не договорились. Всякий считал свой способ измерения черепов наилучшим.
– Хорошо же! – сказал Бэр. – Я помирю вас всех. Я предлагаю измерять черепа в английских дюймах.
При этом он предложил и подробнейший план измерения черепов.

Карл Бэр (1792–1876).
– Его можно было бы назвать «Линнеем краниологии», – восхитился один из ученых.
В те времена каждая наука еще продолжала искать своих «Линнеев».
– Я – Бэр, а не Линней! – с достоинством ответил Бэр, не понявший комплимента.
5
Он был уже стариком, когда появилась книга Дарвина. Прочитал ее, поставил на полку, но ничего не сказал.
Прошел год, другой, со всех сторон неслись крики: «Дарвин! Дарвин!» Бэр молчал.
– Что он скажет? – интересовались любопытные и никак не могли угадать позиции, которую займет Бэр.
– Он будет «против»! – утверждал один. – Ведь он поклонник теории типов Кювье.
– Он будет «за», – горячился другой. – Ведь из его исследований над развитием зародышей ясно вытекает, что все изменяется.
А Бэр молчал.
Наконец нетерпение так охватило спорщиков, что они, забыв все правила приличия, стали самым назойливым образом приставать к Бэру. Старик мало порадовал поклонников Дарвина, не доставил особого удовольствия и его противникам. Он остался сидеть меж двух стульев.
– Конечно, изменения возможны, – тянул он, – но они возможны только в ограниченных размерах. Кроме того, они вовсе не случайны, как полагает Дарвин, а строго закономерны. Весь план развития предопределен заранее…
– Что я вам говорил? – обрадовался противник Дарвина.
– Но все же изменения бывают, – продолжал Бэр. – Да, бывают… Только тут не одна внешняя среда играет роль, но и внутренние причины… Развитие идет под их влиянием – оно направляет…
– Ага! – не утерпел сторонник Дарвина.
– И все же эта теория ничего не объясняет, – охладил его пыл Бэр. – Ничего не объясняет… Что главное в этой теории? Борьба за существование и естественный отбор. Изменчивость, эволюция… Об этом мы давно слышали. Вот отбор – новость. Только… нет, не признаю я этого отбора…
Бэр видел много зародышей. Он видел, что зародыши разных животных в начале развития очень схожи друг с другом и допускал эволюцию, но лишь внутри типов. Каждый тип оставался чем-то обособленным, да и внутритиповая эволюция понималась им как-то на свой лад. Бэр не был противником эволюционного учения, он сам указывал, что животные изменчивы, что виды не есть нечто нерушимое. Но теорию естественного отбора не принял. Не став врагом Дарвина, Бэр не сделался сторонником дарвинизма.
– Я был прав! – кричал один из спорщиков.
– Нет, я! – доказывал другой.
«Мы присуждаем премию Кювье Бэру, блистательно подтвердившему своими сорокалетними изысканиями теорию типов нашего великого зоолога», – прочитали спорщики в 1866 году отзыв Парижской Академии наук.
– Сама Парижская Академия считает его сторонником Кювье! – торжествовали противники учения Дарвина.
– Просто им некому было больше премию дать, – не унимались защитники Дарвина. – Парижская Академия… Хорош авторитет…
Впрочем, трудно было и требовать от Бэра, чтобы он изменил на старости лет тем взглядам, которых придерживался издавна: изменчивость «по плану», умеренная эволюция в пределах «типа».
Он умер в 1876 году, 84-летним стариком. Свои последние годы он доживал в Дерпте, полуслепой. Он не мог уже смотреть в микроскоп, не мог измерять черепа, но работать не перестал. Теперь Бэр занялся писательской деятельностью. Старик диктовал, а писец скрипел пером. Так появилась книга «Значение Петра Великого в изучении географии», а позже он занялся расследованием истории знаменитого Одиссея.
Еще когда Бэр был в Крыму, ему бросилось в глаза удивительное сходство Балаклавской бухты с бухтой Листригонов в «Одиссее». Теперь он вспомнил об этом, перечитал «Одиссею» и принялся изучать карту Крыма и Черного моря. И вот он пришел к выводу, что Одиссей путешествовал именно по Черному морю. Сциллой и Харибдой оказался Босфор, бухта Листригонов попала в Балаклаву. Хитроумный Одиссей, как видно, странствовал не в Италии и прочих местах, а в России.
А потом Бэр занялся поисками сказочной библейской страны Офир. Он нашел ее на Малакке.
Этими занятиями Бэр наполнил свою старость и коротал зимние дни, согнувшись над картой Азии. Он не оставлял работы до последнего дня. Нельзя было заниматься эмбриологией – принялся за географию и сделался путешественником; старость не позволила ездить – стал изучать черепа. Пришлось отказаться от черепов – он стал писать.
Когда в Петербурге в 1864 году справляли юбилей пятидесятилетия ученой деятельности Бэра, он, как и полагается юбиляру, сказал речь. В ней были такие фразы:
«Смерть, как известно каждому, доказана опытом, но необходимость смерти все-таки еще ничуть не доказана… И вот я поставил себе задачей – не желать смерти, и если мои органы не захотят исполнять свои обязанности, то я их воле противопоставлю свою волю, которой они должны будут подчиниться. Я советую и всем присутствующим поступить точно так же и приглашаю вас всех на мой вторичный докторский юбилей через пятьдесят лет на этом же месте и прошу только оказать мне честь позволением принять вас, как гостей, в качестве хозяина».
Коротко это звучит так: не поддавайтесь, старайтесь прожить как можно дольше.
И Бэр на собственном примере доказал, что можно долго не поддаваться смерти.
«Я докажу!»
1
 «Я докажу!» – вот девиз его жизни. И Геккель «доказывал», не очень стесняясь в средствах: случалось даже, что он рисовал несуществующих животных или видел в микроскоп не то, что там было, а то, что ему хотелось увидеть. Он «доказывал» всю свою долгую жизнь, и так и умер, будучи уверен в своей победе. Он верил во все, что говорил, а говорил все, что только подсказывала ему его богатая фантазия.
«Я докажу!» – вот девиз его жизни. И Геккель «доказывал», не очень стесняясь в средствах: случалось даже, что он рисовал несуществующих животных или видел в микроскоп не то, что там было, а то, что ему хотелось увидеть. Он «доказывал» всю свою долгую жизнь, и так и умер, будучи уверен в своей победе. Он верил во все, что говорил, а говорил все, что только подсказывала ему его богатая фантазия.
Восьмилетним ребенком Эрнст прочитал книгу «Робинзон Крузо». Эта книга произвела на него такое впечатление, что он только и грезил необитаемыми островами, дикарями, Пятницами и кораблекрушениями. Гуляя с матерью, мальчик косился на каждый густой куст и ждал – не выскочит ли оттуда дикарь с размалеванным лицом и страшным копьем из рыбьей кости в руке. Коза, мирно ощипывавшая придорожный куст, тотчас же превращалась в его воображении в стадо диких коз, и он, замедляя шаги, шептал: «Мама! Тише…»
Увлечение приключениями не затянулось долго. Как только Эрнст познакомился с книгами «Голоса природы» и «Космос» Александра Гумбольдта, так начал мечтать о научных путешествиях, а книга Дарвина «Путешествие на корабле „Бигль“» привела его к мысли сделаться натуралистом. Мать подогревала эти мечты, твердя сыну о красотах природы, и в конце концов он сделался большим фантазером и мечтателем.
«Я буду натуралистом», – твердил он, а прочитав «Жизнь растений» Шлейдена, прибавил: «Буду ботаником».
Начались мечты о поездке в Иену, чтобы изучать ботанику под руководством самого автора столь замечательной только что прочитанной книги.
Мечты не сбылись, и вместо Иены Эрнст попал сначала в Берлин, а оттуда в Вюрцбург, и оказался не ботаником, а студентом-медиком. Таково было желание отца.
– Собирание цветов не для тебя, – сказал Эрнсту отец. – Цветы не дают хлеба.
«Что ж, изучать природу можно и будучи врачом», – подумал юноша и поступил на медицинский факультет.
В те годы медицина только начинала становиться на ноги. Изучение клетки – недавно открытой – было самым боевым вопросом, которым увлекались с одинаковым пылом и седые профессора и безусые студенты. Про зоолога, не сидевшего с утра до вечера за микроскопом, говорили:
– Хорош ученый! Он не интересуется клеткой.
Анатом Келликер [39]39
КелликерАльберт (1817–1905) – крупный немецкий ученый. Очень много поработал по микроскопической анатомии и эмбриологии. Внес много нового в гистологию (в сущности, почти создал эту науку). Сделал ряд усовершенствований в микроскопической технике
[Закрыть] создавал в те дни свое учение о тканях: рождалась наука гистология. Клеткой увлекался и знаменитый Вирхов [40]40
ВирховРудольф (1821–1902) – знаменитый немецкий ученый и политический деятель. Автор теории, по которой все болезни организма сводятся к нарушениям строения и нормальной работы клеток. Считал, что клетка – изначальная и единственная форма живого вещества, что вне клетки нет жизни. Эта теория долгое время тормозила развитие медицины. Вместе с тем внес много очень ценного в науку, заложил основы научной патологии – науки о болезненных изменениях тканей и органов. Как политический деятель, был одним из основателей либеральной партии, выступавшей против Бисмарка. Однако либералом и свободомыслящим человеком Вирхов был ровно настолько, чтобы не испортить своей служебной карьеры. К концу жизни оказался в лагере крайних реакционеров.
[Закрыть] – сам Вирхов! – учивший, что человек есть государство клеток, в котором разные ткани и органы нечто вроде разных цехов, работающих на благо целого. Лейдиг [41]41
ЛейдигФранц (1821–1908) – немецкий ученый, много поработавший по сравнительной гистологии и по изучению фауны Германии, один из первых гидробиологов (начал изучение пресноводного планктона – мелких водных организмов).
[Закрыть] – тогда еще доцент – не отставал от стариков и также изучал клетку.
Попав в компанию Келликера и Лейдига, Геккель принялся, как и все, изучать и удивляться. Но едва он успел войти во вкус рассматривания клеток и немножко научиться обращению с микроскопом, как вернулся из Вюрцбурга в Берлин. Он так и не научился красить клетки и всю свою жизнь прожил, не прибегая к этому столь важному и необходимому для зоолога занятию. Впрочем, своей жизнью и своими работами он показал, что можно иногда обойтись и без анилиновых красок и кармина, заменив их акварелью, карандашом, тушью и листом александрийской бумаги.
В Берлине Геккель устроился в лаборатории знаменитого физиолога Иоганна Мюллера [35]35
МюллерИоганн (1801–1858) – знаменитый немецкий натуралист. Учиться к нему съезжались со всей Европы. Внес много нового в зоологию, физиологию, анатомию как в научном отношении, так и в смысле техники и методики исследования. Был замечательным «учителем», чем и объясняется длинный ряд знаменитостей из среды его учеников.
[Закрыть] (ученых Мюллеров было несколько, поэтому их зовут по именам, чтобы не перепутать). О том, насколько был знаменит Иоганн Мюллер, можно судить уже по списку его учеников: Вирхов, Шванн, Келликер, Дюбуа-Реймон [42]42
Дюбуа-РеймонЭмиль (1818–1896) – знаменитый немецкий физиолог. Прославился работами по электрофизиологии и изучением нервной и мышечной деятельности. Резко критиковал учение о «жизненной силе». Считал науку не всесильной и уверял, что не все доступно познанию человека (отсюда его «семь мировых загадок»).
[Закрыть] и даже сам Гельмгольц были его учениками.
Мюллер очень любил обобщать, но обобщать с толком.
– Для естествоиспытателя, – говорил он, задумчиво глядя на свой микроскоп, – равно нужны и анализ и обобщения. Но обобщение не должно преобладать над анализом. Иначе вместо важных открытий получатся только фантазии.
Геккель благоговел перед своими профессорами, но не всегда их слушался: завета насчет «обобщений» и анализа он никак не хотел придерживаться. У него обобщение всегда обгоняло анализ.
«Дорожи временем и счастьем труда», – твердила ему в детстве мать. И белокурый, голубоглазый студент Эрнст Геккель все свое время отдавал работе. Он не ходил по кабачкам и пивным, не состоял ни в каких студенческих организациях. Его лицо осталось в целости: он не мог похвастать даже маленьким рубцом или шрамом – следом дуэли, которыми немецкие студенты занимались в промежутках между лекциями.
«Это способный студент», – говорили про него профессора.
«Тихоня, подлиза!» – презрительно отзывались о Геккеле веселые бурши-студенты.
В 1858 году он расстался с университетом, сдав докторский экзамен и получив право врачебной практики. Теперь он был уже не просто Эрнст Геккель, а «герр доктор». Ему совсем не хотелось лечить больных, он рассчитывал устроиться в лаборатории Мюллера и заняться научной работой. Но Мюллер умер. Пришлось взяться за практику. Тут Геккель решил покривить душой и обмануть отца, а кстати и себя самого.
«Если у меня не будет практики, я докажу отцу, что медицина вовсе уж не такое выгодное дело», – рассуждал сам с собой молодой врач поневоле. И он повесил на своей двери вывеску такого содержания:
ДОКТОР Э. ГЕККЕЛЬ
Прием от 5 до 6 часов утра
Прохожие удивлялись странному доктору, который ждет пациентов ни свет ни заря, и, конечно, никто к нему не шел. За год у Геккеля побывало всего три пациента, и то случайных.
Три пациента в год маловато. И он, объявив отцу, что медициной не проживешь, с легким сердцем занялся научной работой, сняв с двери свою забавную вывеску.
Разговоры старика Вирхова о «государстве клеток» не прошли даром: Геккель решил заняться изучением этих «государств». А так как у него всегда была большая склонность к порядку, то он нашел, что изучать сразу сложное государство нельзя.
– Нужно все делать по очереди. Начнем с отдельных клеток.
Наладив микроскоп, он принес домой разнообразных инфузорий и другие одноклеточные организмы. Амебы разочаровали его: слишком неуклюжи. Туфелька – излюбленный объект не одного поколения зоологов – не понравилась ему своей бойкостью, другие инфузории тоже: то очень бойки, то просты, то некрасивы. Кого же выбрать? Оставив микроскоп пылиться на столе, Геккель пошел в библиотеку.
Он набрал здесь груду книг и толстых атласов и принялся искать в них – кто из одноклеточных интересен для изучения. Не успел он перевернуть и десятка страниц, как увидел рисунок радиолярии.
– Какая красота! – прошептал он и тотчас же решил, что лучшего объекта для исследования ему не найти. У этих крохотных радиолярий были такие прелестные кремневые панцири. Они походили то на тончайшие кружева, то на изящную решетку; эти филигранные шарики были украшены то острыми и длинными иглами, то короткими шипами, то разветвленными отростками.
Выпросив у отца немножко денег, Геккель поехал в Италию. Здесь он не стал бегать по музеям и картинным галереям. Все дни он проводил, шаря в синих волнах шелковой сеткой и всякими сачками и драгами, охотясь на красавиц радиолярий. Он выходил на берег моря, нагруженный банками, пробирками, сетями и сетками. А дома смотрел в микроскоп, готовил препараты и восхищался изяществом кремневых панцирей.

Эрнст Геккель (1834–1919).
Геккель прекрасно рисовал, и он зарисовывал радиолярий сотнями, не жалея глаз, не жалея времени, красок и бумаги. Вырисовывал каждый заворот кружевного панциря, отмечал каждую дырочку, наносил на бумагу каждую, даже самую маленькую иголочку. И когда он вернулся из Мессины на родину, то привез с собой не только сотни баночек и тысячи препаратов: в его чемодане лежал огромный альбом рисунков. Ученые Берлина ахнули, увидя все это.
Геккель отправился в Кенигсберг. Там, в Обществе естествоиспытателей, он разложил свои альбомы и имел удовольствие еще раз выслушать бесчисленные «ахи» и комплименты.
– Колоссаль! – восклицали ученые. – Так молод и так работоспособен. Как хорошо рисует! Какие замечательные препараты! – Но никто из них и не подумал предложить ему место хотя бы ассистента.
Через год Геккель подал заявление в Иенский университет и просил разрешения читать курс. Его зачислили доцентом, а еще через год он был уже профессором. Читая лекции, он не забывал радиолярий: исписывал сотни страниц и делал рисунок за рисунком. В конце концов он выпустил в свет огромную «монографию» радиолярий. Его имя стало известно всем зоологам мира.

Радиолярии.
В эти-то времена Геккель познакомился с книгой Дарвина.
– Сумасшедшая книга! – отзывались о ней профессора Иены. – Болтовня и вздор!
Этого было достаточно, чтобы Геккель воспылал желанием изучить книгу. И как только он прочитал ее, – даже не очень внимательно, – тут же влюбился, подобно Гексли, и в книгу, и в теорию, и в ее автора. Хотя его монография радиолярий была почти готова к печати, он решил включить в нее теорию Дарвина: пусть книга немного задержится выходом в свет, но он заявит себя в ней сторонником замечательного учения.
Геккель принял теорию Дарвина на веру, даже толком не ознакомившись с ней. Не изучив ее, он решил сделаться пророком нового учения, решил защищать его до последней капли крови. Он поставил себе задачей и другое – пополнить эту теорию.
«Дарвин не говорит, откуда взялись первые организмы, – сказал он сам себе. – Он не говорит и о многих переходных формах, иногда их у него нет совсем».
И Геккель принялся обдумывать план новой книги, которая должна будет не только окончательно укрепить здание дарвиновой теории, но и обобщить многое другое.
2
Немецкие ученые не были очень склонны признать теорию Дарвина, но Геккель не смущался этим. На съезде естествоиспытателей в Штеттине он заявил, что дарвиново учение – новое мировоззрение, имеющее самое широкое значение, и сравнил Дарвина с Ньютоном.
– Никакие нападки не остановят прогресса. Прогресс есть закон природы, и никакая человеческая сила, ни оружие тиранов, ни проклятия пасторов не смогут остановить его! – закончил он свой доклад и вызывающе посмотрел на присутствующих.
Все ждали, что скажет Вирхов, и все были изумлены, когда тот принялся защищать Дарвина, а заодно с ним и Геккеля. Собственно, Вирхов защищал не столько их, сколько себя: на него, за его учение о «человеке как государстве клеток», сыпались упреки в материализме. Он стал доказывать, что его материализм совсем не философский материализм, а простое констатирование фактов, такое же, как и учение Дарвина.
– Церковь и государство, – разглагольствовал этот лукавый и хитрый старик, – должны привыкнуть к тому, что с успехами естествознания происходят и некоторые изменения в наших взглядах и предположениях. И они должны сделать эти новые течения науки полезными и для себя.
Вирхов был очень осторожен и хитер. Он не хотел ссориться с церковью и рекомендовал ей просто «идти в ногу со временем».
Несмотря на поддержку Вирхова, большинство натуралистов встретили выступления Геккеля враждебно. Его фантазии считались ненаучными, над ними смеялись и давали им весьма обидные прозвища.
– Я докажу! – рассердился Геккель.
Новая книга, за работу над которой он принялся, должна была выяснить и обобщить все.
Геккель писал с утра и до глубокой ночи. Он почти не ел и не спал. Наскоро прочитав лекцию, он спешил домой – писать.
Исписанные листки уже не укладывались на столе, они не влезали в шкаф, им было тесно в сундуке. Геккель складывал их просто в угол своего кабинета.
«Физиологи смотрят на организм как на машину. Зоологи и морфологи глядят на него с таким же удивлением, как дикари на пароход. Это неправильно».
И Геккель принялся доказывать, что на организм нужно смотреть по-особенному, что и к форме нужно подходить «механистически». Что он, собственно, хотел сказать этими словами, он и сам толком не знал. Но его очень прельщало такое единство взгляда: и физиологи и морфологи подходят к организму одинаково – механистически.