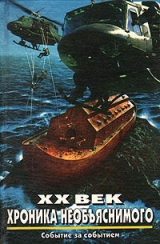
Текст книги "XX век: Хроника необъяснимого. Событие за событием"
Автор книги: Николай Непомнящий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 40 страниц)
7. Самоубийство во имя науки
10 марта 1971 года, среда. Археологические работы в Саккаре, в 30 километрах к югу от Каира, подходили к концу. Около двух часов рабочие, серые от пыли пустыни, в очередной раз опустили свои ивовые корзинки глубоко в грунт: с семи утра на поверхность поднимали с глубин песок, камни и пыль. Нелегкая, но хорошо оплачиваемая работенка. А где еще можно заработать на краю Ливийской пустыни?
Поселок Саккара стал привлекать археологов с 1935 года, когда здесь обнаружили кладбище – древний Город Мертвых Мемфис, семи километров длиной и полутора – шириной. А рядом, 5000-летняя пирамида царя Джосера, самая древняя из гигантских построек мира.
Уолтер Брайан Эмери, англичанин, профессор археологии и руководитель раскопок, стоял на краю разработок и держал в руках статуэтку Осириса 20-сантиметровой высоты, всматриваясь в ее детали, а потом отправился в поселок вместе с ассистентом-египтянином. У копателей, рабочих, нанятых для раскопок в Саккаре, одноэтажный домишко с офисом и душем, но из археологов там не жил никто. Али аль-Кули, как подкошенный, повалился на кушетку, изнемогая от жары, а Эмери пошел в душ. А дальше произошло вот что:
«Я сидел на кушетке, как вдруг из душа послышался стон. Я посмотрел через прозрачную дверь душевой и увидел, что Эмери стоит в бассейне. „Вам дурно?“ – спросил я, но профессор не ответил. Он был будто парализован. Я схватил его за плечи и усадил на кушетку. Потом бросился к телефону».
Неотложка отвезла Эмери в каирский госпиталь. Диагноз – паралич правой стороны тела. Говорить он не мог. Мери, его жена, сопровождавшая его повсюду, провела возле него всю ночь. На следующий день, в четверг, 11 марта 1971 года, он умер. «Аль-Ахрам», вышедшая в пятницу, написало: «Это странное происшествие наводит нас на мысль, что проклятие фараонов вновь возродилось».
Сам Эмери, о котором местные говорили, что он больше египтянин, чем англичанин, никогда не верил в проклятие фараонов. Нет, он знал об этом, но когда журналисты просили его прокомментировать это, всегда отказывался. Аль-Кули утверждал, что профессор охотно говорил о чем угодно, только не о проклятии.
Археологии он никогда не учился, а был морским инженером, но в 1921 году попал под влияние одного ученого и зачастил с ним в Луксор, а начиная с 1926 года раскопал дюжину могил, среди которых самая известная могила визиря XVIII династии Рамоса. Спустя три года, в 1929-м, переместился в Нубию, где ждали спасения многие монументы, которым угрожало затопление Асуанским водохранилищем.
Директором саккарских раскопок он стал в 1935 году. Первой его работой здесь была расчистка огромного кладбища 1 династии. Он потратил на это многие годы – до начала второй мировой войны, в которой принимал участие.
После войны стал профессором Лондонского университета и вскоре начал заниматься работой, ставшей делом всей его жизни, как он говорил, – а именно поисками могилы Имхотепа. Он был, по мнению Эмери, очень интересной личностью: первым доктором, возникшим «из небытия древности», жил в эпоху первых фараонов и обладал такими знаниями, что люди называли его богом врачевания. Он был еще и архитектором, и советником Джосера, визирем и начальником общественных работ царя Верхнего и Нижнего Египта. Именно он построил пирамиду Джосера и приложил руку к изобретению письменности и календаря. Короче, это был гений.
Поскольку захоронение Имхотепа так до сих пор и не было найдено, предполагалось, что его и не грабили. Считали также, что Имхотеп – еще при жизни – построил сам себе усыпальницу, причем не менее пышную, чем для Джосера. Эмери предполагал, что открытие его могилы станет таким же важным событием для понимания истории Древнего Царства, как находка усыпальницы Тутанхамона – для Царства Нового. Но где в этой пустыне начинать копать?
Первые удары лопаты, первые кучи песка дали понять, что вся долина буквально нашпигована артефактами ранних династий. Большинство сооружений уцелели, поскольку в эпоху Птолемеев между монументами были навалены груды камней. Такое «мощение» спасло эти земли от новой застройки. Профессор Эмери писал: «Веря в то, что захоронение Имхотепа должно быть где-то возле архаического некрополя, я решил, что бычки и ибисы только подтверждают мою догадку и должны быть связаны с ним. Тем более что состояние почвы наводит на мысль, что в птолемеевские и римские времена это место являлось объектом паломничества».
Эмери лихорадочно работал. 10 декабря 1964 года он вскрыл могилу II династии на десятиметровой глубине. Перед ним открылся разветвленный лабиринт с бесчисленными мумифицированными ибисами. Статуя времен Птолемеев подсказывала профессору, что он на верном пути: на ее пьедестале он прочитал перечень празднеств, устраиваемых в честь бога врачевания. (Один из таких праздников выпал как раз на день смерти Эмери!..) Эмери не сомневался, что «сел на хвост» Имхотепу, но не знал, сколько времени уйдет на его открытия – дни или годы. «Он был уверен, что скоро найдет могилу», – вспоминает аль-Кули.
Археологи, подобно Ариадне в критском лабиринте Миноса, обвязывались веревками, чтобы была гарантия когда-нибудь выбраться на поверхность. Были сделаны схемы ходов, обследованные участки опечатаны. Но после месяцев изнурительных работ Эмери был вынужден признать, что ни один из проходов не ведет к усыпальнице Имхотепа.
Он был разочарован, но не пал духом. Ведь это еще не означает, что лабиринт вовсе не связан с усыпальницей. Наоборот! Она так гениально упрятана, что систематические раскопки тут не помогут!
И Эмери принялся копать с другой стороны. Но – увы. Величайший триумф, возможный в его жизни, открытие могилы Имхотепа, так и обошел его стороной.
Ф. Ванденберг проследил жизненный путь многих археологов. И пытался найти какие-то параллели в том, как они жили и умерли. Так вот, у них было мало общего в жизни, за исключением страсти к работе. Но имелось и некоторое число знаменательных совпадений. Без сомнения, археологов трудно подогнать под одну гребенку. Но существовала одна любопытная вещь, которую он обнаружил в процессе работы над книгой. Дело не в различных теориях, которых они придерживались, а в характерах и личных качествах. Некоторые немецкие археологи вообще отрицали проклятие фараонов как нонсенс, а другие упорно отказывались даже ступать на порог усыпальниц. Когда спросили мюнхенского ученого, чего он боится, он ответил, как дельфийский оракул, – богов.
Здесь напрашивается логический вывод. Если проклятие не уникально и связано не только с открытием могилы Тутанхамона, то, по идее, многие археологи должны были умереть необычной смертью еще до того, как была вскрыта царская усыпальница! Библиотеки и архивы хранят детальные описания открытий, всевозможных теорий, но в них почти ничего нет о частной жизни искателей приключений и исследователей, которые делали эти открытия. Немецкий журналист пошел по этому трудному пути, и его ждало здесь немало потрясений. Самое главное заключалось в том, что ПРОКЛЯТИЕ ФАРАОНОВ ИМЕЛО МЕСТО И РАНЬШЕ – десятилетия и даже столетия назад! И всегда оно касалось людей, которые долго жили в Египте и как-то были связаны с раскопками…
8. Бред Дюмихена
Взять, к примеру, Йоханнеса Дюмихена. Он родился в 1833 году, был пастором в Силезии, профессором в университете Страсбурга, много путешествовал по Египту. Его деятельность была не то чтобы очень плодотворной. Он копировал надписи в храмах и усыпальницах, проводил целые недели под землей. Его личность не представляла бы для нас интереса, если бы не одно обстоятельство. Дюмихен часто впадал в бредовое состояние, являя симптомы начинающейся шизофрении: часами рассказывал о работе на объектах, где его на самом деле никогда не было («В фиванских захоронениях так воняло летучими мышами, что я мог работать, лишь прикрыв рот апельсиновой кожурой»). Нет никаких сведений, подтверждающих его присутствие в тех местах.
В Германию он вернулся в жалком виде: едва мог закончить начатую фразу, мысли перескакивали с одной на другую. Писал он так же. Его издатели были в отчаянии. Бедекер заказал ему путеводитель по Верхнему Египту, но потом вынужден был аннулировать договор, книга оказалась никудышная. Не пошла и многотомная история мира. Египетский раздел взялся писать Дюмихен. Прочтя триста страниц, пораженный издатель понял, что еще не дочитал предисловия…
Все эти симптомы весьма напоминают результат воздействия наркотиков. Многие самые обычные люди – скрытые шизофреники без внешних проявлений болезни. Но определенные галлюциногены могут спровоцировать шизофреническое поведение. Так, Дж. Гриффит, американский специалист по наркотикам, сказал об одном из своих студентов, который принимал имферамины: «Однажды я задал ему вопрос, на который он не смог ответить. Тогда он взял 453-страничную книжку и выучил ее наизусть». Еще один врач рассказывал о пациенте, который сдавал экзамены под воздействием наркотиков и написал подробнейший ответ. на крошечном клочке бумаги.
Древние египтяне, как мы увидим, знали толк в наркотиках. Кроме того, сегодня известно, что даже минимальный контакт, даже вытирание рта тыльной стороной испачканной наркотиком ладони может спровоцировать воздействие его на организм. «Случайное» открытие ЛСД в 1933 году швейцарским фармацевтом Альбертом Хофманом – один из таких примеров.
9. Странная смерть Генриха Бругша
Проклятие фараонов оказывало на многих удивительное действие. Некоторые люди, возвращаясь из Египта, впадали в безумие. Отголоски этого видны в жизни профессора Адольфа Эрмана, директора Египетского музея в Берлине, и Генриха Бругша, одного из крупнейших археологов, который в 16 лет смог прочесть демотические письмена. Однажды Бругш заявил, что выкопал зеленую голову царя в Саисе, хотя все знали, что она откопана в лавке древностей. В другой раз Бругш с Эрманом находились в музейном нумизматическом кабинете, где директор разглядывал уникальные монеты Ренессанса. Эрман вспоминает следующий разговор:
Бругш. Что вы там нашли?
Эрман. Итальянские медальоны пятого века.
Бругш. А это что такое?
Эрман. Это подпись художника.
Бругш. У меня было нечто похожее, когда мы копали в дельте Нила с Визалли.
Эрман. Что же с ними случилось?
Бругш. О, я не знаю, я отдал их.
Эрман. Но это значит, что вы нашли сокровище?
Бругш. Да.
Эрман считает, что большее, что Бругш мог найти там, это медная пластинка…
Было ли то просто неврозом или результатом какого-то воздействия? У Бругша это началось после работы в Египте. Гастор Мосперо, директор Музея древностей, считает, что, несмотря на свои шизофренические проявления, Бругш оставался величайшим археологом своего времени, автором теории о загадочных «народах моря». Был ли жертвой проклятия фараонов этот человек, общавшийся с мумиями чаще, чем с людьми? Факты говорят: чем дольше он оставался в Египте, тем больше странностей у него появлялось. Ему стало казаться, что его кто-то преследует, и в конце концов он стал жертвой собственной одержимости.
10. Короткая жизнь Франсуа Шампольона
Заглянем чуть дальше в глубь десятилетий. Жан-Франсуа Шампольон (1790–1832), расшифровавший египетские иероглифы. Слово «иероглиф» переводится с греческого языка как «священная картинка». И во все времена эти знаки считались священными, мистическими, скрытными. До конца XVIII века некоторые ученые серьезно верили в их мистическую силу и отказывались изучать. Датский археолог Йорген Зоега впервые взялся за них серьезно. Ему не удалось их расшифровать, но он сделал важное открытие, на котором позже базировался Шампольон, – овальные рамки вокруг некоторых значков означают имя фараона.
Короткая, но яркая жизнь Шампольона отмечена роковым предначертанием. Еще до рождения провидец предсказал, что отец Жана-Франсуа, продавец книг из Фигеака, что на юге Франции, породит «свет грядущих веков», и Жан-Франсуа, родившись в 1790 году, рано заявил о своем таланте. В пять лет, когда мать читала ему отрывки из Библии, он воспроизводил их по памяти. Испуганный отец запретил матери читать ему, но сын уже все запомнил и развлекался тем, что сравнивал написание французских слов с тем, как они произносятся, находя множество расхождений – и это в пять-то лет!
Старший брат Шампольона, Жан-Жозеф, тоже был трагической фигурой, изучал историю и увлекался египетскими древностями. Однако Наполеон не взял его с собой в Египетский поход, и расстроенный ЖанЖозеф уехал в Гренобль, став предпринимателем. В 1801 году, поняв, что младший брат талантлив, Жан-Жозеф послал за ним, чтобы тот приехал учиться в Гренобль. В доме старшего брата юный Шампольон стал читать газету «Курьер д'Эжипт». Она определила его дальнейшую судьбу. Однажды газета напечатала сообщение о находке у поселка Розетта в дельте Нила некоего камня. Это был базальт, на нем – три строфы, непонятные письмена, притом разные. Первая – иероглифическая, вторая – коптская, или демотическая (упрощенная форма иератического письма), а третья, последняя, – греческая.
Последнюю перевести оказалось легко. Это были слова благодарности жрецов Мемфиса, начертанные в 196 году до нашей эры царю македонского происхождения Птолемею V, популярному благодаря своим демократическим реформам. Можно было предположить, что первые два текста идентичны греческому. Ученые многих стран бились над их расшифровкой…
Жан-Франсуа Шампольону было 11 лет, когда он задумал расшифровать розеттский камень. 21 год пытался он сделать это, бился над текстом и все ближе и ближе подходил к разгадке. В 17 лет, когда он учился в Академии наук, юноша изучил коптский язык, разновидность иератического письма (скорописи) и, соответственно, демотическое письмо. Он открыл, что в отличие от коптского письма иероглифы имеют девять личных местоимений, которые соответствуют аналогичным звуковым знакам. Это позволило ему заключить, что иероглифы сделаны «из звуков». Шампольон насчитал на камне 486 греческих слов и 1419 иероглифов.
Имена фараонов и личные имена должны были звучать одинаково во всех трех надписях. Английский физик Томас Янг уже расшифровал имя Птолемея: оно часто упоминалось в тексте. Шампольон пошел дальше. Он взял рисунки с обелиска, на котором часто повторялось имя Клеопатры, внес взятые оттуда буквы L, Р и Т в свою систему (они одновременно составляли и часть имени Птолемея). Значит, символом перед буквой L должны быть С или К.
14 сентября 1822 года Шампольон получил копии с разных надписей фараонов и сразу же прочитал две из них – Рамзеса и Тутмоса. Он разгадал тайну иероглифов! «Я сделал это!» – воскликнул он, вскинув руки, и упал как подкошенный. Он оставался без сознания пять дней.
Когда пришел в себя, рассказал о странных видениях и бубнил снова и снова имена фараонов.
27 октября 1822 года он заявил о своем открытии в парижской Академии наук, и ему присвоили звание профессора египтологии. В 1827 году он поехал в Египет во главе экспедиции, финансируемой правителем Тоскании и королем Карлом Х Французским. Мечта детства сбылась! Нов 1832 году, вернувшись, он неожиданно умер, вроде бы от паралича. Причина смерти так и не была установлена. Ему было всего 42 года.
11. Непостоянный Бельдзони
Не менее таинственной оказалась смерть Джованни Батисты Бельдзони (1778–1823), наверное, самого колоритного из ранних египтологов. Сын падуанского брадобрея, он сменил много профессий. Родители мечтали видеть его священником, однако юный Джованни перебывал и жонглером, и актером, и инженером… Проще перечислить, кем он не был. В самой Италии он прожил мало, а обитал в основном в Англии, Португалии и Африке. В Англии он оказался в качестве мима, а в Лиссабоне женился на известной диве Анжелике Балабреке.
Даже самому себе он не мог объяснить тягу к перемене мест. Он обожал Африку. Он мечтал разгадать тайну: одна и та же ли это река – Нил и Нигер? В Египте он впервые побывал в 1815 году, но не как археолог, а как изобретатель. Он придумал водяное колесо, которое делало вчетверо большую работу, чем обычное, и Джованни предложил патент могущественному султану Мухаммеду Али. И когда властитель вежливо отказался, решил заняться археологией. Время располагало к этому. После походов Наполеона египетские вещицы были в большом спросе. Пять лет он искал сокровища. Там, где умственные усилия не помогали, он прибегал к мускульным или динамиту.
После вмешательства Йоханна Л. Буркхарда, швейцарского путешественника, обратившегося к британскому генеральному консулу в Египте, Бельдзони стал агентом на государственной службе. И еще за то, что нашел монументальный бюст Мемнона в Луксоре. Он доставил его в Александрию, затем в Лондон. Но то было лишь начало. Он писал о своей работе в фиванском Городе Мертвых:
«Однажды я пробирался проходом около 20 футов длиной, а по ширине тело едва пролезало по нему. Там было натыкано много мумий, и я не мог пройти, не коснувшись лицом кого-нибудь из знатных египтян, но когда ход пошел под уклон, сверху посыпались руки, ноги и головы. Я следовал из одной пещеры в другую, и повсюду мне встречались мумии, причем некоторые из них стояли вверх ногами».
Кроме бесконечных мумий, захороненных без всяких почестей, Бельдзони после долгих разочарований открыл все же несколько значительных вещей. Даже в 1817 году это было уже нелегко. Многие усыпальницы в скалах стали жилищами феллахов и их семей, а также домашних животных. Но, несмотря на это, профессиональный авантюрист открыл могилу Сети 1, сына Рамзеса 1. Он возился там целый год: копировал рельефы и делал зарисовки, писал в дневнике, что эти работы доставили ему много хлопот.
Раскопки буквально отравили его сознание. Особенно захватила Бельдзони пирамида Хефрена, вход в погребальную камеру которой был «потерян». Авантюрист лихорадочно обследовал буквально каждый камень гигантского сооружения 136-метровой высоты. Нет входа, нет! Значит, камера должна находиться не внутри, а под пирамидой. Как это было с пирамидой Хеопса. Песчаные дюны вздымались у пирамиды с севера. Бельдзони бросил на них батальоны рабочих. И обнаружил под песком ход, вероятно, выкопанный грабителями. При его проходке на одного рабочего свалилась глыба 1,2х1,8 метра. Тот чудом остался жив. Движение прекратили – это было смертельно опасно. После долгих подсчетов и раздумий Беладзони пришел к выводу, что вход в пирамиду Хеврона находится восточнее.
Три покрытых песком гранитных блока подтвердили догадку: проход открылся сразу за ними. Через 30 метров дорогу им преградила каменная стена. Бельдзони понадобился месяц, чтобы устранить препятствие. И вот наконец он протиснулся в узкую щель. Зажег светильник. Проход шел в горизонтальном направлении. Система ходов напоминала пирамиду Хеопса. «Я пошел наугад, ожидая найти гробницу, но мне попадались лишь камни и отдельные кости».
Разочарование достигло предела, когда он обнаружил надпись на стене: «Каменотес Мухаммед Ахмед открыл эту комнату. Мастер Кемал был здесь». Бельдзони опоздал на несколько веков…
Хотя явных успехов не было, он зарабатывал на своих находках достаточно. В 1820 году он выставил в Англии найденные им артефакты, и это дало деньги на новую экспедицию.
Но Африку он больше не увидит. Постигла ли его тоже участь жертв проклятия?
Весной 1823 года Бельдзони с женой выехал из Лондона в Танжер. Он намеревался пересечь Сахару и начать раскопки в Судане. Жена сопровождала его до Феса, а потом, по договоренности, вернулась в Англию. Вскоре Бельдзони самому пришлось возвращаться: туареги не желали пропускать его группу в Сахару. И он решил плыть дальше на корабле до Сьерра-Леоне. В этот момент его поразила та же неведомая болезнь с температурой и галлюцинациями. Врач дал ему камедное масло и опиум. «Я чувствую на себе длань смерти!» – воскликнул больной археолог.
Его взяли на борт в надежде, что морской воздух поможет ему. Речь его была путаной. Он произнес: «Мне осталось мало времени, я знаю, – и снял с пальца кольцо с аметистом. – Передайте моей жене», – попросил он чернокожего слугу. Он умер после полудня в тот же день, 3 декабря 1823 года, в возрасте 45 лет.
12. Кто убил профессора Биларца
Загадочны обстоятельства смерти в Египте шведского доктора Теодора Биларца. Еще в школе этот сын мелкого служащего начал собирать жуков, растения, камни. Он составлял каталоги, вел дневники. По всем предметам, кроме математики, он был отличником. В 18 лет поступил во Фрайбургский университет изучать медицину, зоологию, историю литературы и классическое искусство. Два года спустя уехал в Тюбинген, где думал закончить медицинское образование. В Тюбингене он познакомился с Вильгельмом Гризингером, который позже, в 1850-е годы, стал в Египте личным медиком и физиком при вице-короле и взял с собой молодого Биларца в качестве ассистента. Конечно, тот и не думал тогда, что быстро заменит Гризингера. Так оно и вышло. Теперь он был всегда желанным участником раскопок, еще и потому, что одинаково хорошо владел арабским и итальянским языками.
Став профессором Фрайбургского университета в 1856 году, Биларц проявляет интерес к аутопсии мумий. Он подарил институту целую серию древнеегипетских черепов, а человечеству преподнес разгадку одной таинственной тропической болезни, которая выкашивала население Северной Африки в течение тысячелетий, – ее назвали в его честь биларцией. Болезнь вызывает гельминт шистосома хематодиум, обитающий в нильском иле: обызвествленные яйца этого червя были найдены в мумиях XX династии.
Летом 1858 года четверо европейских туристов умерли за несколько дней после посещения пирамиды Гизе и могил фараонов в Долине Царей. Никто не упомянул о проклятии фараонов, говорили лишь о тифе и чуме. Якобы проводилось вскрытие, показавшее, что причина – «восточная чума, пневмония, осложненная лихорадкой и тифом». Австралийский хирург А. Рейер и его соотечественник Г. Лаутнер установили позже, что результаты вскрытия изменены. Во всяком случае, двое опытных врачей затруднились поставить диагноз смертельной болезни четверых туристов…
В том же году Биларц стал вице-президентом Египетского общества и принял на себя сложные функции – ему предстояло показывать ценности именитым особам из Европы. В 1862 году он сопровождал в Луксор герцога Кобург-Готского Эрнста II. Если герцог больше хотел поохотиться, то жену манила гробница Долины Царей. На обратном пути в Каир Биларц почувствовал сильный жар. Профессор Лаутнер отвез его домой, где тот две недели провел в коматозном состоянии и умер, не приходя в сознание. Лаутнеру так и не удалось поставить диагноз. Официальная версия – тифозная лихорадка. Лаутнер возражал, утверждая, что его друг стал жертвой таинственной лихорадки. Но откуда она взялась, кто ее принес?








